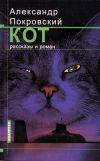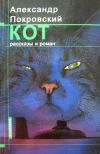Читать книгу "Бортовой журнал 4"
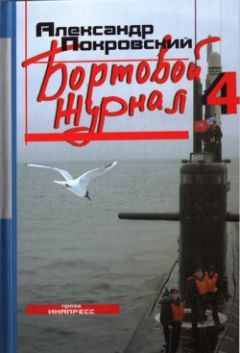
Автор книги: Александр Покровский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
И вот когда это произойдет, когда вы научитесь носить в кармане (в собственном, если у вас не выходит по трубе), вот тогда вас начнут понимать.
И у вас все будет в порядке – с культурой, камланием, образованием и всеми прочими атрибутами процветающей цивилизации».
* * *
Харизма говорит о наличии хорьков! Чем больше этих полезных среди нас животных, тем больше она – харизма. Хорьки – вы наше будущее! Потому что многие, не понимая происходящее, сами по себе все больше и больше напоминают этих славных животных.
Скоро не останется никого.
Никого скоро не будет. Не будет выдр и благородных оленей.
Никаких оленей не будет, даже самых что ни на есть хромых и неблагородных.
Будут одни хорьки. Там – хорьки, тут – хорьки.
* * *
Легко ли ввести себя в заблуждение? Легко. Только тем и занимаемся. То вводим, то выводим. И все так воздушно, непринужденно. Будто ни для чего другого ты и не был предназначен.
Желания-то всегда одни и те же. Так что в заблуждение мы вводим себя с превеликим удовольствием. Точно никогда до этого ничем иным и не занимались.
Мало того, хорошо нам там – в нашем густом неведении.
* * *
Люди увлечены экономикой. Каждая страна ищет в ней собственный путь.
Другими словами, все знают, что дважды два четыре, но всем хочется превратить это в шесть.
Вот и Николя Саркази приступил к выполнению своих предвыборных обещаний. Он обещал уменьшить налоговое бремя. Он уменьшит налоги, начисляемые на зарплаты, но увеличит НДС.
Саркази уверен в росте покупательной способности французов.
Может быть, денег у французов в карманах и станет от всего этого больше, но с увеличением НДС увеличится цена любых продуктов.
То есть французы заплатят за товары больше, а разница поступит в карман государству.
НДС – для тех, кто только вчера родился, – это налог на добавленную стоимость. Называется он так, а по сути – это налог с оборота.
Это самый главный и самый страшный для развивающейся промышленности налог.
Он гасит любой оборот.
В принципе введение НДС – это введение двойного налогообложения, ведь во всех странах уже есть налог с прибыли, а тут эту прибыль еще раз облагают налогом.
Любители экономики мне могут возразить: это возвратный налог, часть его возвращается.
Возвращается, но не сразу. Порой – через несколько месяцев. То есть все это время вы устраиваете государству беспроцентный кредит. Вы ссужаете его деньгами, которые оно не очень торопится вам вернуть.
Чем сложнее продукция, поставляемая на рынок, тем больший процент НДС в ней сидит и тем больше денег предоставлено государству в пользование. Если взять космический корабль, то за его производство НДС заплатили все, начиная с руды, а вернуть НДС полностью можно только после запуска ракеты на орбиту. Чувствуете, каков срок ссуды?
И потом, попробуйте предъявить его к оплате хотя бы в нашей стране – на вас немедленно свалится проверка по правильности начисления и оплаты НДС. Вы будете месяцами принимать у себя Налоговую инспекцию – вот это будет жизнь!
А уж найти нарушения в работе нашей бухгалтерии нашей же Налоговой инспекцией ничего не стоит. Вот и подумайте сначала: стоит ли.
Мелкие предприятия могут работать и без НДС, но тогда с ними очень неохотно будут работать те магазины, которые платят НДС, потому что полный НДС, в конце всех концов, платит покупатель, и в этой цепи он должен быть самым последним. То есть любое увеличение НДС – удар по покупателю.
Мне могут сказать, что НДС для предприятий налог не страшный при условии ритмичной работы самого предприятия. То есть когда все происходит вовремя: товар, деньги, товар, опять деньги. Ну где ж вы видели у нас ритмичную работу? У нас то пусто, то густо.
Некоторые скажут, что начал я с Саркази, а перешел на нас.
Я перешел для наглядности. В сущности, разницы нет – что мы, что французы.
Начал я с экономики. Прочтите еще раз фразу, прозвучавшую в самом начале: «Все знают, что дважды два четыре, но всем хочется превратить это в шесть».
Так вот, превратить «четыре» в «шесть» удается только государству и только тихо.
Через НДС.
* * *
Правда о войне – это правда о наших потерях, это правда о заградотрядах, о штрафбатах и о том, как многие отсидели в лагерях уже после войны.
Правда о войне – это поименный учет погибших.
Правда о войне – это рассекречивание архивов, которым скоро 70 лет.
Правда о войне – это секретные переговоры Сталина и Гитлера.
Правда о войне – это то, что нет пока никакой правды.
* * *
Мой метод всегда заключается в том, чтоб указать пытливому читателю различные пути исследования, по которым он может добраться до истоков затрагиваемых мною событий.
Когда-то я служил в Военно-морском флоте, и тогда я представлял себе дело так, что позади у меня мой народ, и я его защищаю, а впереди – мировой империализм, от которого я защищаю свой народ.
А тут все не так.
Тут на улицах во время митинга ходят центурионы в шлемах и с дубинками и обращены они лицами в сторону моего народа.
А вот за ними – пустота.
Нет там ничего.
За ними – зачищенное пространство. А на тщедушного мужичка набросилось человек шесть, и замолотили дубинами, и замолотили. Он упал и скрылся совсем под этим градом ударов.
А потом они еще одного ударили, и еще. Девушке досталось. Просто так.
Интересно, кого же они защищают?
И что они скажут на Страшном суде?
Его же пока никто не отменял. И он совершенно не завит от того, ходишь ты регулярно крестным ходом или просто стоишь в церкви, сжимая свечку, как стакан. Бухгалтерия по учету дел, добрых и не совсем, находится же не здесь. Она совершенно в другом месте, но за то, что учет там поставлен правильно, волноваться не приходится.
А вот мы бы руку на своих не подняли. Отсохла бы рука.
Причем своими мы считали всех в тогдашнем Союзе – русских, нерусских, любых.
У меня лучший друг – татарин, Бекмурзин Марат Рауфович. Он потомственный офицер, и все его предки всегда защищали эту землю. А сын его – тоже офицер, и сейчас защищает Россию.
А Рафик Фарзалиев – азербайджанец. Замечательный, между прочим, парень.
И на лодке все были как один человек – никогда никто никого не выделял, и мне было все равно, какая национальность, например, у Саши Каплунова. Все под одной смертью ходили.
А однажды к нам на лодку приехала комиссия из Москвы, и один ее член захотел со мной поговорить. Я тогда был секретарем партийной организации. Почти все офицеры – члены коммунистической партии, ну а я – секретарь.
Сели мы тогда в кают-компании друг напротив друга, а рядом – наш замполит, и тут он мне говорит: «Надо присмотреться к Каплунову!» – а я не понял сначала и переспросил: «Чего надо мне сделать?» – «К Каплунову надо присмотреться!» – «Не понял!» – «Ну, он же еврей!»
А-а… теперь понял. И до нас добрались.
«Саша Каплунов, – сказал я тогда, – мой товарищ и отличный специалист, и я к нему присматриваться не собираюсь!» – а зам мне подмигивает, мол, только молчи, соглашайся, а у меня уже забрало упало, понесло меня.
«А еще, – говорю я этому хлыщу московскому, – я не собираюсь присматриваться к Боре Радосавлевичу – он у нас серб, и к Диме Киневу – он болгарин, и к Жене Шимановичу – он классный врач, а его дед, очень, между прочим, подозрительной национальности, Севастополь защищал во время войны, когда его в кольцо взяли и из него всякие командиры и начальники побежали, бросив матросов немцам на съедение. И к Сереже Яценко я не буду присматриваться. Он с Западной Украины и отличный командир 8-го отсека. Еще вопросы есть?»
Больше вопросов не было, а с секретарей меня тогда сняли.
Так вот, возвращаясь к нашим центурионам, у них-то, интересно, как дела обстоят с присматриванием?
Все ли у них в порядке с этим важным вопросом?
Все это для прикрытия собственного воровства. Мол, мы же одной национальности. Вот если другая национальность у нас ворует, то это плохо, а если своя, то и ладно. Национализм прикрывает нищету одних и воровство других.
* * *
Мне кажется, что политики страдают запалом.
И здесь я имею в виду те свойства их души, когда бурление оной заканчивается лишь испусканием легкого ветра.
Неугасаемый жар потомственной гордости за наше Отечество – вот что вызвало к жизни нижние строки.
Ах какой у нас Невский проспект! Ах!
Все ли на нем блестит?
На нем блестит почти все.
Вот только дам в роскошных одеяниях вы на нем не увидите, и праздным гулянием тут давно не пахнет.
И свежими булочками он не благоухает в утренние часы.
И по утрам плотные содержатели всевозможных магазинов не пьют свой кофий, поглядывая на него сквозь стекла окон.
Нет уже тех содержателей, как нет и тех магазинов.
И гувернанток всех наций с чадами, что делали на него когда-то набег ровно в двенадцать часов пополудни, тоже теперь днем с огнем не отыщешь.
И никто не прохаживается неторопливо, держа под ручку чувствительнейших подруг.
Все куда-то бегут с лицами, вызывающими в памяти морды лошадей командарма Буденного.
Невский проспект нынче запружен автомобилями. Они ревут и несутся куда-то, от светофора к светофору по асфальту, более всего напоминающему то ли застывшие балтийские волны, то ли стиральную доску.
И если не идет дождь, то чад, смрад и пыль столбом.
На Невском проспекте особенная, очень въедливая пыль. От нее страдают глаза и першит в горле, но более всего ее нападение ощутимо в те дни, когда тротуары посыпали ядовитой солью в надежде на скорый снег, а он не выпал, но зато ударил мороз, который подсушил эту соль; а потом люди своими ногами равномерно разнесли ее по всей поверхности, а потом и ветром – этим самым усердным питерским дворником – это добро взметнулось к чертовой матери ввысь, чтобы пропитать потом все человеческое существование.
На Невском проспекте теперь что-то рушится или что-то возводится, прикрываемое до времени рекламными щитами, обещающими и дальше лелеять не нами воздвигнутую красоту.
Сохранится ли Невский проспект?
Будет ли он хотя бы когда-то, в невообразимом далеко, свидетельством сытости и довольства?
Будет ли так, что только заглянул ты во двор, чуть только в глубь от этой дивной артерии, и сейчас же увидел там премиленький дворик с крыльцами-перильцами, с клумбами и витражами, и захотелось тебе немедленно пройти все дальше и дальше, все глубже и глубже, в другой, следующий двор, только ради того, чтобы отметить непохожесть его на двор предыдущий; и наполнился ты от всего этого очарования жизнью и нежными воздыханиями, на манер тех, что хорошо было бы перекрыть сверху дворы-колодцы стеклянными крышами и сделать их, таким образом, сухими и уютными, а на крышах расположить специальные зеркала, что, уловив солнечный свет, немедленно отправляют его в самые темные уголки?
Будет ли так?
А кто его знает.
Бог даст.
* * *
Безо всякого напряжения я приму сердечное участие в сохранении человечества как вида. Я охотно подвигну себя на это, отложив в сторону текущие дела. Об одном прошу спасаемых мною: не открывайте ртов.
От этого страдает утренняя свежесть.
* * *
Военно-морской флот – это капиталистическое здоровье.
Есть капитализм, есть здоровье, и есть флот.
При социализме флот – это вечная погоня за здоровьем.
При перестройке – нет здоровья и флота нет.
А теперь спроси меня: что сейчас такое флот, и я отвечу: «А хрен его знает!» – адмиралы думают о нефти, и на причалах военных частные танкеры в настоящий миг теснятся.
Но не все так печально.
Вот и авианосцы хотят строить.
Правда, их только хотят строить, да и то не сразу, о чем и всякие заявления начальники делают, чем очень будоражат умы.
Говорят даже об атомных авианосцах, что само по себе приятно.
Действительно, ну зачем нам мазутный авианосец?
Атомный – вот это да! А некоторые адмиралы, видимо, от радости даже обмолвились: таким-де образом мы и защитим свои северные нефтяные месторождения (это они насчет нефти все не могут никак успокоиться). Здорово.
Только, как мне думается, авианосцы не для того предназначены, не ледоколы, чай.
И потом, чтоб нефть на севере защитить, не обязательно иметь такие корабли – платформу поставь в море, чтоб с нее самолеты взлетали, и всего-то делов.
Словом, большие у меня на сей предмет сомнения.
Впрочем, имеются сомнения у меня и по поводу самого строительства в России кораблей такого класса.
Вполне возможно, что все это только декларация, это только пожелания, размышления, мечты, мысли вслух.
На самом деле, как мне кажется, никто ничего строить не собирается.
Это ж только планируется, и то через 20–30 лет.
За это время или хан помрет, или ишак сдохнет.
Это как у Моллы Насреддина – деньги в дом.
Ну будет там что-то на заводах идти своим чередом, не теряя навык.
Плохо это или хорошо?
Да все хорошо, что не удар в темечко.
Может, к этому времени и слесари хорошие у нас появятся, и фрезеровщики.
Пока самому младшенькому из них на наших заводах 75 лет.
А через 20 лет ему уже 95 стукнет. Рабочих у нас нет. Вот ведь в чем беда.
Строить корабли почти некому. И узбеки нам в этом не помогут.
Не хватает людей, способных выточить гайку.
Вернее так: они были когда-то, но потом поумирали почти все.
А новых нет. Не выучили.
Поэтому весь вопрос в комплектующих. Кто их делать будет?
Пока все, что делается, – это не серия. Это штучный товар, выпиленный из того, что есть под руками, народными умельцами весьма преклонного возраста.
У нас же теперь не страна мастеров. У нас страна менеджеров.
Вот продать чего-то – это запросто, а создать – это, ребята, очень большие страдания.
Это и раньше было делом нелегким, а теперь – ну просто беда.
Дорогая это штука – флот.
Но без флота к тебе относятся так, как ты того и заслуживаешь: как к затерянной в непроходимой тайге среднеафриканской деревне.
Поэтому пусть хоть попытаются что-то построить.
Нам теперь все в радость.
* * *
Как неистребимый философ – теоретик, систематик и состязатель в гипотезах – я стоял вечера в Комарово на кладбище поэтов возле могильной плиты, придавившей прах любимой тети поэта Гринштейна, одичавшей, судя по всему, в конце жизненного пути, а потому и упокоившейся среди всех этих птиц небесных, и думал о том, что давно не получал от вас весточек.
Как вы там все?
* * *
Все чувства мои обострились и утончились.
Я, похоже, единственный в этом прекрасном городе, кто сливает воду в унитаз после посещения общественного туалета.
Остальные, судя по всему, быстренько забегают, торопливо залезают в штаны, достают оттуда нечто верткое, а после всех своих дел всем своим телом рвутся в двери, калеча шпингалеты.
Брезгают. Никак не могут себя пересилить и нажать на такую пипочку, что на унитазике сверху, после чего и возникнет бурный поток. Безотцовщина.
Я считаю, что это все от безотцовщины. Не было у них отцов.
Это же отцы учат мальчиков тому, как надо в туалете себя вести, как надо неторопливо и благородно разъять на брюках то, что называется ширинкой, достать оттуда свой, в общем-то, неужасного вида детородный орган, который предстоит придерживать одной рукой при мочеиспускании, не опираясь при этом другой рукой о стену.
Потом (внимательно следим за мыслью) путем несложных встряхиваний достигаем того, что перестает с него капать и. (этого не делает никто) промокаем кончик оторванным загодя кусочком туалетной бумаги, а затем уже, возвратив свой костюм и орган в исходное положение, аккуратно нажимаем на пипочку на унитазе, сливая воду.
После всего этого приличным будет вымыть руки, после чего их обычно сушат, воспользовавшись или автосушилкой, или бумажным полотенцем. Несложно, правда?
Если же приходит желание облегчить себя более замысловатым образом, не стоит влезать на унитаз ногами. Изолировать себя, нижнего, от сиденья можно с помощью все той же туалетной бумаги, разложенной по его периметру. Промыть унитаз в этом конкретном моменте придется несколько раз, добиваясь прозрачности воды в чаше.
В том случае, когда некоторые следы вашей уникальности и после этого не исчезают со стенок, можно воспользоваться специальным ершиком, после чего хорошо бы воду еще раз слить.
Сделали? А теперь следует вымыть руки, размышляя о том, что ты совершил для тех, кто придет после тебя, все, что смог.
Ребята, это же ваш город!
Это город не только великих революций, во время которых не работает городская канализация.
В нем все больше и больше становится того, что называется туалетами.
Каждое кафе торопится обзавестись.
Все меньше становится неосвещенных подворотен, дворов и открытых подвалов.
А двери подъездов теперь спешат украсить себя кодовыми замками, подъезды – консьержками, а лифты теперь все чаще находятся рядом с теми же самыми консьержками, внимательно следящими за каждым встречным.
Я вам должен сообщить, что даже поэты, бродящие тут в основном по ночам, все реже посещают кусты индийской сирени.
А что делать? На этот город со всех сторон наступает культура. Она просто стремится сюда. Ее не остановить. Именно по этой причине он и стал недавно носить имя «культурной столицы».
Так что возникает положение. Оно теперь есть и у города, и у всех его жителей.
Пора соответствовать.
А недавно в одном туалете было вывешено такое объявление:
«Вне зависимости от результата слейте воду.
Если же результат превысил ваши ожидания, воспользуйтесь ершиком. Уборщица».
Видите, что происходит с уборщицами?
* * *
В селе Лезье-Сологубовка Ленинградской области есть кладбище немецких солдат.
Их там сорок тысяч лежат. Ухаживает за кладбищем православный священник.
Это правильно. Прах солдат должен быть захоронен.
Человеческие кости не должны лежать где попало.
Сколько еще их, и наших, и не наших, лежат где придется.
Солдат, выполняя приказ, на смерть идет. Без этого армии нет.
Зверства на войне были с обеих сторон. Об этом надо помнить всегда.
Но помнить без ненависти. Ненависть выжигает человека.
Она в атаке хороша, а в мирные дни прилична скорбь.
У меня воевали и отец, и дед. Когда я спрашивал своего отца о войне, он говорил: «Война – это грязь», – и больше ничего.
А на кладбище трава должна расти. Плотный зеленый газон.
Однажды я встречался с одним пожилым немцем в баре. Он говорил по-русски. Что-то он мне начал рассказывать, сейчас не помню, а я его перебил, сказал: «Прощаю Сталинград!» – и немец замолчал. Так и не проронил потом ни слова.
Глупый я тогда был, так что сейчас прошу у того немца прощение за ту свою грубость.
При чем здесь Сталинград? Человеческая психика не рассчитана на ужас, всякие бывают выверты.
Люди звереют, у них внутри все переворачивается.
А кто остается человеком на войне – тому низкий поклон.
Это великие люди. И все равно – немцы они или русские.
Многие же с тем багажом ненависти на всю жизнь остались. Такие люди-калеки.
На войне всякое бывает. И предатели на войне были.
Своих же выдавали, предавали, расстреливали.
Палачи. У них руки по локоть в крови. Вдохновенные убийцы.
Это чудовища. Война же рождает не только героев.
К солдатам они не относятся. Хорошо бы их не хоронить рядом.
Я встречался в Германии с Клаусом Фрицше. Он попал в плен в самом начале войны, а потом написал об этом книгу. Он до сих пор хорошо говорит по-русски. Он благодарен русским, спасавшим его в плену.
Люди людьми должны оставаться, несмотря ни на что.
Вот и мы научились хоронить своих врагов. Похороны же врагов прежде всего имеют отношение к собственной доблести. Молодец тот священник.
* * *
Я это не понимаю! Что это? Как это? Почему это?
Только саммит провели по энергобезопасности, с Московского проспекта всех вымели и люки канализационные по дороге заварили, а потом тетушку Ангелу вместе со всей остальной сворой долго уговаривали и везде возили, показывая, как у нас статуи блестят. И что теперь? Все коту в одно место? Потому что нам и рыбку хочется съесть, и на хвост не сесть?
А хвост, кстати, в последнее время ведет себя совершенно непотребно!
Это как у дерева и мха. Симбиоз. Все питают друг друга, но потом вдруг мох говорит дереву, что если и дальше так пойдет, то он дереву все соки, блин, перекроет. А мы-то почти в ВТО. Сами напросились: «Можно между вашими задницами и наша втиснется?» – на что нам: «Можно!» – и мы втиснулись, а теперь прилетает кол размером с Буратино, который долго, летая, раздумывает, а потом с очень сложным пируэтом он как тюкает нам в нашу только что втиснувшуюся задницу!
А эти ведут переговоры с теми почти девять часов. Вот это работа! Вот это да!
Я представляю себе, как если б я пришел к своему старпому Гаврилову и сказал бы ему, что у меня не получается нефть поставить в Германию, а пока я это говорил бы, старпом наливался бы дурной кровью, раздувался бы, как жаба, а потом бы как рявкнул: «Чего ты не можешь? Куда ты не можешь? Как ты не можешь? Почему ты яйца до сих пор жевал? Не можешь, иди на… (один мужской орган)! Кто там мешает? Что вы все время слюну сглатываете? Несете тут какую-то... (ерунду)! Бациллы вам на... (один мужской орган) мешают? Размножились они там? Им там жить позволили, так они вгрызаться начали? Так, что ли? Так? Смойте их себе! Мазью помажьте, если они человеческую речь не понимают, и чтоб завтра же они все там попередохли! б... (женщина, обманщица своего мужа)!
Эта ваша немецкая тетушка сейчас к Чавесу отправится! И он ей привезет! Нефть (куэфть)!
Они там всей Венесуэлой построятся в колонну по одному и принесут ей во рту через море, б… (женщина, обманщица своего мужа)!
Что вы тут трясетесь! Что вы мне по телевизору показываете на всю страну (куйню куйневую)! Что, б... (женщина, обманщица своего мужа), вам всем делать нечего? Не можете делать, сосите... (один мужской орган)! Понятно я выражаюсь? Или дополнительно объяснить, как надо себя вести в светлое Христово Воскресение! И я бы тут же все понял. Я бы отправился и удовлетворил бы тетушку Ангелу по самое это самое на несколько веков вперед!
И не только нефтью, б… (женщина, обманщица своего мужа)!
* * *
Чем я занят?
Я занят жизнью – беготней и стенаньями. Кроме того, я должен:
размышлять, собирая сведения, анекдоты и слухи, вплетать в них свои собственные истории, пестовать предания, отсеивать чепуху,
наносить визиты важным особам, отбиваться от особ неважных,
а еще – писать панегирики, пасквили и обследовать всякую всячину – документы, рукописи, письма, свитки, изучение которых поминутно требует справедливость.
* * *
Я хотел бы поговорить о соображениях частных и общественных.
Вот берется какое-то лицо, довольно узнаваемое, и у него – у лица – спрашивают: «Как вы относитесь к существующему положению? Какие у вас на сей счет соображения?» – и оно, то лицо, сейчас же раздувается от собственной значимости и начинает говорить: «Как ни желательна существующая форма управления для общественных объединений большого размера, она имеет множество всяких неудобств для объединений бесконечно малых, что служит, по моим наблюдениям, лишь источником беспорядка и неприятностей!» – «А, – говорят ему, – на ваш пронзительный взгляд, выродилась ли власть?» – «Власть? – оживляется он. – Конечно же, выродилась! Вот она выродилась и вот!» – после этих слов лицо утомляется и замирает.
Потом оно находит слово «демократия» и слово «свобода».
Побаловавшись ими слегка, оно откладывает их, как старого плюшевого мишку, лишенного к тому времени одного уха, в сторону и приступает к обеду.
Обед всегда становится на пути свободы и демократии.
* * *
Чиновники отличаются от других людей. Чем они отличаются? Всем. Всей своей внутренностью.
Мне даже кажется, что есть просто гомо сапиенс, а есть гомо чиновникус.
Тут рассказали одну историю. Рядом с одним небольшим городком в самой середине России растет реликтовый лес. Этот лес – настоящее чудо, охраняемое до недавнего времени государством.
Но вот пришло другое время, и местные чиновники решили продать лес на вырубку, а на освобожденной территории построить что-то вроде хранилища, может быть, даже отходов.
И жители городка встали на дыбы.
Их борьба длилась очень долго, то утихая, то разгораясь вновь, но вот в один прекрасный день рядом с опушкой леса появилась дереводробильная техника.
Что-то чиновники сказали людям в тот самый момент, когда они окружили эту чудо-технику.
В ту же ночь вся техника сгорела дотла, и тло то было такого свойства, что всем стало ясно – сработали профессионалы.
Поджигателей скоро нашли. Ими оказались те, кто прошел все горячие точки.
Был суд, но жители города ясно дали понять, что если там чего, то и всем станет очень худо.
Народ получил по три года условно, и теперь лес тот никто не трогает.
Вот так в одном маленьком городе сильно пострадало наше чиновничество.
А в Петербурге, на Московском проспекте, рядом со станцией «Московские ворота», там, где есть пешеходный переход, кто-то видел такую сцену: весь проспект расчистили для проезда высокого начальства, дорога опустела, а на пешеходном переходе скопилась толпа.
Толпа терпеливо ждала, пока проедут благодетели.
Ждать пришлось долго – почти двадцать минут. Толпа увеличивалась с каждым мгновением.
Наконец кто-то вступил на проезжую часть, и, как это бывает, толпа хлынула – не остановить.
Люди текли и текли через дорогу, но тут подскочила машина автоинспекции. Она направилась прямо в толпу, уперлась в нее, и из опущенного стекла высунулась раскрасневшаяся физиономия блюстителя порядка: «Куда поперли, козлы?» – сказала та физиономия в сердцах.
«Сам ты козел!» – послышалось в ответ.
Кто первым ударил кулаком по капоту машины, неизвестно, но сейчас же на машину обрушился град ударов. Она сдала назад, и люди прошли.
Вы знаете, иногда достаточно одного только слова, и все различия между гомо сапиенс и гомо чиновникус вырвутся наружу.
* * *
Мне написали, что украли у меня слово «поелику». И еще народу не понравилось, что я о Рюрике выразился слишком прямолинейно.
Автор этого письма сообщил мне, что просмотрел фильм о раскопках на Готланде. Там показывали раскопки могил знатных людей. «…Они были покрыты камнями с рунами. Модно сейчас прослеживать по ДНК родственников до самой Люси. Так вот, взяли пробу со среза зубов (там лучше всего ДНК сохраняется) и выяснили, что почти у всех родственники из Монголии или Азии. Археологи в шоке. Хотя такие авторы, как Демин, Петухов, давно предсказывают открытие расселения руссов по Европе вплоть до Иберии и Британии. А автор Драгункин, в свою очередь, местами очень убедительно доказывает первичность русского языка по отношению к европейским и некоторым азиатским («5 сенсаций. В начале было слово, и слово было русским»).
А грузины считают, что все сначала были грузинами, а армяне – армянами.
Да все вообще вышли с Тибета (есть и такая теория, и она тоже медицинская), и у всех одна мать, Ева (те же медики установили, что мать-то у всех народов была одна).
Археологи всегда в шоке, а историки всегда пишут на заказ. А слово «руссы», встречающееся в арабских летописях, повествующих о событиях IX века, появилось только в X веке. То есть только в X веке арабы написали о том, что же происходило в IX на территории современного Новгорода.
Там же пишется о различиях между руссами, или россами, и славянами.
Так что это они потом перемешались.
Кстати, когда снимали фильм о Пугачевском бунте, то настоящие русские лица нашли только в Польше. Доказывать первичность русского языка по отношению ко всем остальным языкам можно, конечно, но дело это бесполезное. Слов в языке в том самом начале, когда было только слово, подозреваю, было немного.
А торговля уже велась. И торговцы говорили на своем языке. Вот из соседнего языка слова и брали.
Чтоб друг друга понимать.
Современный русский язык очень молод. И до него было еще несколько тоже русских языков.
И они сильно различаются. Вот старый английский новому англичанину еще понять можно, а вот язык времен Рюрика современному русскому человеку понять почти невозможно. Ну? И что будем брать за эталон русскости?
А все, что я написал о Рюрике, было изложено в английском исследовании эпохи викингов. И составляли это исследование на основании археологических раскопок.
Англичанам верю больше, потому что их демократии более 700 лет. И законы они если и принимают, то не отменяют через год. И задним числом законы не вводят в силу, оттого и законопослушны они и не с таким удовольствием подтасовывают факты. Первичность русского языка по отношению к другим языкам можно, конечно, доказывать. И можно делать это очень убедительно. Хорошо бы при этом до расовой чистоты не достучаться.
А слово «поелику» не мое. Оно из словаря Даля. Просто нравится оно мне.
Означает оно то же самое, что и «поколику», то есть «до коли» (до того, что колет, то есть до боли) или «доколе» – насколько, то есть до какой меры. Так что «поелику уж?» – это по-нашему «сколько ж можно?»
А великие открытия на манер того, что все начиналось в этом мире с русских, еще впереди.
Почему я так думаю? «Понеже пожвакать оным дюже хотца» (так как жрать им очень хочется).
* * *
Мне тут рассказали одну историю.
Случилось это где-то в 60-е годы прошлого столетия на одной украинской ферме, неподалеку от Киева. Работал на этой ферме племенной бык Сурко. Работал понятно кем.
Тогда быки со своими прямыми обязанностями справлялись в целом самостоятельно, но поскольку объемы работ были очень велики, а сроки ограничены, то требовалась им в этом деле помощь.
Для оказания помощи к этому быку давным-давно приставили некого Кузьмича. Помогал он очень. Отличительной и нехарактерной для того времени чертой Кузьмича была длинная борода, которой, впрочем, он безмерно гордился. В общем, работа шла слаженно и методично.
Так вот.
Настало-таки время Кузьмичу уходить со службы. Дружно проводили. А на смену прислали совершенно неопытного молодого ветеринара, только что из-за парты. То есть некоторым нюансам работы с быками, прямо скажем, он не обучался.
Жизнь на ферме идет своим чередом. К Сурко привели корову. А как ему помогать?! Корова мычит, бык ревет, а все чешут репы… М-да. Стали звать Кузьмича, мол, приди, покажи молодому специалисту, что да как делается.
Чего ж не показать? Пришел Кузьмич, качаясь. Надо полагать, уход отмечался им уже не первый день!
Начался процесс. Сурко громоздится на корову, Кузьмич берет хозяйство быка и ориентирует его в нужном направлении. Но как-то так нечаянно его борода, зацепившись понятно за что, устремляется в аналогичном направлении с хозяйством и с первых же движений начинает активно участвовать в довольно длительном процессе репродукции… И участвовала она в нем до самого конца.
Надо понимать, что голова Кузьмича при этом вынужденно двигается сообразно фрикциям Сурко. Вжжжик-вжжжик, вжжжик-вжжжик!
Когда бычий производитель с чувством выполненного перед Родиной долга отвалил от коровы, Кузьмичу полегчало. Ему даже стало очень хорошо. Изможденный, он обхватил обеими руками свою героическую бороду, рывком отправил ее вниз и выдохнул: «Ну и наттрахались мы с тобой сегодня, Сурко!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!