Текст книги "Надпись"
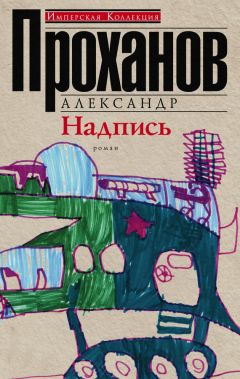
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Он помнил, как она впервые рассказала ему притчу. Как испугался он ее всеведения, печального знания, какое таилось в ней, делало мнимым и временным ее веселую энергию, неутомимую бодрость, ее прелесть и красоту. Эта печаль была и о нем. Обрекала его творческую неукротимую страсть, честолюбивый азарт, неутолимое познание. Неизбежно они обнаружат тщету, незавершенный поиск, разочарование и бессилие. Эта печаль была и о детях, чья нежность и чудная сверкающая краса в конце концов неизбежно померкнут, приблизятся к роковому пределу и канут, превратившись в комочки тусклого праха. Это горькое верование, безнадежное, как античный миф о смерти, говорило, что силы ее не бесконечны, круг, который она очертила, слаб и хрупок, готов разомкнуться, пустить в их драгоценный наивный мир свору оскаленных неистовых чудищ, и она нуждается в его поддержке и помощи.
– А я тебе поведаю другую притчу, – сказал он, осторожно накладывая руку ей на глаза, чувствуя, как щекотят ладонь ее ресницы, словно пойманная бесшумная бабочка. – Когда мы купили эту избу, я впервые сюда приехал, переночевал в нетопленом заиндевелом срубе, едва не угорел от стариковской дымящей печурки, а утром вышел на снег и ахнул. Солнечная белизна до горизонта, в бочке блестящий лед, береза, огромная, белая, с прозрачной розовой кроной, сквозь которую лазурь, морозная свежесть, мерцающие снежинки. Я восхитился: это моя береза, я ее хозяин, она принадлежит мне вместе с чудесной синевой, мерцающим инеем, летящей в вышине хрупкой длиннохвостой сорокой. Это обладание березой было так чудесно, такое во мне было счастливое могущество, что я подошел, обнял ее и поцеловал холодную голубоватую кору. Но те годы, что мы живем здесь, когда родились и растут наши дети, и мы ставили их колыбельки под ее зеленые ветви, и бабушка моя сидела под березой в креслице и дремала со своей бесконечной думой, и наши ночные объятия и ласки, за которыми сквозь оконце наблюдала береза, и мои зимние сидения в избе перед горящей печкой, с рассыпанными по столу листами бумаги, когда я выходил из жаркого воздуха в морозную ночь, и в березе, как в люстре, текли и переливались звезды, колыхался серебряный ковш, крохотная драгоценная звездочка перетекала через тонкую веточку, я вдруг понял, что не береза моя, а я березин. Я принадлежу ей, нахожусь в ее волшебной власти. Она была здесь до меня и будет после меня. Приняла меня, окружила своими соками, своей листвой, звездами, своей бессловесной жизнью, и когда я исчезну, то войду в нее, облачусь ее берестой, стану капелькой ее бегущего сладкого сока, ее клейким листочком, бриллиантовой звездочкой, перетекающей через ломкую ветку.
Наша русская природа примет нас, когда мы утратим временное человеческое обличье, превратит нас в дождь, в одуванчик, в малую льдинку.
Она закрыла глаза, и он больше не чувствовал ладонью трепет ее ресниц. Замерла, словно проникалась услышанным. Медленно, едва касаясь, он повел ладонью над ее лицом. Как слепец, легчайшими прикосновениями угадывал ее разлетающиеся шелковистые брови. Широкий, с кустистыми волосами лоб. Утонченную длинную переносицу с тонкими, чуть дышащими ноздрями. Выпуклые гладкие скулы, от которых исходил едва ощутимый жар. Мягкие пухлые губы, чей рисунок повторял прожилками нежный отпечаток листка. Округлый, с крохотной лункой, подбородок, под которым начиналась теплая длинная шея. Его ладонь была зрячей. Отражала ее лицо. Несла в себе таинственную фотографию, созданную теплым и прохладным излучением ее неподвижного чуткого лика.
Его ладонь скользнула вдоль шеи, где бился пугливый родничок, выталкивая беззвучные фонтанчики тепла. Огладила круглое плечо с шелковой свободной бретелькой, приспустив ее, пробираясь в теплую мягкую глубину, где покоились располневшие после рождения детей, тяжелые, чуть влажные груди. Ее живот под рубахой слабо вздымался, и ладонь ощутила прелестную выемку пупка, жесткий плотный треугольник лобка, источавший жар, который сменился прохладной чистотой ее округлых глазированных бедер. Колени ее были сжаты, и он осторожно проник между ними шевелящимися пальцами. Она была неподвижна, безропотна, покорна ему, подвластна его прикосновениям, и он каждый раз изумлялся ее доступности, чудесной пленительной красоте ее невидимого во тьме, только ему одному принадлежащего тела.
Оконце мерцало ночным таинственным светом, слабо озаряя белые подрамники с фантастическими городами и космическими пернатыми существами. Близкая береза придвинулась к стеклу, и казалось, в глубине недвижных ветвей кто-то замер, молча притаился, прижал к бокам длинные крылья, смотрит на них сквозь оконце немигающими глазами.
Он целовал ее колени, и она, как всегда, сначала их пугливо сдавила, а потом, уступая, раздвинула. Целовал дышащий живот, проникая языком в сладостную лунку пупка, и она, как всегда, мягко, бесшумно вздрогнула. Ласкал губами ее груди, чувствуя, как они тяжелеют, наливаются силой, теплеют, бурно вздымаются, и соски, сжатые его ртом, восхитительно твердеют, расширяя губы.
Он властвовал над ней. Она принадлежала ему. Он будил поцелуями ее дремлющее тело, которое начинало просыпаться в каждой своей клеточке, волновалось, жарко дышало. А он начинал исчезать, лишался своего превосходства, терял свои очертания. Она увеличивалась, росла, становилась огромней его. Расступалась, погружала его в свою темную жаркую глубь, в душную черно-красную бездну. Смыкалась над ним. Он был окружен ею, был в ней. Покидал этот мир, счастливо и страстно стремился туда, где кончалось сознание, ощущение своей отдельности, пропадали все мысли и чувства, кроме жадного, страстного, слепого стремления в раскаленную влекущую тьму. И когда в своем погружении им был достигнут предел, за которым обрывалось бытие и приблизилось желанное запредельное чудо, оконце в светелке бесшумно и ослепительно лопнуло. Сверкающий бурный блеск проник на чердак под крышу, накрыл их тугими бьющими крылами, словно серебряный петух, сорвавшись с березы, влетел в светелку, яростно бил и клевал, а потом отпрянул, разметав по углам завитки рассыпанных перьев.
– Боже мой, – чуть слышно произнесла она.
Он лежал бездыханный. Без лица, без мыслей, без имени. Чистый и белый, как пустое зимнее поле.
Жена ушла, утомленно спускаясь вниз по дрожащей лестнице. Скрипнула дверь в избу. И он остался один на дощатом ложе, где сенник еще слабо звенел, храня длинную теплую выемку от ее тела.
Это были удивительные, странные мгновения между явью и сном. В его безвольный, опустошенный разум, как в расплесканный до дна водоем, начинали стекаться разбрызганные образы, просачиваться струйки чувств, падать тихие капли видений, некоторые из которых не принадлежали его опыту, были не его, а из какой-то иной, с ним не связанной жизни. Словно потеряв хозяина, витали в пространстве, не имели вместилища и, воспользовавшись мгновенной пустотой его сознания, торопливо в него залетали. Это могли быть образы из чьей-то умершей памяти, не нашедшие места в бестелесном сонмище окружавшей землю ноосферы. Или прорвавшееся в его жизнь, мимолетное, как элементарная частица, послание умершего предка, записанное на спираль генетического кода, притаившееся в одной из бесчисленных клеточек мозга. Или разум, лишенный изнурительной воли, выпавший из трехмерного плена, из неумолимо в одну сторону направленного времени, вдруг начинал существовать по иным законам, провидел будущее, забегал вперед, оказываясь в том мгновении, которое еще предстояло прожить.
Он засыпал, удерживая последние секунды исчезающей яви, среди которой возникла серая, незавершенная дуга моста над огромным разливом реки. Зонтичный сочный цветок с зеленым слитком жука и плывущая, в солнце, корова. Стремжинский, беззвучно шевелящий выпуклыми губами, ударяющий пером в черно-белый газетный лист. Какие-то туманные, в песчаной горе, великаны, один подле другого, влиявшие на его жизнь и судьбу. Великаны вдруг выплыли из рыжего тумана, обрели свою громадную плоть, резные огромные пальцы, пустые невидящие глаза, и он, прижавшись к иллюминатору, в разящем блеске винтов мчался в афганском ущелье Бамиан мимо плоских ноздрей громадной буддийской статуи, видел ее раздвинутый в улыбке рот, горчичного цвета лоб. От великаньего лица, навстречу вертолету ударила струя пулемета, прорезая обшивку, и он ощутил жуткую во сне достоверность падения.
Но уже спал, уже клубились в нем, подобно дыму, неразличимые видения, бесконечные завихрения, таинственные облака, словно глаза, повернутые вовнутрь, начинали видеть брожение распавшихся миров, недоступных зрячему разуму.
Проснулся от грома и ужаса. Весь чердак был в жутком багровом свете. Оконце пламенело и плавилось. Огненно-красное, раскаленное, в страшном грохоте, пульсировало небо. За лесами, где была Москва, рвались ядерные смертоносные взрывы. Волны ядовитого пламени летели из-за горизонта, накрывая избу. И жуткая безнадежная мысль – кинуться вниз, схватить детей, мчаться куда-нибудь прочь от истребляющего огня.
Очнулся. Небо было в ранней заре. Над озером клубился летучий розовый пар. По деревенской улице мимо окон шумно катил самоходный комбайн – косить соседнее поле. Коробейников стоял с колотящимся сердцем. Смотрел, как в тумане, розовая на заре, летит чайка.
Глава 5
Когда на время прерывались яростные странствия, огромные, как вдох и выдох, командировки, и Коробейников усаживался в маленьком домашнем кабинете над листами бумаги, стрекоча портативной машинкой «Рейнметалл», своей эстетикой напоминавшей наивные изделия начала века, и весь день проходил в писании, до вечерних сумерек, до сладкого изнеможения, – тогда он спускался к своему красному «москвичу», заводил привередливый, непослушный механизм и катил из Текстильщиков, через всю Москву, в центр, на улицу Герцена, в Дом литераторов. Неповторимое московское место, столь не похожее на стерильно-строгие, чопорно-молчаливые министерства, научные институты, засекреченные заводы и гарнизоны, из которых состоял огромный каменный город с рубиновыми звездами в синем вечернем небе. Дом литераторов был ковчег, куда во время потопа сбежалась и слетелась хрупкая, беспомощная жизнь, уцелевшая от вселенского наводнения. Обсохла, обжилась, распустила перышки, вылизала нарядную шерстку, раскрыла разноцветные бутоны и почки и зажила так, как если бы не бушевала вокруг громадная тяжелая вода, в которой утонули целые поколения и царства.
Было весело и тревожно оставить машину на мокром от дождя асфальте недалеко от входа и войти в святилище, в его теплый, высокий, мягко освещенный вестибюль, где уже с порога тебя ожидали желанные и опасные встречи. С сотоварищами и соперниками, именитыми высокомерными литераторами и шумной бестолковой богемой, с властителями дум и безобидными пропойцами и неудачниками. Ты оказывался в едкой, нетерпеливой, вероломной среде, капризно-непостоянной, льстиво-велеречивой, скандальной, глубокомысленной, печальной, помышлявшей о славе и деньгах, о красоте и глубинном смысле, скрытом среди смертей и рождений. Среде, к которой принадлежал и ты сам, не любя ее и страшась, но почитая за единственно возможную для себя, незаменимую, где ты будешь понят и принят во дни своего успеха и в горькие, неизбежные часы поражения.
У входа, охраняя высокие тяжелые двери, сидели привратницы, костлявые, с тяжелыми лошадиными головами, выпуклыми мослами, похожие на старых породистых кляч в темных ветхих попонах. Сурово и нелюбезно осматривали всех входящих, наводя трепет на молодых визитеров, не имевших писательских билетов. Они были жрицы при входе в святилище, и Коробейников, уже завсегдатай Дома, испытал неисчезающее благоговение и робость при виде их выцветших, окостенелых лиц.
Сразу за этими грифонами в юбках начинался гардероб, где служитель, такой же мемориальный, как и само святилище, снисходительно, с легким презрением, принимал влажный плащ или зонтик, вешая его либо на общие крюки, среди прочих одежд, если ты не слишком именит и желанен и не окормляешь гардеробщика щедрыми чаевыми, либо помещал его отдельно, на вешалку для избранных, где могло уже висеть малиновое пальто поэтической знаменитости, ужинавшей в ресторане с очередной красавицей, или мятый берет славного писателя-деревенщика, выступавшего на творческом вечере, или остроконечный зонт модного беллетриста, заглянувшего выпить рюмочку водки в уютном баре. Коробейников, принимая номерок, не без удовольствия заметил, что его плащ оказался рядом с роскошным макинтошем, какой носил в последнее время баловень шумных поэтических празднеств.
В вестибюле, где уже сновало множество народу, он обменялся несколькими молниеносными взглядами с посетителями, знакомыми и незнакомыми, по-звериному чуткими, любопытными, ищущими среди входивших узнаваемое лицо, к которому можно устремиться с громким, напоказ, возгласом, и тут же на глазах у всех старомодно, по-московски расцеловаться. Или же, напротив, скользнуть в сторону, скрыться за колонну, если лицо по какой-либо причине было неприятным или опасным.
При входе в холл на высоком штативе был выставлен некролог, оповещавший о кончине очередного писателя, на сей раз некоего Гринфельда, чье выведенное черным имя ничего не говорило Коробейникову. Принадлежало к огромному множеству литераторов, авторов каких-нибудь военных стихотворений о вождях и героях или критических статей, порицавших Ахматову и Зощенко. Эти небольшие многочисленные литераторы населяли целый район Москвы у метро «Аэропорт», как ласточки-береговушки. Дружили, ссорились, сплетничали, вылетали на прогулку в соседний скверик и время от времени умирали, оставляя уютные квартирки своей многочисленной еврейской родне. Некролог в Доме литераторов был последней страничкой в литературной судьбе писателя Гринфельда. Перед закрытой дверью, ведущей в малый зал, лежала оброненная еловая веточка, что означало приготовление к завтрашней панихиде, для которой в сумерках затворенного зала были сдвинуты в сторону кресла, выставлен длинный просторный стол, стоял обтянутый кумачом, покуда пустой, пахнущий сырой древесиной гроб. Коробейников мысленно и без всякого сожаления представил в красном гробу сердитое желтоватое личико с крупным носом и фиолетовыми склеенными губами. Спустился в туалет, желая ополоснуть перед ужином руки.
Там он застал комичную и весьма характерную сцену. Два изрядно подвыпивших поэта, обычно являвшихся в Дом литераторов задолго до вечерних сумерек и набиравших в буфете водки, дешевых бутербродов с колбасой и селедкой, теперь, в туалете, среди несвежего кафеля и тусклых зеркал, выясняли, кто из них «последний поэт деревни».
– Ты – графоман и воришка чужих метафор и образов!.. Спер у меня строки: «Средь широких хлебов затерялась деревня…» Я тебе по пьянке читаю гениальные стихи, а ты записываешь и вставляешь в свою туфту… Недаром о тебе говорят: «Все стихи – говно, но встречаются гениальные строчки!..» – нахохлился маленький, воробьиного вида, поэт, нацелив на соперника острый раздраженный клювик.
– Как сейчас дам тебе в лоб, чтоб не врал!.. Чтоб мозги твои тухлые здесь растеклись!.. – белел от гнева второй, крутя крестьянской жилистой шеей, на которой страшно взбухала синяя вена.
Оба родились в деревнях. Писали о заколоченных избах, об обездоленных деревенских старухах, о крапиве и лебеде у родного порога. Обещали в своих стихах вернуться в родимый край и залатать старой матери прохудившуюся крышу избы. Коробейников ополаскивал руки, видя в зеркало, как стоят они среди кафельных стен туалета, готовые подраться, выходцы из русской провинции, обожатели Есенина, дебоширы и выпивохи, пропивающие в буфете свои невеликие деньги и малые таланты.
Коробейников, словно обходя границы своих необширных писательских владений, поднялся на второй этаж, где за дверями в актовый зал раздавался многоголосый взволнованный шум, звучали аплодисменты, рокотал хорошо поставленный голос. Приоткрыл дверь и увидел заполненные ряды, удаленную освещенную сцену, на которой, выступая по грудь из трибуны, возвышался известный литературовед, полноватый, сдобный, с холеной кадетской бородкой, с расчесанными на прямой пробор волосами.
– Именно поэтому, многоуважаемые коллеги, я уповаю на это насущное, наиболее полное для нынешнего литературного процесса определение: «нравственные искания». Ибо в этих исканиях наша литература, не забывая громадные государственные задачи, поставленные партией, не выпуская из вида всенародного коллективистского дела, обращается к обычному человеку с его внутренним миром и поиском. С глубинной нравственностью, без которой невозможна коммунистическая перспектива…
Эти слова он произнес с сочным и вкусным звуком. Эффектно тряхнул волосами, пропустив сквозь белую холеную пятерню свою шелковую бородку.
Зал аплодировал. Слушатели наклонялись друг к другу, улыбались, что-то шептали. По виду некоторых могло показаться, что они шепчут: «Ну и шельма!.. Ну и плут!..»
Литературовед был близок к официальным кругам. Делал стремительную политическую карьеру. Был на редкость умен. Этот новый, введенный им в обращение термин «нравственные искания» объяснял и спасал, пристегивая к партийной доктрине, новые веяния прозы: защиту маленького человека, изнасилованного слепой государственной машиной. Воспевание простого солдата, которым, как винтиком войны, управляли и жертвовали победоносные маршалы. Описание незаметного городского служащего, убегающего в свой однокомнатный мирок от изнуряющей, подконтрольной публичности. Эти литературные веяния вначале подвергались осуждению. Однако, благодаря стараниям умных и тонких политиков, были признаны за благо, объяснены великой русской традицией, поставлены на службу социалистического гуманизма. Коробейников притворил дверь в зал, оставив по другую сторону рокочущие аппетитные звуки.
Здесь, в Доме литераторов, отдыхали после долгого дня, проведенного за письменным столом. Встречались за ужином с редактором или критиком, обставляя умной комплиментарной рецензией острую рукопись или выпущенную книгу. Завязывали необязательные легкие связи с женщинами, которые курили тонкие сладкие сигареты и сладко напевали в ухо художника медовую ложь о его неповторимости и одаренности. Здесь кичились новым романом или поэмой, узнавая по мимолетным замечаниям доброжелателей и завистников свое новое место в литературной иерархии. Здесь велись запретные разговоры, звучали свободолюбивые речи, невозможные ни в одном другом месте Москвы, и среди говорливых писателей легко и прозрачно, как тени, сновали информаторы КГБ.
Коробейникову обещали найти машинистку, которой он бы хотел передать часть завершенной рукописи. Он поднялся на антресоли, где помещались комнатушки и кабинетики для персонала и куда знакомая дама-администратор, пышная и красивая, с круглыми полуголыми шарами грудей, напоминавшая царицу Елизавету Петровну, приглашала его заглянуть, обещая помочь с машинисткой. Здесь царил полумрак, пахло ветхим паркетом, под ногами бесшумно стелились ковры. Он ткнулся в одну, другую запертую дверь. Третья, плохо замкнутая, легко отворилась, и он, оказавшись на мгновение в каштаново-золотистых сумерках, обжегся глазами о зрелище. Похожая на Елизавету Петровну дама стояла нагнувшись. Из ее расстегнутой блузки изливались две огромных свободных груди. Лунно круглились белоснежные пышные ягодицы. На обнаженном бедре узорно серебрилось кружево черного чулка. Мужчина, полураздетый, жадно обнимал ее сзади. Обернулся на вошедшего Коробейникова безумными бельмами, жарко дыша оттопыренными бычьими губами. Коробейников отпрянул, захлопнул дверь. Остывал от ожога. Зрелище не шокировало, не возмутило его. Дом литераторов был ковчегом, плывущим среди потопа множество долгих лет. Спасавшиеся на нем пары совокуплялись, воспроизводя себя в поколениях, чтобы счастливцам, достигшим земли, было возможно продлить свой род.
Через пестрый, украшенный разноцветными кляксами зал, сквозь табачные облака, ровный, как в бане, гул, звяканье стаканов, множество разгоряченных и пьяных лиц Коробейников направился в дубовый зал ресторана, где у него намечалась встреча. Проходя мимо банкетного зальца, увидел, как оттуда вылетала с подносом разгоряченная красавица официантка, похоже, подшофе, улыбаясь румяными устами какой-то летящей ей вслед шутке. В приоткрытую дверь мелькнул уставленный яствами стол. Дымились мясные блюда, кипами распушилась зелень, блестели винные и водочные бутылки. За этим щедрым столом вольно и счастливо восседали баловни литературы, звезды национальной поэзии. Широкоскулый, в мелких оспинах, кудрявый калмык. Благодушный, с носом-баклажаном и глазками-сливами, аварец. Смуглый, как кожаное седло, с колючими усиками, башкир. Маленький лысоватый балкарец, похожий на добродушного розоватого лягушонка. Все лауреаты Государственных премий, гуляки, сластолюбцы, имевшие каждый своего русского переводчика, создававшего из их нерифмованных фольклорных речений лирические шедевры. Этот мелькнувший стол напоминал нарядную вывеску на стене трактира. Коробейников усмехнулся этой нарисованной на картоне, в сочных подмалевках литературе.
И странно, отвлеченно подумал: этот дом, состоящий из множества помещений, этажей, закоулков, в лабиринтах, переходах и лестницах, воспроизводил модель мира, где в одно и то же время, разделенное тонкими перегородками, совершалось. Безгласно лежал в гробу пропитанный формалином покойник. Страстно и самозабвенно, источая жаркие стоны, любили друг друга мужчина и женщина. Дрались среди зловонного кафеля отвергнутые человечеством гении. Витийствовал, обманывая и льстя, тонкий и лукавый царедворец. Наслаждались среди яств и душистых вин эпикурейцы. Плакали невидимыми миру слезами правдолюбцы и страстотерпцы. И все это летело, как в космическом корабле, среди мглистых туманных звезд, и две окаменелые жрицы застыли, словно статуи на носу корабля.
Коробейников обошел чертог и оказался на пороге главного ритуального пространства, где совершались священнодейства, ради которых стремились в этот дом неофиты, дорожа драгоценной возможностью оказаться среди дубовых, коричневых панелей, резных смугло-лакированных колонн, готических стрельчатых окон и перламутровых витражей, под тяжелой хрустальной люстрой, наполненной желтоватым застывшим дымом. То был ресторанный дубовый зал, уставленный столиками, с черным жерлом камина, где когда-то размещалась масонская ложа, а теперь творились жертвоприношения из телячьей вырезки, бараньей спинки, свинячьей ножки, осетриного бока, щедро поливаемых великолепными красными и белыми винами, от которых развязывались самые молчаливые языки, загорались восхищенно самые тусклые глаза, создавались и созревали самые фантастические замыслы. Сюда, на ужин с литераторами, замышлявшими издание необычного альманаха, и был приглашен Коробейников, молодой восходящий талант, еще не примкнувший ни к одному из литературных лагерей, а потому желанный в каждом.
Общество разместилось за длинным столом у лестницы, чуть отделенное от прочей публики витой колонной, под красивым многоцветным светильником. Коробейников занял ожидавшее его место.
– Итак, когда мы все в сборе, позвольте, друзья, еще раз сформулировать нашу великолепную и, надо признаться, непростую задачу…
Глава стола и будущий редактор альманаха, критик Вольштейн, торжественно и слегка тревожно оглядывал всех фиолетовыми, выпуклыми, как у спаниеля, глазами. Ловко печатал слова шевелящимися малиновыми губами. На его лысом, чуть влажном черепе играл размытый свет фонаря, словно череп побрызгали разноцветной водой. Вьющиеся, окружавшие лысину волосы еще больше придавали ему сходство с собакой – ловцом водоплавающих птиц. Оратор был воодушевлен своим водительством, своей культурной и опасной ролью, которую решился играть в обход писательского начальства, что делало его почти диссидентом.
– Настало время, друзья, показать отечественной, да и зарубежной общественности, что наша мысль не топчется на месте, окруженная частоколом устарелых партийных догм. Что в наших рядах появились за это время талантливые и отважные мыслители, оригинальные художники, не желающие пребывать в тесных загонах и стойлах, куда их поместили надсмотрщики и конюхи современной культуры. Мы переживаем время творчества и обновления. Сборник, который мы затеваем, будет столь же значителен, как и достославные «Вехи» или «Из-под глыб». Займет свое неповторимое место в истории русской словесности и свободной общественной мысли. Давайте же выпьем за наше еще не рожденное детище!
Он поднял рюмку водки, в которой фонарь играл голубыми, алыми и золотистыми искрами. С долгожданным торжеством лидера приглашал остальных признать в нем это лидерство, обещая поделить славу поровну. Все потянулись навстречу. Одушевление, которое было на лицах, объяснялось не только высотой и значительностью замысла, но и вкусной едой, нагулянным аппетитом, запахами солений, телячьих языков, рыбных розовых лепестков. Коробейников, дорожа возможностью оказаться в столь необычном кругу, охотно выпил водку, ощутив ее литой горький холод.
– Пусть первым выскажется, поделится своим богатством с нами, грешными, наш уважаемый Олег Леонидович Медведев, – торжественно и комплиментарно возгласил Вольштейн, улыбаясь малиновыми, мокрыми от водки губами в сторону худого, с тонким аристократическим лицом писателя, чья пергаментная серебрящаяся кожа, аккуратная седая бородка, тонкие персты с кольцом вполне оправдывали его дворянское происхождение, подчеркивали перенесенное им мученичество, когда он провел в северных лагерях почти двадцать лет, добывая пропитание себе и товарищам тем, что ставил петли и капканы на зайцев, мережи на рыбу, самострелы на глухарей, – результат его юношеского, дворянского увлечения охотой, плод особого аристократического стоицизма, позволившего выжить в условиях лагерных зверств.
– Ну что я могу предложить для будущего, несомненно интересного издания, господа… – Медведев, чуть потупясь, батистовым платком отер губы, слегка испачканные заливным.
Этот деликатный опущенный взгляд, мягкое прикладывание платка к губам, полупрозрачный батист, столовая салфетка, небрежно и изящно засунутая за ворот белоснежной рубашки, старомодно-насмешливое обращение «господа» были элементами стиля, который культивировал Медведев, охотно играя роль русского дворянского писателя, сближавшую его с Буниным.
– У меня есть небольшой рассказец, как я зимой поймал в стальную петлю глухаря. Ничего особенного, просто лютый мороз, сверкающий наст, огромная заледенелая птица с приподнятой алой бровью, твердый зоб, набитый мороженой брусникой, и я на лыжах возвращаюсь с охоты, вспоминая мой дом в Петербурге на Камергерской набережной, туманную Неву, дрожащее на волнах золотое отражение иглы. И все. В рассказе ни слова, что я несу добычу в лагерную зону, где мои товарищи по бараку умирают от голода и цинги. Просто удачная охота, черная с синим отливом птица и мое воспоминание о Петербурге…
– Прекрасно, – восхитился Вольштейн, – это и есть мартиролог всех убиенных русских дворян и аристократов, расстрелянных священнослужителей, истребленных родовитых сословий. Эта прекрасная мертвая птица и есть сама убитая, замороженная Россия. Все, кто знает вас, Олег Леонидович, поймут, о чем рассказ. Это по-бунински точно и великолепно. Ну что ж, начало положено. Выпьем за это, друзья!..
Рюмки слетелись, брызнув алым, голубым, золотистым. Всем нравилось начало интересного благородного дела, сулившего литературный успех, размыкавшего тесный ошейник удушающих догм, оттеснявшего опостылевший круг верноподданных литературных вельмож.
Коробейников почувствовал нежное прикосновение хмеля, который отозвался в душе приятием всех, собравшихся за этим милым столом. Ощутил застолье как одну из бесчисленных увлекательных ситуаций, куда поместила его благосклонная судьба. Как малый проект, сконструированный для него Господом Богом, дабы он мог воспользоваться этим проектом, что-то сотворить в его пределах, пусть самое скромное и незначительное, а потом перейти в другую, тут же возникшую ситуацию, стать частью другого, сконструированного Богом проекта. Вся жизнь от рождения до смерти представилась ему вытекающими одна из другой ситуациями, бесконечными, рождающимися один за другим проектами. Так озерная вода покрывается пересекающими друг друга кругами вслед за летящей гагарой.
– Я в свою очередь могу предложить публицистику «Взгляд сквозь железо»…
Это произнес публицист Герчук, насупленный, суровый, с маленьким темным лбом, с заросшими ушами и глазами, среди которых выглядывало замшевое влажное рыльце, какое бывает у роющего крота. Публицист зарабатывал на хлеб очерками об истории заводов, о передовиках производства, но при этом тайно помогал диссидентам, собирал папиросные листочки их творений, готовя для самиздата.
– Мы должны обратиться через железный занавес к Западу. Дать им понять, что здесь осталась отрезанная от мира жизнь со своими идеями, скорбями, прозрениями, единая с жизнью всего человечества. Мы заплатили страшную цену за свою отдельность и теперь готовы платить еще большую за наше воссоединение. Я комментирую замечательные работы Андрея Дмитриевича Сахарова о конвергенции двух систем, его космогонические взгляды на общность судеб Востока и Запада…
Все сочувственно кивали, отдавая должное кропотливой работе Герчука, который сточил свое рыльце, пытаясь подкопаться под ненавистный железный занавес. Уперся в него, греб что есть силы широкими, торчащими из рукавов лопастями, буравил металл, не продвигаясь вперед, выдавливая на поверхность сырые комья плохо написанных производственных очерков.
– Мне кажется… Я, право, не знаю… В такой, как наш, сборник… Или, пускай, альманах… Моя статья о Прометеях духа… Сталинским кровавым пером были вычеркнуты из истории партии… Воспоминания о Бухарине и Троцком… Отрывки из дневников Зиновьева… Они все окружали Ленина, а потом их настигли пули… Мы зашли в тупик, потому что лишились Прометеев духа, возжегших огонь большевизма… Исправление социализма, о котором теперь так модно говорить, невозможно без правды… Правды о гениальных отцах большевизма…
Это говорил гонимый, исключенный из партии историк Ведяпин, обшарпанный, с засаленными рукавами, натертыми до блеска о столы библиотек, где он перечитывал подшивки газет, вычерпывая из них черно-белую свинцовую правду о процессах тридцатых годов. Его белки были горчичного цвета. Кончики пальцев желтели от никотина, будто их испачкали йодом. И весь он напоминал огромную, вываренную чаинку, выловленную из спитого чая.









































