Текст книги "Надпись"
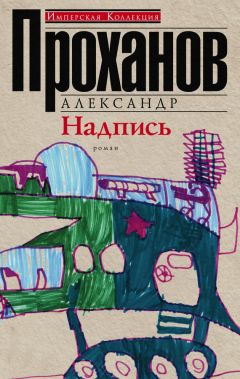
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Саблин ярко и беспощадно взирал на безобидного, застенчивого литератора, словно желал поразить его молниями. Коробейников чувствовал веселую ярость, исходящую от Саблина. Его тирады не были эпатирующим празднословием, а выражали глубинную ревность и отвращение к той плеяде революционеров, к которой принадлежал и его героический дед, оттесненный еврейской советской элитой от высших должностей в государстве. Слом и истребление этой победоносной и агрессивной элиты ставился Саблиным в величайшую заслугу Сталину. Коробейников с острым любопытством, изумляясь в себе этому художественному, неокрашенному этикой интересу, внимал оригинальному собеседнику, не испытывал к нему отторжения. Мимолетно подумал, что его, Коробейникова, дед, белый офицер, мог быть взят в плен красными под Перекопом, был зарублен дедом Саблина.
Через зал неуклюже и грузно на крепких кривых ногах прошел высокий, гордо глядящий писатель, вельможный секретарь Союза, возглавлявший толстый литературный журнал. Орденоносец, лауреат многих премий, автор многотомного романа о рабочей династии, где воспевались трудно и героически живущие поколения слесарей, добивавшихся удивительных трудовых показателей, мужавших вместе с родным заводом и городом, приобретавшим все больше достатка и уважения. Опора партии, лучшая часть народа, рабочий класс был главной темой толстого журнала, собиравшего вокруг себя литераторов, выходцев из заводской среды. Издание конкурировало с двумя другими, в одном из которых печатались писатели-деревенщики, хранители патриархальных заветов. В другом же публиковались писатели-горожане, носители тайного недовольства, тяготившиеся гнетом мертвящей идеологии, позволявшие себе намеками, полутонами протестовать против гнетущего строя. Писатель-вельможа, глядя поверх нетрезвой мишуры, брезгливо выставил нижнюю губу, поднял могучий подбородок. Торопился пройти сквозь комариную бестолковость пестрого зала, в глубину дома, где уже кто-то разглядел его появление, подобострастно бросился навстречу, торопился пожать руку.
– Хам, кухаркин сын, – кинул ему вслед Саблин, открывая в злой усмешке блестящие влажные зубы, нацелив вслед уходящему ястребиный жестокий нос. – Полагаю, если правы буддисты и существует переселение душ, то «гегемон», то бишь рабочий класс: все эти молотобойцы, стахановцы, сталевары и передовики – после смерти превратятся в кувалды, канализационные трубы, болты и костыли. Хамы поднялись из самых запретных, запертых, запечатанных глубин русской жизни и растоптали аристократию, которую Россия драгоценно и трепетно взращивала триста лет. В Гражданской войне победили евреи и хамы. Если бы не Сталин, мы бы и сейчас ели с земли, как свиньи. Сталин, религиозный и имперский человек, понимал значение иерархий. Он создавал иерархии, которым хотел вручить государство. Оттесняя вероломных евреев и скотоподобных русских хамов, взращивал элиту. Ведь я, Мишель, – не помню, говорил ли вам, – окончил Суворовское училище. Учился в блестящем, по личному приказу Сталина основанном заведении, где прежде размещался кадетский корпус. На стене нашего просторного коридора, куда выходили классные комнаты, сквозь побелку проступало дивное лицо государя императора. Начальник училища пригласил реставраторов, чтобы те расчистили позднюю побелку. Воспитателями у нас были кадровые офицеры царской армии. Нас учили танцевать мазурку, фехтовать, говорить по-французски. Из нас готовили будущий цвет армии, гвардейских офицеров, дипломатов, генерал-губернаторов. Нас всех срезал бульдозер Никиты Хрущева. Перепахал изумрудные газоны английских парков под кукурузу. Снова вернулся хам, поставил перед каждым из нас вонючее пойло…
Коробейников с наслаждением, жадно внимал. Перед ним сидел герой его будущего романа, блистательный и ужасный, сентиментальный и жестокий, великодушный и мстительный, весь в противоречиях и изломах, которые оставила на нем «эпоха взрыва». Пленяющий воображение художника своей сложностью, экстравагантностью, непредсказуемостью. Еще никем не описанный вид, выведенный жестокой селекцией среди социальных обвалов. Коробейников знал, что когда-нибудь, не теперь, а в каком-нибудь будущем времени, опишет этот сводчатый дымный зал, призрачные тени, козлобородое чудище на стене и этого артистичного, позирующего ему человека, словно желающего обнажить себя, позволить Коробейникову зарисовать и запомнить, чтобы потом оказаться в сонмище других, еще непридуманных персонажей, в еще не написанной книге.
Но внезапно среди этих увлекательных наблюдений, во время «рисования с натуры», его посетило чувство опасности. Он рисовал, но и его самого рисовали. Он вовлекал Саблина в свое волшебное творчество, но и его самого вовлекали. Острый и страстный контакт, в котором протекало их общение, делал прозрачным не только Саблина, но и его, Коробейникова. В своей прозрачности он был столь же беззащитен перед Саблиным, как и тот перед ним. И эта уязвимость на мгновение его испугала, но лишь на мгновение. Такова была природа творчества, когда художник и модель менялись местами, становились подобными, растворялись друг в друге, а иногда умирали один в другом.
– Воспоминание детства, Мишель… Крым, сороковой год, конец лета. Сухой, солнечный, благоухающий воздух. Синее море среди белых солнечных круч. На нашей даче повсюду цветы, дивно-ароматные, свежие, в стеклянных и фарфоровых вазах. Помню, мама ступает по легким сухим половицам. Папа в косоворотке пишет на столе какие-то бумаги и иногда, задумавшись, смотрит на море. Младшая сестра, совсем еще крошечная, в прозрачном солнечном платье и красных матерчатых туфельках. И вдруг к нашей даче подъезжает длинная черная машина. Какие-то военные в портупеях. В комнату по ступеням поднимается Сталин в белом, загорелый, стройный. Отошли с отцом к окну и, удерживая развевающуюся занавеску, о чем-то говорят вполголоса. Мама накрывает на стол, что Бог послал. Ставит на скатерть бокалы, бутылку с красным вином, блюдо с фруктами. Отец и Сталин сели за стол, разлили по бокалам вино, чокнулись. Сталин поманил меня. Посадил к себе на колени. Очистил большой оранжевый апельсин, аккуратно отломил от него дольку. Держал светящийся ломтик в своих узких, смуглых, красивых пальцах. Потом отдал мне. Помню чудесный вкус этой солнечной сладкой дольки. Помню смуглые пальцы Сталина в капельках сока. Помню мое восхищение, нежность, любовь. До конца дней буду помнить. Подумайте только, Мишель, это был сороковой год. Только что разгромили троцкистов. Еще не были достроены авиационные и танковые заводы. Войска вошли в Прибалтику, в Западную Украину. Очень скоро должна была случиться война, ужасные жертвы и разорения. Но в ту минуту у нас на крымской даче – улыбающийся Сталин, солнце во всех комнатах, цветы и в его руках драгоценная прозрачная долька…
Саблин мечтательно закрыл глаза. На его губах блуждала томительная сладостная улыбка, будто воспоминание, которое его посетило, доставляло ему блаженство и боль. Было из иной, начавшейся, но не имевшей продолжения жизни. Сценой из рая, куда его поманили и откуда потом жестоко изгнали.
Они оба молчали, испытывая странное совпадение переживаний и чувств, когда кажется, что жизни соединились и одновременно протекают во времени, переливаются одна в другую, слитно плывут в туманно-горячем, безымянном потоке.
– Мишель, я забыл вам сказать, сюда должна зайти моя сестра. Я назначил ей здесь свидание.
– Та, что на даче в Крыму была в прозрачном солнечном платьице и в красных матерчатых туфельках?
– Сейчас уже не в матерчатых… Да вот и она…
Коробейников оглянулся. В полукруглом проеме стояла женщина, стройная, с высокой грудью, вольно открытой, в темносинем шелковом платье. Ее гладкие золотистые волосы, расчесанные на прямой пробор, были стиснуты сзади в плотную корзину, чуть более темную от тугих заплетенных кос. Она медленно поворачивала голову на высокой белой шее, вопросительно, с едва заметным презрением осматривая бестолково гомонящий зал. Серо-голубые, золотисто-зеленые, под приподнятыми бровями глаза постоянно и странно меняли цвет. Увидев ее под округлым сводом, желая лучше рассмотреть складки синеблестящего платья, ее красивые сильные ноги на высоких каблуках, узкую талию, над которой смело и выпукло поднималась приоткрытая грудь, ее прямой тонкий нос на слегка продолговатом, в морском загаре лице, Коробейников вдруг ощутил головокружение, как от внезапно выпитого бокала вина. Глаза наполнились горячим туманом, изображение женщины вдруг расплавилось и потекло, как это бывает в солнечном мираже. На мгновение он ослеп, пережил сладкий обморок, потеряв ее из вида, чувствуя ее присутствие не зрачками, а сердцем, будто в грудь ударили и остановились прозрачные лопасти света. Видел, как в этих лопастях течет и переливается табачный дым, словно в снопе кинопроектора. Казалось, сердце его вынули из груди, несколько секунд держали отдельно, а потом поместили обратно в задохнувшуюся грудь, где оно часто, с перебоями, забилось. Те несколько секунд, что он жил без сердца, были кем-то изъяты из его жизни и перенесены в иное бытие.
– Лена!.. – позвал Саблин. – Мы здесь!..
Царственно приподнимая при ходьбе плечи, женщина подошла, остановилась близко от столика. Коробейников вставал ей навстречу на ослабевших ногах, ведя глазами по ее шелковым синим складкам, полуоткрытой загорелой груди, по высокой дышащей шее, помещая лицо напротив ее восхитительного, чуть насмешливого, прямо и ярко глядящего лица.
– Познакомьтесь, – оживленно возгласил Саблин, приобняв сестру за талию. – Это Мишель, о котором я тебе столько и восхищенно рассказывал… А это Елена Солим, в девичестве Саблина. – Он сильнее потянул к себе сестру, и она, сопротивляясь, подалась и прижалась к брату бедром.
Не понимая, что это было, чем была его слабость и обморочность, откуда излетели прозрачные, аметистовые лопасти света, ударившие в грудь, Коробейников смотрел на женщину, немо и растерянно улыбался, забыв пожать ее протянутую руку, с опущенными, как для поцелуя, пальцами.
– Я принесла тебе хорошую новость, – обратилась она к Саблину (голос ее был глубокий, с волнующими грудными переливами, которые, как показалось Коробейникову, были предназначены для него). – Марк поговорил с этим чиновником из министерства. Ты можешь ему позвонить завтра утром, и он тебя тотчас примет.
– Твой муж, неполный тезка Марка Аврелия, хотя бы отчасти вознаграждает нас, Саблиных, за то, что лишил тебя этой замечательной фамилии, – чуть вычурно ответил Саблин, снова притянул к себе сестру, и та, улыбаясь, не сразу от него отстранилась.
– Перестань.
В этом негромком, интимно произнесенном «перестань», в смеющихся, полуоткрытых, недотянувшихся до ее виска губах Саблина померещилось Коробейникову что-то запретное и порочное. Головокружение его продолжалось. Женская золотистая голова была охвачена прозрачным свечением, какое бывает в кроне солнечных осенних деревьев.
– Как вы можете сидеть в такой духоте? – спросила она. – Еще чуть-чуть – и вы упадете в обморок. Мне кажется, вам обоим нужен свежий воздух.
– Ты пахнешь дождем. – Саблин приблизил к сестре свои узкие звериные ноздри. – Нас действительно здесь ничто не удерживает. Мы можем идти.
Они покинули Дом литераторов. Ступая за женщиной, глядя, как погружаются в бесшумный ковер ее высокие каблуки, как мягко и красиво колышется ее голова, Коробейников изумлялся этому бестелесному, сильному, словно удар электричества, прикосновению, зная, что ничего подобного прежде он не испытывал.
Глава 7
На улице шумно и великолепно шел дождь. Москва казалась огромным сверкающим кристаллом черного кварца, в котором переливались светофоры, плыли ртутно-белые, с глубоким отражением фары, нежно туманились белоснежные фасады, легкие, эфемерные, словно толпы испуганных насекомых, летели по тротуарам перепончатые глазированные зонтики.
– Поймай такси, – сказала брату Елена, прижимаясь к нему.
Тот, промокая, весело воздел над ней белую ладонь.
– У меня машина, – сказал Коробейников, кивая на красный среди черного блеска «москвич» под высоким оранжевым фонарем.
– Мишель тебя подвезет, он очень любезен, – улыбнулся Саблин, убирая ладонь над золотистой женской головой, словно лишал ее покровительства, передавал Коробейникову вместе с дождем, нежным отражением белого особняка, зеленым, утонувшем в черной глубине огнем светофора, – ему по пути, подбросит тебя на Сретенку.
– Мне, право, неловко, – произнесла Елена, зябко поводя высоким плечом, на котором намокал синий шелк.
Саблин легкомысленно махнул рукой. Быстро, легко стал удаляться. Кивнул издалека, посылая им обоим воздушный поцелуй, тая в дожде, исчезая среди разноцветных фонтанов, в толчее набегавших зонтиков.
– Прошу вас, – сказал Коробейников, подводя Елену к машине, открывая дверцу, пуская ее в глубину салона.
Они оказались в тесном, холодном пространстве автомобиля, окруженные стеклами, по которым струилась вода и скользил свет высокого оранжевого фонаря. Фонарь осветил складки ее шелкового платья, которое она подобрала, удобней усаживаясь, вытягивая ноги. Коробейников чувствовал волнующий, миндальный запах ее духов. Исходящее от нее тепло и дыхание, от которых стали туманиться стекла. Особняк впереди, янтарно-белый, стал пропадать, превращаясь в размытое облако. Она подняла руку, проводя длинными, гибкими пальцами по золотистым, слегка потемневшим от влаги волосам. Ощупывала на затылке тугой, плетеный пучок с гребнем. В наклоне головы открылась близкая, дышащая шея. Пугаясь этой близкой ослепительной белизны, вдыхая аромат ее духов, видя, как натянулся синий шелк на ее бедре, Коробейников обморочно потянулся, желая поцеловать эту теплую доступную белизну, испытывая неодолимое влечение, головокружение, словно кто-то властный наклонял его голову, побуждал прикоснуться губами к восхитительной, манящей, открытой для него женской шее. И, чувствуя, что проваливается в упоительную бездну, пропадает среди синего шелка, разноцветной текущей воды, близких, уложенных на затылке волос, чудом удержался на последнем краю этой пропасти. Повис на хрупкой паутинке, раскачиваясь между ампирным особняком, синим шелком, оранжевым фонарем и близким, повернувшимся к нему насмешливым женским лицом.
– Мы едем? Вы, случайно, не потеряли ключи?
– Какие-то ключи потерял, – пробормотал он в изнеможении, слабым движением заводя машину.
Не понимал этот второй, последовавший вслед за первым обморок. Испытывал вторжение в свою жизнь неведомых, властных, смертельно опасных и восхитительно-сладостных сил, небывалых, ниспосланных ему состояний. Тронул машину, поведя ее по широкой блестящей дуге, выруливая с улицы Герцена на огненную Садовую. Почувствовал, как отнятая у него энергия вдруг снова вернулась в виде ликующей радости. Дождь, Москва, прелестная, едва знакомая женщина, оказавшаяся рядом с ним по воле загадочного Провидения. И эти ослепительные, дарованные ему в наслаждение секунды, неповторимые и единственные, рассыпаны в его жизни, как переливы бриллиантов на черном бархате, за которые он славит Того, кто их даровал.
«Наваждение?.. Колдовство?.. Или, как говорили в старину, напущение?.. Значит, кто-то выбрал меня, внял моему ожиданию, моему предвосхищению чуда… Награждает меня драгоценным, желанным для художника опытом… Эту женщину придумал я сам, создал из моих мечтаний, помещаю в мой ненаписанный роман, делаю ее главной моей героиней… Она послушна мне, повинуется моей воле и прихоти… Мой обморок – ее первое появление в сюжете…»
Знакомый город, каким он привык его видеть, исчез, превратился в волшебные сполохи, трепещущие сияния, разноцветные радуги. Стеклоочиститель метался перед глазами, сбивая толстый слой воды, и тогда на мгновение открывались серебристое яйцо Планетария, лепная арка Зоологического сада, а потом громко, как из ведра, шлепало на стекло, и все застилало огненное павлинье перо, космато пылавшее среди черноты и блеска.
«Быть может, это зло, искушение, грозящее крушением всей моей жизни… Оно явилось в прельстительной красоте ее тонкого профиля, высокой обворожительной шеи, тяжелой золотистой корзины волос… Но я не стану отвергать искушение… Я художник, а не угрюмый аскет… Я соткал из голубого шелка ее полуоткрытое платье… Уложил в тяжелый пучок на затылке ее восхитительные волосы и воткнул в них гребень… Брызнул дурманящие духи на ее высокие плечи… Помог надеть на узкую стопу легкие узконосые туфли… В моем романе я опишу сцену нашего знакомства и этот чудесный полет в дожде…»
Его окружали галлюцинации, словно он испил возбуждающей сладкой отравы, надышался веселящего газа, был одурманен губительным и чудесным запахом ее духов. Идущие впереди автомобили слились в сплошную рубиновую реку, а навстречу выныривали из черноты белые яркие фары, как ртутные ядра, проносились с шипением у лица. Над площадью Маяковского висела огромная люстра неба, роняя подвески, которые падали и разбивались вокруг бронзового памятника, а тот истово, среди брызг и осколков, стоял стеклянный, светящийся, с прозрачным малиновым туловом.
«Но, быть может, я заблуждаюсь… Этот бездумный эстетизм отравит меня и убьет… Сюжет романа неведом… Он правит мной, а не я им… Он меня создает, а не я его… Своей тайной властью, в последней, неведомой мне главе он убьет меня… Отдавшись на волю романа, я пишу мою смерть… Недаром наше знакомство случилось под изображением прельстителя Бафомета, губителя человеческих душ, которому я, художник, вручил сюжет, обольщенный красотой этой женщины…»
Его зрачки метались по сторонам, почти не следя за ходом машины, обрели волшебное зрение, словно в вену тончайшей иглой впрыснули из крохотной ампулы возбуждающий наркотик, превративший Москву в фантастический город без людей, с разноцветными колоннами света, с дивным изумрудом деревьев, в каждом из которых горел светильник, окруженный водяными радугами. Так в цветных сновидениях выглядел рай с невиданной растительностью, возносящей к черным пульсирующим небесам дивные соцветия, живые лучистые звезды, огромные трепетные лепестки. Так выглядели ожившие города архитектора Шмелева, улетающие цветными прозрачными башнями в дышащий космос, опрокидывающие в черную бездну огненные корневища. Зрелище преображенного города восхищало и пьянило его. То возникала вдалеке огромная пылающая тарелка, приземлившаяся на Садово-Каретной, у Эрмитажа. То устремлялась в небо прозрачная сосулька небоскреба, охваченная голубым сиянием. Он благодарил неведомого волшебника, преобразившего город. Благоговел перед восхитительной женщиной, которая улыбается своими разноцветными колдовскими глазами, показывая ему чудо преображения.
«Еще не поздно… Еще не написана первая строчка романа… Это всего лишь случайный, необязательный образ, который можно отринуть… Призову на помощь благие силы, которые спасали меня не раз… Милое, родное лицо жены, наивные и чудесные лица детей, седовласую и любимую голову бабушки… Наваждение канет – мы просто катим в автомобиле по ночной дождливой Москве, сейчас остановимся у красного светофора, который через секунду превратится в золотой и зеленый, я остановлюсь у дома, который укажет мне эта случайная попутчица, с легким поклоном выпущу ее у подъезда и прощусь навсегда…»
Было мгновение, у Самотеки, на огненном перекрестке, когда исчезло ощущение улицы с прямолинейным движением, а их обоих завертело в фантастическом завитке, поместило на головокружительную карусель, среди музыки, пышных салютов, шелестящих стоцветных фонтанов. Они сидели не в автомобиле, а в тесной люльке на блестящих звонких цепях, перед ними и сзади по кругу мчались золоченые, разукрашенные лошади, верблюды в полосатых попонах, слоны с нарядными балдахинами, старинные дилижансы и космические ракеты. Их игрушечный красный автомобиль несся по кругу, и женщина прижималась к нему пугливым плечом.
«Оставить сомнения… Искусство и есть то, дарованное Богом умение, которым я познаю бытие от своего рождения до смерти… Если дьявол меня искушает, я опишу искусителя, покорю, набросив на него искусные тенета романа… Я, художник, лишь тем и угоден Творцу, что познаю этот загадочный мир, где неотличимы зло и добро, как неотличимы лик и его отражение в зеркале… Где любовь ведет к страданию и смерти, а бессмертие недостижимо без красоты… Не стану менять ничего… Запомню и нанесу на белый бумажный лист мои сомнения, мысль о красоте и бессмертии, ощущение безудержной карусели, которую раскручивает в мироздании Великий Художник…»
Город казался огромным праздничным аттракционом, с пугающе-сладкими падениями и взлетами, с фонтанами алого и золотого вина, с качелями, проносившими их над мокрыми перламутровыми крышами, золотом ночных куполов, над купами скверов, в которых, нахохленные, мокрые, притаились московские вороны, разноцветные, как тропические попугаи. У Цветного бульвара, молниеносно оглядываясь на соседку, увидел, как за ее головой, в затуманенном стекле открывается далекое пространство, и на нем кипит карнавал, танцуют пленительные полуобнаженные женщины, раскачиваются смешные размалеванные великаны, пляшут яркие маски, порхают громадные бабочки, по головам ликующей толпы катится огромный голубой и прозрачный шар, в котором, словно в икринке, притаилась серебряная рыба.
«Да будет, как есть… Все уже началось… Для меня, для нее… Мы оба ступили в роман, и оба его напишем… Искусство выше, чем жизнь… И мы летим в высоте…»
Кто-то летел над ними, яркий, как скоморох, дул в золоченую дудку, колотил в звонкий бубен, бренчал бубенцами, не отпускал, колдовал, плескал в стекло машины разноцветными брызгами. Колдун, веселый кудесник, ворожил, обольщал и морочил. Уводил с основной дороги, заставляя плутать по незнакомым переулкам и улочкам, по неведомым тропкам, открывая в Москве невиданные, небывалые пространства: оранжево-бездонный американский каньон, голубые, в розовых льдах Гималаи, бескрайнюю, седую от трав саванну. И вдруг они отрывались от бренной земли, взмывали свечой к небесам и мчались в черном, с размытыми звездами космосе. Мимо них проносились желтые луны ночных фонарей, цветные планеты дорожных знаков, ворохи размытых реклам, напоминающие хвосты комет. К стеклу их машины прилипали на мгновение нестрашные чудища других миров, стоглазые и многоногие, как розовые осьминоги и медузы.
– Здесь нам нужно свернуть, – сказала она, возвращая его из восхитительного стоцветного бреда на угол Садовой и Сретенки, – здесь мой дом.
Они вкатили в тесную арку и оказались в глубоком дворе, окруженном высокими мрачными домами купеческой московской постройки с желтыми, уходящими вверх окнами. Остановились у подъезда с тяжелой резной дверью. Тут же, во дворе, среди черных дрожащих от дождя луж, гремящих водостоков, размытых отражений стояли глазированные темные «Волги». Сквозь запотелые стекла угадывались терпеливые дремлющие водители.
– Как хорошо вы меня домчали, – благодарила она, и на губах ее блуждала слабая улыбка, какая остается на лице после счастливого отлетевшего сна.
– Жаль, что вы так близко живете. Дождь еще идет, Москва все такая же волшебная, но мы уже приехали.
– Не предполагалось, что нам предстоит такая прогулка. Ничто не предвещало нашей встречи.
– За секунду до вашего появления я думал о вас. Думал о девочке в прозрачном солнечном платье и красных матерчатых туфельках на веранде крымской дачи, к которой подкатывает черный длинный лимузин.
– Это брат рассказал? Он большой фантазер и неутомимый рассказчик. Он влюблен в вас, много мне о вас говорил. Но берегитесь, не всякий выдержит бремя этой любви.
– Вы похожи на брата чертами лица, статью. Быть может, и нравом.
– Нет, я совсем другая. Брат – честолюбец, гордец, человек с уязвленной гордыней, который ищет реванша и готов ради этого на безумный поступок. А я – домашняя женщина, жена, хозяйка салона, в котором развлекаю умных мужчин, и поэтому запрещаю себе быть умной.
– Вам достаточно быть красивой.
– Брат говорил о вашей книге, которую прочитал с восхищением. Хотела бы и я прочитать.
– Как мне было знать, что мы познакомимся?
– Но, быть может, вы преподнесете мне ее при нашей следующей встрече?
– Мне не хочется сейчас расставаться!
Это вырвалось у него так искренне и наивно, что она посмотрела на него внимательно, чуть отстранив свое белеющее в темноте лицо с прямыми линиями золотистых бровей, под которыми глаза были цвета темно-фиолетовой, текущей вокруг воды с блестящими искрами отраженных окон.
– Можно не расставаться. Приглашаю вас подняться ко мне. У мужа гости. Быть может, вам будет интересно оказаться в их обществе.
Он вдруг испугался, словно кто-то невидимый положил на его воспаленный горячий лоб холодную руку. Их знакомство продолжалось не долее получаса. Состояло из магических сверканий, праздничных галлюцинаций, безумных фантазий, которые оборвались в этом темном дворе, где кто-то невидимый, вкрадчивый, остудил его лоб. Делал ему предупреждение. От чего-то уберегал. О чем-то предостерегал. Следовало внять этому неслышному голосу и вежливо отклонить приглашение. Выйти из автомобиля на дождь. Открыть ей дверцу. Увидеть, как медленно выносит она из машины свою длинную красивую ногу в остроносой туфле. Как на мгновение под откинутым шелком открывается круглое колено. Как появляется из салона лицо с восхитительными, меняющими цвет глазами. И он провожает ее до подъезда, ловя на прощание благодарную улыбку, где еще присутствует, но уже исчезает недавнее видение стоцветной Москвы, тает драгоценное, дарованное им на полчаса чудо, которое пронесли мимо них, словно пылающий волшебный фонарь. И уже готовясь произнести легкомысленно-отстраненным голосом слова прощания, которыми обрываются случайные необязательные знакомства, он вдруг радостно и жадно сказал:
– Конечно, принимаю ваше любезное приглашение…









































