Текст книги "Надпись"
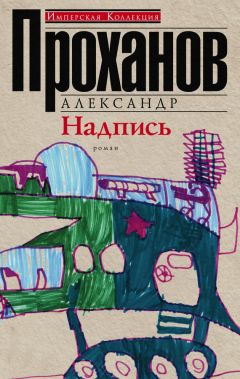
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 4
Москва, горячая, смугло-душистая, в сухих накаленных фасадах, с размягченным асфальтом, брызгами фонтанов, запахом цветов на огромных клумбах, вокруг которых раскручивались блестящие спирали автомобильных потоков, – августовский город, словно огромное созревшее яблоко, откатился назад. Коробейников, сжимая руль новенького красного «москвича», мчался по синему, окруженному лесами и нивами Дмитровскому шоссе в глухую деревню, где поджидали его жена и дети. Машина, которую он купил после выхода первой книги, ставшая гордостью их молодой, со скромным достатком семьи, получила имя Строптивая Мариетта за капризный нрав, способность не заводиться, манеру терять во время езды болты и детали, долго тянуться на буксирном тросе за каким-нибудь грузовичком или трактором, покуда не затрещит, не застучит проснувшийся двигатель. Теперь же нарядная алая машина мчала его мимо деревень, палисадников, «золотых шаров», темно-зеленых, отягченных садов, разрушенных колоколен, желто-белых полей, в которых, словно птеродактиль, махал перепонками, пылил красный самоходный комбайн.
Деревня, где они купили избу, была заброшенной, вымирающей, среди бездорожья, пахучих бурьянов, на холмах, под которыми разливалось чудесное озеро, с волнистыми голубыми возвышенностями. Леса поднимались над лесами, бежали по сизым полям тени облаков, невидимая, скрытая среди восхитительных далей Троице-Сергиева лавра источала в небеса незримое сияние своих нимбов, куполов, кустистых крестов. Огромная покосившаяся изба с седыми венцами, крытая чешуйчатой дранкой, стала просторным благодатным убежищем для их семьи. Ее, похожую на старинный корабль под выгнутыми полотняными парусами, увидел Коробейников за полем черно-золотых подсолнухов, среди которых утонул его торопливый автомобиль.
Он сидел под березой, под ее длинными зелеными полотенцами, сквозь которые тихо светилась изба. Прислонился затылком к теплому, корявому стволу, в котором невидимо двигались к вершине тихие земные соки, текли белыми ручьями в шелестящую гущу, где вдруг открывалась синь, застывшее снежное облако, росчерк мелькнувшей ласточки. Смотрел, как перед ним на лужайке играют дети. Пятилетняя Настенька в белом коротком платьице, с пушистыми пепельно-русыми волосами, в которых как цветок распустился розовый бант. И трехлетний Васенька, голопузый, со смешными, топчущими ногами, круглым смуглым лицом, на котором восторженно и наивно сияли темные глаза. Жена Валентина вдалеке, у колодца, стирала детское белье, лила в цветастый таз блестящую воду, плескала, терла, поворачивая милое загорелое лицо к березе. Издалека кивала, давала знать, что и она вместе с ними, в их забавах и играх, скоро присоединится к ним.
– А теперь мы положим в суп укроп. – Настенька сунула щепку в банку с водой, где кружились листики, камушки, кусочки коры. – Васенька, принеси мне, пожалуйста, укроп.
Дочь говорила тоном матери, когда та обращалась к ней самой, посылая в огород за укропом. Они с братом готовили обед, лили воду, ставили банку на перевернутую эмалированную кружку, изображавшую плиту.
– Сколько раз я должна тебе говорить! Принеси укроп! – строго повторила Настенька, указывая брату дальний угол лужайки, где предполагалась грядка с укропом.
Васенька захлопал глазами, послушно, обожая сестру, признавая ее превосходство, побежал по лужайке. Коробейников смотрел, как мелькают его крохотные розовые пятки, семенят точеные ножки, двигаются на спине маленькие лопатки.
Васенька нащипал какую-то траву, вернулся обратно, протягивая сестре зеленый пучок, приговаривая:
– Укоп… Укоп…
Коробейников видел их любимые лица, в которых таинственно переливалось сходство то с ним, то с женой. Будто каждый поворот детской головы, каждая легкая тень от березы меняли пропорции этого сходства, и они с женой волшебно сливались в детях, словно отражения в бегущей воде.
Ему казалось, он знает день, когда жена зачала дочь. Среди негаснущих беломорских небес, млечной лазури безветренного прохладного моря, из которого поднимались розовые валуны, скользили зеленые, с прозрачными травами острова, низко летели утиные стаи, поднимая крыльями буруны. Лодка, стуча мотором, шла среди гранитных уступов, на днище лежали огромные, словно зеркала, уснувшие семги, грубо краснело обветренное лицо рыбака, и по узкой протоке плыли два глазированных алых оленя, поворачивая к ладье темно-вишневые глаза. В эту белую ночь на деревянной кровати, на шуршащем сеннике, он обнимал ее, видя сквозь закрытые веки близкое жаркое лицо, распущенные темные космы, слыша стуки ее сердца, тихие вздохи и шепоты. Когда без сил лежали рядом, касаясь друг друга утомленными молодыми телами, дочь была уже в ней. Уже наливалась, словно завязь на яблоне, охваченная нежнейшими лепестками, среди призрачного света, окружавшего дышащее лоно.
– А теперь, Васенька, надо кушать. – Настя усаживала брата на траву, и тот послушно, повинуясь повелениям сестры, опускался на теплые стебли. – Ты хороший мальчик… Тебе надо кушать… Вырастешь большим и сильным. – Она совала щепку в банку с водой, подцепляла обрывок листика, подносила щепку к губам брата. – Открой рот… вот так… За маму, за папу…
Брат таращил темные с перламутровым переливом глаза, верил, что это настоящий суп. Открывал рот, и щепка с зеленым листиком оказывалась у него на языке. Он жевал, лицо его начинало морщиться, глаза круглились. Он выплевывал горький листик одуванчика, пуская губами пузырь, а сестра недовольно качала головой.
– Ах какой ты плохой, Васенька… Никогда не вырастешь… Так и будешь маленьким, как воробей.
Эти ужасные пророчества сестры, горечь на губах делали Васеньку несчастным. На глазах его появились крупные блестящие слезы.
Коробейников знал, когда, в какой час московской ночи жена понесла сына. Их большая полупустая комната с мартовским запотевшим окном, за которым туманно светится город; с легким стуком среди талых снегов идет электричка, продергивая золотую стежку вагонов. На стене зеленоватое влажное отражение фонаря, в котором темнеет обломок каргопольской иконы – ангел с алым крылом. И он обнимает ее горячий затылок, вдыхает в ее растворенные губы свой жар, свой радостный стон, теряя свою плоть, свое имя, превращаясь в слепящий взрыв, словно кто-то огромный, шумный, в сверканье бушующих крыльев упал на них сверху, бил разноцветными перьями, а потом отпрянул, оставив по углам тающие отсветы. Их комната. Мартовская туманная ночь. Потрясенные, они лежат в открытой постели. На иконе чуть трепещет крыло каргопольского ангела.
Дети на лужайке продолжали свои бесконечные игры, и было неясно, они ли повторяют своими затеями взрослых, подглядев их житейские тревоги и хлопоты, или из наивной потешной игры с годами произрастают житейские драмы, случаются великие скорби и радости, вершатся погребения и свадьбы. Дети под березой совершали таинственный наивный обряд, играя в свою будущую судьбу, и зеленое белоствольное дерево накрывало их прозрачной тенью, обмахивало душистыми полотенцами веток.
– Если не хочешь есть кисель с молоком, тогда встанешь в угол, – строго предупреждала брата Настенька, и тот вынужден был чмокать губами перед пустой плошкой, где, по всей вероятности, находился кисель из черной смородины.
Коробейников помнил, как родилась дочь и он торопился встречать жену среди клейкой зелени благоухающих тополей, синих лужиц на пахучем асфальте, неся букет огненно-алых пионов. Она появилась на пороге, ликующая, гордая, держа в руках белый кокон, где в кружевах что-то невидимое розовело, дышало. Привез их обоих домой, где поджидала родня. Два рода сошлись в их весеннем, чисто прибранном и умытом доме. Окружили стеной просторную, застеленную покрывалом кровать, где жена осторожно развязывала розовые шелковые ленты, раскрывала белые пелены, разворачивая крохотное скорченное существо, которое сонно потягивалось, недовольно сжимало от света глаза, морщило маленькие розовые губы. Бабушка приблизилась к новорожденной, присела, наклонив сморщенное, подслеповатое лицо. Молча, долго рассматривала крохотную девочку. И все затаили дыхание, смотрели, как перетекают от одной к другой бестелесные, прозрачные волны света, словно род, отмирая в своей усталой, прожившей части переносит свои заветы и заповеди в народившуюся, еще бессловесную жизнь.
Настенька постелила на траву легкую тряпицу, укладывала брата.
– После обеда ты должен поспать… А если не будешь спать, я рассержусь… Папа приедет, он огорчится… Глазки закрыть, ручки под подушку…
Она гладила брата по голове, тот послушно закрывал глаза, клал пухлые руки под розовую щеку. Коробейников в своем прозрении видел две их судьбы, две неразлучные жизни, которые им предстоит прожить среди треволнений и бурь, любя друг друга, утешая, кидаясь друг другу на помощь.
Помнил, как радовался, узнав в предновогодние морозные дни, что родился сын. Москва была в розовых дымах, с блестящим снегом, с бегущими, окутанными паром прохожими. На елочном базаре он выбрал елку, скрутил ее упругие колючие ветки бечевкой. Замерзая, поскальзываясь, нес домой лесное дерево, думая, какое счастье, что он молод, отец двух детей, живы мама и бабушка, на письменном столе лежит недописанный красивый рассказ, и сын родился, когда в рассказе по солнечной пыльной дорогое мчится буйный табун. Жена появилась в доме, внося укутанного сына, когда уже мерцала драгоценная елка, покачивались на ней стеклянные петухи и рыбы, переливалась на вершине хрупкая серебряная звезда. Жена тихо ахнула, поднесла сына к елке. Они стояли среди волшебных мерцаний, сладких смоляных ароматов, и листы с рассказом белели на столе, будто кто-то невидимый записывал чудесное явление жены и сына.
– А теперь, Васенька, пойдем, я покажу тебе клад…
И они вдвоем, взявшись за руки, побежали в заросший уголок палисадника, где в кустах была вырыта укромная ямка, выложена изнутри фарфоровыми черепками и камушками и на дне ее лежала мертвая синяя стрекоза.
Подошла жена Валентина, положила ему на лоб большую, прохладную от колодезной воды руку, и он почувствовал, как пахнет теплом и солнцем ее линялое, полупрозрачное платье, как сквозь легкую ткань движется сильное чудное тело.
– Я знаю, о чем ты думал.
– О чем?
– О том же, о чем и я.
Ее рука лежала у него на лбу. Береза ровно и трепетно шелестела мелкой, от ветреной вершины до подножия листвой. За цветочной клумбой розовел бант дочери и блестела, словно черное стекло, голова сына. И он боялся пошевельнуться, благоговея перед восхитительным бытием, которое окружало его любимыми, близкими, и ветхим деревом старой избы, и летающей перед лицом бахромой из березовых листьев, и хотел, чтобы это бытие не кончалось.
Он и не кончался, этот медленный, тягучий, как мед, смугло-золотистый день, в котором уже сквозила близкая осень, давая знать о себе желтой гирляндой в березе, тучными, опущенными головами подсолнухов, пожухлыми огородами с пучками яркой и пряной пижмы, хрустальной высотой, в которой высоко и прозрачно застыло перистое облако. Все вместе они ходили к озеру на травяной мыс, где росли малиновые, с клейкими соцветиями цветы, которые они нарекли «богатырскими», представляя, что когда-то сквозь заросли этих цветов ехали на могучих конях былинные богатыри. Смотрели в солнечную, прозрачно-зеленоватую воду, где мелькали рыбки, и Васенька все не мог разглядеть, где же на озере «белеет парус одинокий», а Настенька радостно кричала: «Вижу!.. Вижу!..» – хотя никакого паруса не было, а летели по воде далекие вспышки ветра. Вернувшись домой, вчетвером стояли в тени избы, глядя, как над коньком крыши пылает синева и в ней перелетают прозрачные, словно пушистые звезды, семена иван-чая, и жена говорила, что в сердцевине опушенного семечка находится крохотный портретик Насти и Васи и они летят к Боженьке, который хочет на них посмотреть. Разводили под березой маленький старинный самовар с рогатым краном, с гербами и вензелями, кидая в дымящий, едко пахнущий зев сосновые шишки. Коробейников, приподняв трубу, что есть силы дул в глубину самовара, выдувая из дырчатого донца сыпучие искры, покуда не вспыхивал, пробивая дымную пробку, жаркий свистящий огонь. Дети хватали отлетающий дым, а он, закрывая слезящиеся глаза, думал: как чудесно, что этот фамильный бабушкин самоварчик, собиравший вокруг себя исчезнувших стариков, теперь служит им и будет служить другим, неродившимся. Перед сном жена ставила в цветастый таз с нагретой за день водой по очереди Васю и Настю, ополаскивала из кувшина, и они стояли, как фарфоровые статуэтки, точеные и совершенные, блестя от воды.
В сумеречной, насупленной избе с рублеными венцами, торчащими из пазов клочьями мха, с нависшими черными потолками, где висело среди глазастых сучков старинное кольцо от несуществующей зыбки, они укладывали детей. Из-под большого одеяла выглядывали два близких мутно-белых личика, нетерпеливо ожидающих обещанную сказку. Коробейников дорожил этой чудесной возможностью усесться у них в ногах, прихватив сквозь одеяло чью-то крохотную стопу. Глядя, как мерцает первыми звездами оконце, фантазировал, придумывал одну бесконечную, длящуюся из вечера в вечер сказку все с теми же персонажами, не оставлявшими равнодушными слушателей, среди которых была и жена.
– Жили-были маленький мальчик Васенька и маленькая девочка Настенька, его сестрица… – Коробейников чувствовал, как вытянулись на тонких шейках две детские головы, застывая от сладостных предвкушений, и жена в темноте замерла с остановившейся полуулыбкой. – И жила у них большая добрая лошадь по имени Петр. – Ему стало смешно от этого лошадиного, попавшего на язык имени, но он не подал виду и продолжал со всей серьезностью: – И вот однажды, когда стало совсем темно и все люди улеглись спать, Васенька сел на лошадь Петра, и она, разбежавшись по полю, взлетела в небо. Развевая хвост, понесла Васеньку под самыми звездами, так что не стало видно земли…
Сын перестал дышать, со страхом и сладостью представляя себя несущимся на поднебесной лошади, у которой ветер свистел в гриве, продергивая сквозь нее длинные серебряные нити звезд.
– Вдруг навстречу им вылетел страшный дракон с девятью головами, огненным языком и длинными отточенными зубами. Набросился на лошадь и мальчика Васю, обвился вокруг и стал жалить, кусать, обжигать огнем, стараясь затащить смелого наездника в глубокую бездонную пещеру неба, где он обитал…
Коробейников чувствовал, как испуганно замерли под одеялом сын и дочь, и в руке у него онемела маленькая детская пятка. Жена в сумерках молча волновалась, не слишком ли ужасна сказка, не лишатся ли дети сна. Это было предостережением Коробейникову, требующим немедленно изменить сюжет.
– Девочка Настенька видела с земли, как сражаются в небе злой дракон и добрая лошадь Петр. Она знала, что Петр любит вкусную зеленую траву. Сорвала на лужайке под березой самый свежий душистый пучок и подкинула вверх, чтобы лошадь Петр съела эту сладкую траву…
Дочь тихо засмеялась, понимая, что близится счастливый конец, и это она своим смелым поступком вызволяет из беды любимого брата.
– Лошадь Петр съела на лету пучок волшебной травы, стала сильной, непобедимой. Брыкнула страшного и злого дракона, так что он кувырком полетел назад в свою бездонную пещеру и там сгорел, как щепка в самоваре. А смелый Васенька и добрая лошадь Петр опустились на лужайку под березу, где ждала их Настенька, и пошли домой спать…
Сын и дочь ликовали, ерзали, крутили головой, восхищаясь своим поведением в сказке, своей победой над дурным и противным драконом. Пробовали еще вертеться, тузить друг друга ногами, но мать строго разделила их, раскатила в разные стороны просторной кровати, приказав: «Глазки закрыть, руки под подушку…» И это означало, что оставалось только одно – заснуть.
Выходя из избы в сени, придерживая тяжелую скрипучую дверь, Коробейников подумал, что, быть может, через множество лет, когда его и жены уже не будет на свете, а дети проживут громадные жизни, погрузившись в тусклую оторопь старости, вдруг в сумеречной и печальной памяти что-то тихо и нежно вспыхнет. Вспомнят эту теплую, пахнущую вялыми травами избу, широкую кровать под деревянным глазастым потолком, мать и отца, сидящих у них в ногах, и отец рассказывает сказку про какую-то лошадь Петра, и все они любят друг друга.
В сенях, не зажигая света, он нащупал приставную лестницу. Хватая отшлифованные перекладины, чувствуя дрожание старых иссохших слег, поднялся на высокий чердак в укрытие, где спасался от детских воплей, окриков жены, нескончаемой суматохи, что царила днем в их бревенчатом ветхом жилище. Здесь, под чешуйчатым, из осиновой дранки скатом, был расположен его жесткий топчан. Стоял самодельный, из грубых досок стол с портативной печатной машинкой «Рейн-металл», чья старомодная эстетика, золотая по черному немецкая надпись возвращали воображение в благословенный XIX век, придумавший для благополучного и благопристойного человека множество хитроумных приспособлений и машин.
Среди уступов сухого чердачного короба, пахнущего тихим прахом исчезнувшей жизни, остатками банных веников, травяных пучков, развалившихся плетеных корзин, стояли белые подрамники, подаренные другом, архитектором-футурологом Шмелевым. Его Город будущего. Фантастический проект цивилизации XXI века, который напоминал мифологические образы древности, ослепительную мечту фантастов и провидцев, и который Шмелев стремился выставить на международном форуме в Осаке. Здесь, на белых щитах, эти города-башни возвышались среди сибирских болот и полярных снегов. Взлетали ввысь из азиатских барханов и ущелий Кавказа. Напоминали громадные первобытные хвощи и папоротники, гигантские заостренные сталактиты. Их вьющиеся гибкие стебли подбирались к океанской кромке, ныряли в пучину, образуя подводные, похожие на стеклянные пузыри поселения. Их стремительные побеги устремлялись в космос, цепляясь за орбиты, превращались в космических бабочек, в пчелиные, облепившие планету рои, в громадные, построенные на Венере и Марсе термитники. Яростное перо и романтическая кисть Шмелева придавали им сходство с громадными грибами, с прозрачными медузами, с вьющимися водорослями, с зонтичными соцветиями и одуванчиками. Ветер налетал на одуванчик, срывал крылатые семена, разносил по бескрайним пространствам страны, а потом крохотные пушинки вновь собирались в фантастические цветы, перенося жизнь из индустриальных центров в пустыни и льды, где люди добывали золото, нефть и уран, строили космодромы и станции космической связи.
Коробейников не уставал рассматривать эти захватывающие фантазии, в которых его другу рисовалась советская цивилизация грядущего века, когда скажутся плоды грандиозных трудов и лишений и красная империя Советов во искупление всех трат распространится в беспредельный космос, одолеет смерть, займется спасением умирающих, чахнущих галактик.
Тут же, у подножия этих пространных высоких подрамников, составляющих целую стену, была разложена коллекция крестьянской утвари. Изношенные инструменты остались от прежнего хозяина, одинокого, брошенного детьми старика, от кого Коробейников получил во владение избу. Здесь лежал допотопный плотницкий циркуль, похожий на тот, которым Колумб мерил расстояние на глобусе, что придавало избе еще большее сходство с кораблем, плывущим сквозь океаны времен. Чугунные пузатые гирьки соседствовали с заржавленными весами, чья стрелка покачивалась между медными позеленевшими чашами, на которые когда-то сыпалось золотое зерно, плюхалась сочная глазастая рыбина, шмякал ломоть отекающих медом сот или ложилась окровавленная свиная нога. В деревянной, источенной жучками ступе торчал окованный железом пестик, стояли прислоненные к стене деревянные лопаты, на которых из печи вытаскивали горячие парные ковриги. Ступа повергала в мистический ужас детей, полагавших, что ночами в ней летает Баба-яга. Расколотое корыто помнило удары куриных клювов, красный трепет петушиных гребней, шершавые телячьи языки и мокрые хрюкающие поросячьи пятаки. Деревянная дуга с полустертым цветком грезила о глазастой лошадиной голове и развеянной гриве. Медный, глухо звякающий бубенец взывал к несуществующей корове, которая, облепленная сонными слепнями, колыхая огромным желто-розовым выменем, брела на закате в деревню. Среди этой коллекции находились подковы, кованые, с большими шляпками гвозди, скребки, молотки, ухваты – все, что когда-то служило молодым предприимчивым обитателям крестьянского дома: строгало бревна, пекло пироги, косило луга, рубило смоляные поленья, шило мягкие эластичные кожи, ткало цветастые половики, валяло грубые толстоносые валенки. Коробейников относился к инструментам с благоговением, веря, что волшебным словом или чудесным волхованием они могут ожить, вызвать из небытия исчезнувший крестьянский уклад, и тогда на опустелых улицах деревни вновь взревут гармони, взовьются в ночное небо неистовые шальные песни и за озером, на развалившейся колокольне, зазвенят колокола.
Коробейников лежал на топчане, среди Городов будущего, крестьянских прялок и кос. Испытывал полноту и бесценность своей молодой бесконечной жизни, которая неуклонно, в творчестве и познании раскрывалась в мир, как если бы кто-то любящий, благой и всесильный открывал ему бесконечно расширявшуюся сферу, одаривая драгоценным опытом, осуществляя загадочный, сокрытый до времени замысел.
Услышал, как в сенях в темноте тихо скрипнула дверь. Струнно задрожала лестница. Жена, усыпив детей, ополоснув посуду, поднималась к нему. Чутким мужским слухом он улавливал упругое дрожание лестницы. Она возникла в сумраке из-за полога, в белой нижней сорочке. Он различал белые бретельки на ее голых плечах, длинные босые ноги, смуглый вырез груди, из которого исходило едва видимое теплое свечение. Подошла и легла рядом с ним на топчан. Сенник расступился и зашуршал, принимая ее большое сильное тело. Подушка, наполненная легкой благоухающей травой, опустилась под ее затылком, накрытая жаркими густыми волосами.
– Спят? – спросил он, чувствуя рядом ее округлое душистое плечо.
– Спят… Мне вдруг показалось, что у Васеньки жар. Но, кажется, нет, померещилось…
– Какая вкусная молодая картошка! А ты все сомневалась, сажать – не сажать…
– А как вела себя Строптивая Мариетта? У нее был очень заносчивый вид.
– Я ее хорошенько помыл. Сменил в фаре перегоревшую лампочку. И она вела себя примерно, как настоящая леди.
– Как я рада, Мишенька, что ты вернулся!
Он видел чердачное оконце, где брезжили, сочились мелкие частые звезды и что-то таилось, вглядывалось, прислушивалось из огромного прохладного неба, от которого они были отделены деревянным коробом крыши. Это звездное небо с душистым холодным воздухом, где бесшумно скользнула сова и недвижно чернела береза, не вторгалось на их чердак. Потеснилось, уступая им заповедное, крытое деревянным шатром пространство.
– Те дни, когда тебя нет, – говорила жена, – когда ты в поездках, я так тревожусь. Места не нахожу… Где ты? С кем? Не случилось ли что? Ни обидел ли кто тебя?.. А вдруг тебе повстречался какой-нибудь злой человек? Или какая-нибудь коварная красавица?.. И тогда я молюсь. Поворачиваюсь лицом туда, куда ты улетел, на запад или на восток. Сердце мое само собой открывается, и оттуда словно исходит луч. Отыскиваю тебя вдалеке за горами-морями. Напоминаю о себе, окружаю светом, заслоняю от зла… Ты чувствуешь, как я молюсь о тебе?..
Он чувствовал этот луч, когда в реве, сбрасывая с крыльев солнечную стеклянную бурю, взмывал его самолет. На секунду, во власти слепых и свирепых сил, как крохотная беззащитная песчинка, он вдруг ощущал, что его касается спасительная и благая сила – ее молитва, луч, в котором летела громадная сияющая машина. На стройке, когда в огромном коробе станции, среди бессчетных труб и приборов, пускалась турбина, и в асбестовом кожухе, словно в белом мучнистом коконе, начинала трепетать проснувшаяся громадная бабочка, оживали циферблаты и стрелки, наладчик прикладывал к кожуху длинную слуховую трубу, и от станции в ночь к таежным буровым и поселкам бежали бриллиантовые реки огней, он вдруг улавливал нежное прикосновение, чудесное дуновение – ее пальцы у себя на висках. Вечерами в гостиничном номере, когда из ресторана неслась манящая музыка, мимо дверей по коридору сладко и призывно стучали женские каблуки, раздавался волнующий, зовущий, доступный смех, он чувствовал, как ее невидимая рука касалась его глаз, снимала с их поволоку, и он, засыпая, целовал ее невидимую прохладную руку.
– Целыми днями стирка, плита… Дети хворают, капризничают… Тревоги, заботы, бессонные ночи… Где мое рисование? Где мой театр? Где мои эскизы к костюмам и декорациям?.. Один быт, одна непрерывная, непроглядная круговерть. Правильно ты меня как-то назвал – «чайная баба из цветных лоскутьев»… Но вдруг среди этих беспросветных хлопот, денных и ночных тревог Настенька ко мне подойдет, обнимет своей чудной ручкой, глянет сияющими глазами… Или Васенька вдруг улыбнется своей чарующей улыбочкой… Вот и награда мне за все мои труды и бессонные ночи. Им передала я мои краски, мои театральные спектакли, мои мечты и фантазии…
Он помнил, как она раскрывала мольберт среди красных в немеркнущем свете карельских сосняков. Как сидела с этюдником у бирюзового драгоценного озера, над которым летела гагара, роняя летучую каплю, и на водах расходились сонные заколдованные круги. Она рисовала его портрет, когда он писал рассказ в медовом свете керосиновой лампы, на дощатой стене висели сухие щучьи головы, в оконце беззвучно танцевали паучки и мерцало стеклянное озеро. Он поражался в ней чутким угадыванием его невысказанных желаний и мыслей. Ее колдовским, языческим обращением к природе, где она ловила знамения и приметы, неуловимые знаки на облаках и на водах, словно постоянно отгадывала загадку среди вечерних зорь, туманного месяца, плещущих в утреннем озере серебряных рыб. Там, в карельских лесах, где он работал лесником, она отыскала его, пробираясь, как в сказке, через чащобы и реки в его потаенную лесную избушку.
– Пусть я стала чайной бабой из цветных лоскутьев, но я мою жизнь посвятила тебе. Ты художник, тебе нужна свобода, ты ищешь перемен, новых впечатлений. В своей первой книге ты изобразил меня, описал наши путешествия, нашу чудесную любовь. Мне говорили: «Боже, как замечательно и возвышенно он тебя описал!» Но я ведь знаю, ты станешь искать другие образы, иные впечатления… А вдруг я тебе наскучу? Вдруг ты увлечешься другой?.. Наш с тобой мир такой хрупкий, такой уязвимый, накрыт этим сухим деревянным коробом, за которым притаились опасности, стерегут нас беды… Как нам уберечь наш маленький чудный мир?..
Он чувствовал ее страхи. Высоко, среди звезд, невидимый, шел ночной бомбардировщик. Металлический звук накрывал землю звенящим шатром, словно заворачивал ее в шелестящую фольгу. Легкий, всепроникающий звук просочился сквозь ветхую крышу, поместил их в незримый саркофаг, где они лежали, прижавшись друг к другу. Опустился ниже сквозь потолок в бревенчатую избу, где спали дети. И все они на минуту оказались уловленными этим металлическим звуком, захвачены в непроницаемый кокон, куда их тонко и искусно запаяли. Звук отлетал. Темная тень высотной машины, перечеркивая звезды, смещалась за леса и озера.
– Наш дом, наши милые дети, наша любовь – мы живем на светлом островке, где присутствуют добро, нежность, бережение друг друга. Мы словно очерчены невидимой линией, волшебным кругом, за который не могут перешагнуть напасти и беды. Но они рядом, за этим кругом, я чувствую их присутствие. Ждут, стерегут. Одно наше неверное движение, неосторожная мысль – и круг прорвется, они кинутся на нас, как оскаленные злые волки. Мы должны так беречь этот чудный островок, так хранить его. Каждый вечер я молюсь, чтобы добрая сила нас сберегла и спасла. Ты тоже молись, я прошу…
Он чувствовал ее горячее плечо, исходящую от нее жаркую, нежную, восхитительную силу, обнимавшую его. Чувствовал ее сберегающую женственность и свою от нее зависимость. Был благодарен ей за эту зависимость, преклонялся перед ней. Волшебный круг света среди черного неразличимого мира, где резвились их дети, а они любовались их точеными, перламутровыми телами, на которые из кувшина летела струя воды, – этот серебристый прозрачный круг был очерчен ее любящей охраняющей силой, и она при всей своей беззащитности обладала недоступным ему могуществом, удерживающим и не пускающим зло. Он любил ее, благоговел перед ней, признавал ее над собой превосходство.
– Тогда, в Карелии, когда мы с тобой познакомились и уже стали сужеными, и нам казалось, что навечно поселились в этой сторожке среди красных заиндевелых сосняков, ледяных, сине-зеленых на закате озер, трескучих морозов, и ты являлся в полушубке, застывший, со своим рюкзаком и ружьем, и ставил в сенях широкие малиновые лыжи, похожие на заостренные лодки, – ты помнишь, мы вышли ночью под звезды? Ты описал этот вечер в своей книге. Дорога была накатана, в ночном таинственном блеске окружена высокими черными елями, над которыми ослепительно, грозно, прекрасно сияли огромные зимние звезды. Меня охватило такое счастье, такое ликование, что вот мы с тобой молодые, любящие, не видимые никому, кроме этих громадных переливающихся звезд, шагаем по дивной дороге. Мы избраны, нам во славу зажжены эти торжественные звезды, нам уготовано такое блаженство, такая чудесная судьба. Я все старалась заглянуть в твое лицо, чувствуешь ли ты то же самое. Но ты шел впереди, большой, в валенках, в своем тулупе и косматой шапке, настоящий лесник, и я старалась поспеть за тобой, не поскользнуться на этой гладкой дороге и так любила тебя. Ты шел все быстрей, дорога поднималась в гору, я начала отставать от тебя. Звезды летели над елками как длинные яркие брызги, залетая за черные остроконечные вершины. Ты уходил вперед все дальше, думая о чем-то своем, быть может, о рассказе, который лежал недописанный на шатком тесовом столике возле печки. Ты забыл обо мне. Я подумала, что вдруг так и будет в жизни. Ты уйдешь вперед своим неповторимым путем, все быстрей и быстрей, туда, куда указал тебе твой гений, позвал тебя твой ангел-хранитель, а я останусь. Мне стало больно, страшно. Слезы выступили на глазах, звезды превратились в сплошной слепящий слиток. Ты почувствовал мою боль и беду. Остановился. Вернулся ко мне. Целовал меня в мокрые глаза. Мы медленно, взявшись за руки, брели по пустынной дороге. Было ужасно холодно. Звезды куда-то скрылись, на небе была тусклая мгла. И я подумала, что вот так же под старость, прожив жизнь, уставшие, без сил, мы будем шагать в туманных мглистых сумерках, застывая и немея. Впереди, среди елок, засветило, замерцало. Дорога заблестела, и нам навстречу выкатил автобус, старый, железный, похрустывая своим промерзшим коробом. Ты помахал. Автобус остановился. Шофер пустил нас внутрь. Там не было никого, только продырявленные сиденья, застывшие непрозрачные стекла, спина шофера, сутулая, с поднятым воротником. Мы катили в промерзшем автобусе, среди ледяного железа, скрипов, стуков, слабых поблескиваний на промороженных стеклах. Я подумала, что этот автобус, как челн, везет нас в последний путь – туда, откуда мы вышли. Водитель, как древний перевозчик, переправляет нас через реку жизни в царство теней и тьмы. И в этом – печальный неодолимый закон, под который мы с тобой, как миллионы других, подпали и следуем его неукоснительной воле. Ты описал в своей книге эту притчу о нас…









































