Текст книги "Пепел"
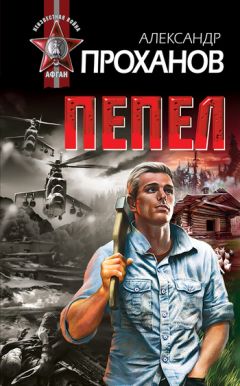
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ГЛАВА 3
Утром к нему вернулись тревога и мучительное непонимание, когда он вспоминал о вчерашнем наваждении. Стопка страниц лежала на столе, и он боялся к ней прикоснуться. Рассматривал свои темные скачущие письмена, в которых вдруг появлялись красные вкрапления. Он не пошел в лесной обход. В далеких лесных опушках за ночь, после первого мороза, появилось больше тяжелой синевы и меньше золотого и багряного. Он остался дома, потому что лесник Виктор Ратников собирался пригнать в Красавино грузовик с метелками, которые по заказу лесничества вязали женщины в окрестных деревнях. За эти метелки работницам платили деньги, и он, Суздальцев, должен был пересчитать товар и занести число веников в накладную. Предстоящая операция раздражала его и тревожила. Тетя Поля, узнав о вениках, переполошилась:
– Смотри, Петруха, лесники – мужики хитрые. Витька Ратников плут. Обсчитают тебя, и выйдет у тебя неприятность. Недостачу из своей зарплаты покроешь.
Она посмотрела в окно, откуда могла нагрянуть напасть в виде хитрого Ратникова и грузовика с березовыми вениками, а потом тихо и весело рассмеялась: «В деревне мы жили, я в роще гулял. Березки ломал, мятелки вязал».
Тетя Поля сняла с керосинки сковородку, плюхнула ее на стол, на подставку. Они завтракали, тыкая вилками в сковороду, черную, блестящую от масла. Картошка, которую они ели, попахивала керосином, и этот привкус раздражал Суздальцева. Было непривычно обходиться без красивых тарелок из старинного бабушкиного сервиза, без серебряных вилок с монограммами. Эта деревенская манера есть без тарелок, ударяя в чугунную сковороду алюминиевой вилкой, была неприятна. Казалась бременем, которое он должен нести, чтобы уподобиться деревенским людям, с кем теперь ему предстояло жить.
Из окна была видна деревенская улица, сухая от мороза, с длинной замерзшей лужей. У соседского дома крыльцо было косым, а гнилые венцы сплющились и просели. В доме проживал странный человек Николай Иванович, нелюдимый, кособокий, что-то вечно бормочущий. Он редко покидал свою избу, неизвестно было, чем он занимается целыми днями.
По улице проходили люди, и тетя Поля тянулась к окну, провожая их пытливыми взглядами и замечаниями:
– Это кто же такой в собачьей шапке? Не наш. Должно, в совхоз инспектор приехал. Эва, эва, Семка Закруткин, с утра пьян. В сельпо водку привезли, а он разгружал. Кудай-то Василиса Ивановна направилась. У ней вроде в школе уроки идут, а она не при деле.
И это назойливое любопытство тети Поли, ее следящие взгляды раздражали Суздальцева.
Он видел сизую, твердую, железную землю огорода, седые доски забора с присевшей, суетливой сорокой. Дверь соседского дома приоткрылась, и выглянул Николай Иванович, в шапке-ушанке, валенках и стеганой телогрейке. Тревожно оглядел двор, улицу. Скрылся и через минуту появился, пятясь, вытягивая из сеней козу. Тянул ее осторожно за рога; коза упиралась, цеплялась копытами за дощатый пол, а Николай Иванович что-то бормотал, приговаривал, извлекая белое, серебристое животное из темноты на свет. Отпустил рога, и коза скакнула, побежала по двору и остановилась, чутко нюхая морозный воздух. Стояла, белоснежная, чистая, с розовым выменем, с женскими, опушенными ресницами глазами. Николай Иванович с крыльца нежно, с обожанием смотрел на козу.
– Вон Николай-то Иванович подругу свою на прогулку вывел. Она у него в избе живет. Дураки говорят, что он с ней, как с женой, спит. Он, Николай Иванович, очень умный, но только умом трехнутый. Больно много читал, и что-то у него с умом случилось. Нигде не бывает, никого к себе не пускает. Только с козой и знается.
Коза грациозно ходила по двору, нюхала доски, выпуская из ноздрей легкие струйки пара. Несколько раз боднула отставшую тесину. Николай Иванович с крыльца нежно и печально смотрел на козу. Его, обычно испуганное, с затравленными глазами лицо было умиленным.
Суздальцев пытался представить эту странную судьбу, измученную несчастьями душу, для которой единственной отрадой оставалось это прекрасное женственное животное.
По улице возвращались из школы мальчишки. Размахивали портфельчиками, покрикивали. Увидали козу и Николая Ивановича, подбежали к забору, прильнули к щелям и стали дразнить:
– Козодой! Козодой!
Николай Иванович сжался, ссутулился, словно ожидал удара камнем. Кособоко спустился с крыльца к козе, стал тянуть ее обратно в дом. А мальчишки, упиваясь, хором кричали:
– Козодой, Козодой!
Тетя Поля накинула платок, побежала из избы, и Суздальцев слушал, как она кричала мальчишкам:
– Ишь, чего выдумали! Вот я вашим отцам-то скажу. Они вас надерут хорошенько!
Мальчишки в ответ смеялись, шли, размахивая портфелями, декламировали: «Козодой! Козодой!»
Суздальцеву была неприятна жестокость детей, гневный крик тети Поли и сама мучительная деревенская тайна, обитавшая в соседнем, полуразвалившемся доме.
К обеду появился долгожданный грузовик с метелками. Встал у окон, загородив свет. В избу просунулось бурачно-синее с мороза лицо Ратникова, его фетровая мятая шляпа, хитрые хмельные глазки:
– Начальство, принимай товар.
Суздальцев набросил пальто, вышел к грузовику. Шофер с небритым лицом равнодушно курил цигарку.
– Давай, Андреич, пиши в накладную сто шестьдесят штук, да мы поехали, – весело торопил Ратников.
– Пересчитаем, поедете, – сказал Суздальцев.
– Да на хрен считать. Пиши сто шестьдесят, не ошибешься.
– Посчитаем, тогда напишу.
Ратников был возмущен, сердито раздувал щеки, зло щурил маленькие зоркие глазки.
– Хочешь считать, считай. Я уже раз нагрузил, второй раз корчиться не буду.
Суздальцев, понимая, что его снова испытывают, видя насмешливое лицо шофера, толстые, по-бабьи гладкие щеки Ратникова, полез в кузов и стал по одному выкидывать веники на землю, ведя им счет. Веники мягко пружинили под ногами; пахли лесом, холодным, уснувшим в прутьях соком. Он бросал их вниз, стараясь не сбиться со счета, и раздраженно, тоскливо думал. Это он, знаток восточных языков, изучавший тонкости иранской поэзии и религии, баловень преподавателей, защитивший диплом с отличием, пренебрег всем этим, чтобы стоять в кузове зашарпанного грузовика, считать дурацкие метелки под насмешливыми и наглыми взглядами подвыпивших мужиков. Он выкинул на землю последний веник. Их оказалось не сто шестьдесят, как уверял Ратников, а всего лишь сто десять.
– Записываю, сто десять, – зло сказал он, раскрывая накладную, прижимая ее к капоту грузовика.
– Да на хрен тебе, Андреич, эта морока. Сто шестьдесят, сто десять – один хрен. Мужикам выпить охота, – развязно произнес Ратников, сплевывая на землю.
Этот презрительный плевок, злые блестящие глазки, насмешливые губы водителя вдруг вызвали у Суздальцева вспышку бешенства.
– Воровать не дам! За каждый пень, каждый прутик ответите! Так и скажи остальным! – и он грязно выругался, изумляясь этой грязной свирепой ругани. Он думал, что Ратников возмутится, ответит бранью. Но глазки лесника весело замерцали, он захохотал, обнажая ржавые зубы:
– Ну, ты, Андреич, даешь! Это не мы, это бабы так посчитали. Пиши, как знаешь, – и он стал подбирать веники, перекидывать их через борт. – Да, слышь, чего хотел сказать-то. Ты вон с ружьем ходишь в лес, а все пустой. Тебе нужна собака, лайка. Чтоб белку искала, рябчика. Есть у меня для тебя собака.
Это были слова примирения, которыми восстанавливалась их дружба и субординация.
– Что за собака?
– Лаечка молодая. Себе бы оставил, да мне тяжело по лесу с ружьем. Свое отстрелял. А тебе по дешевке продам, как начальнику.
– За сколько?
– Червонец. По дружбе, и как начальству.
– По рукам, – строго, как, должно быть, в подобных случаях говорят в народе, произнес Суздальцев.
– Слово кремень, – Ратников продолжал закидывать веники, которые в Москве, насаженные на длинны древки, превратятся в метлы, и московские дворники станут скрести ими улицы и подворотни. И Суздальцев заметил плутовское веселье, промелькнувшее на краснощеком лице лесника.
Он вернулся в избу, удрученный этой внезапной вспышкой бешенства, мерзкой, излившейся из него руганью. Огорченный, опустошенный, ушел за перегородку и лег на кровать, слыша, как отъезжает грузовик. Не глядел на стол, где лежала стопка опасных листков.
Петр задремал и проснулся в сумерках от громких голосов. Из темноты своего закутка, сквозь отдернутую занавеску, видел освещенную комнату, половики, неизменного черного кота и тетю Полю, которая разговаривала с гостьей. На гостье был надет короткий щегольской тулупчик, модные красные сапожки, она сидела на сундуке, положив рядом с собой мужскую кротовую шапку. Ее круглое молодое лицо было миловидным, с маленьким носом, тонкими выщипанными бровями, под которыми мерцали полные слез голубые глаза. Под левым глазом начинал багроветь, наливаться свежий синяк. Она жалобным плачущим голосом говорила:
– Да он зверь, пьяный пес! Чуть не по его – за топор и гоняется. Я детишек к матери в город отправила, чтобы они этот срам и ужас не видели. Сейчас пришел, и ну меня нюхать, оглядывать, каким я мужиком пахну. Начал бить, и с топором. «Зарублю, говорит, а куски твоим хахалям разбросаю». Не могу я больше, тетя Поля, нету сил!
– А ты, Кланя, на себя посмотри, может, ты виновата. Зачем мужа дразнишь? Тебя с лесорубами на лесосеке видали. С бригадиром Копейкиным куда-то в «газике» ездила. С солдатами прошлый год в лесу гуляла. Народ видит и Семке твоему докладывает. Какому мужу понравится?
– Да брешут все люди, тетя Поля, брешут. Ну, дразню я его, вид подаю, что есть у меня любовник. Не люблю я его, тетя Поля. Он, как волк злой, от него ночью бензином и железом пахнет. Наработается на грузовике, в сельпо бутылку купит, разопьет с мужиками и является домой злой, как черт. Бросается на меня с кулаками.
– А ты, Кланя, попробуй с ним по-хорошему. Приласкай, приголубь, какой-нибудь подарок ему сделай. Свитер ему купи, а то ходит в драном. Хорошую еду приготовь. Он ведь, Сема, смирным парнем был, аккуратным, приветливым. На гармошке играл. В самодеятельном театре участвовал. После армии стал другой. В каких-то атомных войсках служил, может, там мужскую силу свою потерял. Ты его лаской, добротой. Может, сила к нему вернется.
– Ненавижу я его, тетя Поля. Ночью просыпаюсь. Он рядом храпит, винищем от него несет. Думаю, встану, возьму нож кухонный и зарежу. Боюсь я себя, тетя Поля.
– Тогда вот что я тебе, девка, скажу. Сложи в кулек вещи и беги с его глаз долой. Иначе быть беде. Зарубит он тебя топором, сам в тюрьму пойдет, а детишек в детский дом сдадут. Послушай меня, Кланя, здесь большой бедой пахнет.
– Так и сделаю, тетя Поля, как говоришь. Сейчас соберу в кулек вещи – и к матери в город, с последним автобусом.
Поднялась с сундука, поправила растрепанные русые волосы, мельком глянула в старое зеркало, надела кротовую шапку и пошла к дверям, звонко цокая сапожками. Было слышно, как стукнула в сенях дверь.
Петр лежал в темноте и думал, что еще одна судьба, завязанная в свирепый узел, предстала перед ним. И он, взращенный мамой и бабушкой в нежности и любви, оказался среди трагедий и распрей, раздиравших мир, который издалека казался ему привлекательным и чудесным.
Они чаевничали с тетей Полей под оранжевым абажуром, который он купил в сельпо, закрыв голую лампочку. Тетя Поля подливала из чайничка бледную, с вялыми чаинками заварку, посмеиваясь и приговаривая: «Чай жидок». Наливала в блюдце, подносила к губам и громко отхлебывала, закусывая ломтиком сахара.
– Вишь, Кланька гулящая. Не может, чтоб не гульнуть. А мужик мается, с топором за ней бегает. Пока ты девка, гуляй на здоровье, а уж коли вышла замуж, терпи. Держись мужа до смерти.
Она вздохнула и посмотрела на стену, где висело множество блеклых фотографий. Свадьбы, крестины, похороны. Серьезные крестьянские лица, позирующие рядом с женихами, младенцами, покойниками. Какие-то солдаты, железнодорожники, шоферы с женами, детьми и племянниками, среди которых уже не найти тетю Полю. И отдельно от этой, застекленной в общую раму мозаичной фотографии – суровый усач с худым недобрым лицом и недвижным больным взглядом, покойный муж тети Поли.
– Иван-то Михалыч как строг был со мною, обижал, бил. Любовница у него была в городе, а я терпела. Потому да прилепится жена к мужу своему. Он мне в отцы годился. Пришел с германской войны, сапожник был замечательный. Кругом девок было много красивых, а он меня из нищей семьи взял. Я его любить не любила, а уважала. Он меня в живот бил, когда я на сносях была, вот мои деточки и рождались мертвыми. Там же на горе рядом с могилой Ивана Михалыча схоронены. Скоро и я к ним пойду, и снова семья образуется.
Суровый недобрый мужчина с солдатскими усами смотрел на них из деревянной рамы, и Суздальцев представлял, как рядом на горе, под громадными березами и косматыми вороньими гнездами стоят кресты, к которым тетя Поля на Пасху приносит крашеные яйца и ломти кулича.
Тетя Поля убирала со стола и готовилась ко сну, а он вышел на прогулку.
Дул ровный холодный ветер. Было звездно, льдисто. Земля под ногами, недавно жидкая, скользкая, казалась железной, и подошвы чувствовали металлические комья. В избах, незанавешенные, светились окна, наивно и простодушно открывая взгляду жизнь обитателей. Синел и дергался экран телевизора, освещая мигающим светом мужское лицо. В другом окне сидели за столом; женская рука поднимала половник, переносила в тарелку суп. В третьем окне шалили дети, и было видно, как мать беззвучно на них кричит, гонит спать.
Петр пробрался по проулку к реке. Веря, черная, без блеска, текла в черных берегах, слабо отражая звездное небо. Он прошел за село, где в бурьян вросли какие-то старые сваи, остатки старинных сараев и овинов. Тут же находилась разрушенная кузня, кирпичный остов с решетником кровли. Сквозь слеги холодно и недвижно смотрели звезды. Он остановился у кузни, чувствуя исходящий от нее запах старого железа, угля и окалины. Видимо, там еще сохранились остатки горна, ржавая наковальня, брошенные поковки. Звезды молча, ярко, словно выкованные из железа, блестели сквозь деревянные жерди. И казалось, здесь, в этой старой кузне работали кузнецы, которые сковали весь этот мир с железным сверкающим небом, железную мертвую землю, недвижную реку. Весь мир изошел из этой старой кузни, как из умершего остывшего лона, был издельем неведомых кузнецов. Петр испытал тоску и необычайную щемящую боль, словно он один остался среди этой железной Вселенной, без тепла и без света, последний живой человек среди мертвого мирозданья. И кто-то немой, суровый смотрел на него сквозь жерди и ждал, что он станет делать в своем одиночестве, как станет умирать под железным блестящим небом. Суздальцев почувствовал, как его лба коснулись ледяные железные персты, и это прикосновение проникло в его живое теплое тело и остановилось около сердца. Он возвращался домой, неся в себе это леденящее прикосновение.
Вернулся в избу. Тетя Поля спала. В ногах у нее кот блеснул из темноты зелеными глазами. Розовая лампадка тихо сияла пред медным окладом. Слабо искрилось стекло, за которым усатый николаевский солдат смотрел на свою спящую, состарившуюся вдову. Суздальцев прошел за перегородку и включил свет. Печка горячая, источавшая тихую сладость. У печки на гвозде стволом вниз двуствольное ружье. Все пространство каморки занимают кровать и стол. Слезится оконце, за которым, прикасаясь к стеклу, чернеют корявые колючки шиповника. На столе – томик Бунина, несколько исписанных листков. И, глядя на эти листки, он понял, что весь день дожидался этого часа. И когда наблюдал соседа Николая Ивановича, выгуливающего свою серебряную козу. И когда выбрасывал из грузовика шуршащие пахучие веники. И когда слушал жалобы избитой неверной жены Кланьки. И только что, гуляя под железными звездами. Весь день он дожидался этого ночного часа, чтобы сесть за стол и узнать, повторится ли необъяснимый вчерашний и пугающий опыт. Ворвется ли в его каморку загадочная война и ляжет на страницу нервным сумбурным текстом.
Он сел. Положил перед собой чистый лист бумаги. Взял ручку и приблизил к листу, ожидая, что в пространстве, отделяющем ручку от бумаги, проскочит крохотная трескучая искра. Начнет пульсировать электрический пузырек, превращаясь в громадный взрыв. Разрушатся стены избы, и в пролом с металлическим ревом и грохотом ворвется война.
Он держал над бумагой ручку, но ничего не происходило. Ночь молчала. Тикали ходики. Было слышно мурлыканье кота. Вчерашнее не повторялось. Блуждающий сигнал из Космоса не прилетал. Таинственный художник, писавший свою военную повесть, скрылся от него навсегда.
Мало-помалу его мучительное ожидание сменилось смутными фантазиями, и он снова стал обдумывать главу своего повествования, где русский странник, одолев бескрайние степи, переплыв полноводные реки, перебравшись через неприступные горы, очутился у волшебного города. Опираясь на посох, смотрит с изумлением на дворцы и мечети, вдыхает аромат райских роз.
Он уже касался бумаги, когда услышал тончайший писк, похожий на жужжание комара. Писк усилился, становился пчелиным жужжанием. Рокот налетал, становился ревом, и в стене открылся жуткий, наполненный дымом провал, и сквозь этот металлический дым длинной стальной струей ворвалась война. Захватывала его в свое дикое стальное стремленье…
Самолеты появлялись из-за хребта, как легчайшие проблески солнца. Начинали снижаться, вписываясь в тесную долину с городом, клетчатыми полями, образуя в воздухе медлительную карусель. Когда нижние увеличивались, блестели чашами винтов, качали алюминиевыми плоскостями, верхние все продолжали возникать над сверкающими пиками льда. Наполняли лазурь поднебесным металлическим рокотом. Первый самолет приземлился, ударил дымными колесами о бетон, побежал по полосе, гася скорость. Хвостовая аппарель опускалась; из хвоста, как семена, сыпались десантники. Веером разбегались в стороны. Мчались к диспетчерской вышке, к ангарам и самолетным стоянкам, а транспорт, жужжа, набирал скорость, двигался до конца полосы и взлетал, освободив место для следующего самолета. Взлетавшие и опускавшиеся самолеты создавали в небе сложную двойную спираль. Из хвостовых отсеков выпадали боевые машины, с ходу, с включенными двигателями, мчались в дальние концы аэродрома, беря под прицел ближние складки гор и рифленый, как вафля, город. Дивизия десантировалась, захватывая аэродром, и он смотрел, как, играя автоматами, сильно работая мускулами, пробегают мимо десантники. Последние облегченные транспорты по спирали уходили вверх, пропадая за кромкой хребта.
К нему подбегал капитан с белесыми лихими усиками, в камуфляже, в полосатой тельняшке:
– Майор, мы на месте. Берем под контроль объекты…
Суздальцев смотрел на листок, на котором остывал горячий металлический оттиск. Война искала его, преследовала, находила среди деревенского захолустья. Он был ей важен, был ее мишенью. Сидя в деревенской избе, под сонное тиканье ходиков, среди ночных недвижных лесов он вел репортаж о войне, на которой не был, не знал ее природы, не знал, где она протекает. Тети Полин дешевый приемник с бумажным циферблатом и стрелкой доносил до него разноязыкую речь, обрывки симфоний и джаза, назойливое вещание дикторов. Мир искрился конфликтами, но не было в мире войны. Не было белых хребтов, через которые перелетали военные транспорты, и десантная дивизия захватывала чужую страну. Таинственный майор со странно знакомым лицом сидел в боевой машине, расставлял на перекрестках незнакомого города броневики и танки, и толпа шарахалась от наведенных на нее пулеметов и пушек. Где проходила эта война? На каком континенте? Быть может, на другой планете, в иных мирах – и световая волна, блуждая в мироздании, отыскала его, вошла в резонанс, запечатлела на листке картины военных действий…
Улица была пуста и безлюдна, сужаясь, уходила вдаль, с удалявшимися по сторонам конторами, магазинами, лавками, над которыми пестрели выцветшие вывески. Впереди, на проезжей части валялась колесами вверх деревянная повозка, и упавшие с нее оранжевые апельсины рассыпались далеко на пустом асфальте. Он стоял по пояс в люке броневика, слушая бульканье рации, переговоры командиров частей, блокирующих центральные районы города. В удаленном конце улицы что-то кипело, бурлило, окутывалось едкой дымкой, источало ядовитое свечение. Так бурлит и вспыхивает попавший в желоб жидкий металл, стесненный тугоплавкими кромками. Слева, въехав на тротуар, стоял танк, нацелив пушку в соседние лавки и вывески. Броневики с пехотой стояли поодаль, уставляя пулеметы вдоль улицы, а он, выехав за ограждение, смотрел в бинокль, как кипит и клокочет далекая толпа, и оттуда доносился бессловесный рыдающий звук.
– «Кристалл!» «Кристалл!» Я «Гранит!». Огонь не открывать, действовать вытеснением. Как поняли меня?
Он смотрел в бинокль на рассыпанные апельсины, на вывески лавок. Среди блеклых раскрашенных досок ярко и сочно зеленела одна, с неразборчивыми письменами, и он выбрал зеленую вывеску, как рубеж, до которого он позволит толпе продвигаться.
Близко, с крыши двухэтажного дома, на котором был намалеван фарфоровый чайник и улыбающийся торговец держал в руках стопку фарфоровых тарелок, с крыши, из слухового окна, раздался выстрел. Пуля звякнула по броне, с унылым жужжанием отрикошетив в сторону.
– Рокот! Рокот! Я Кристалл! Снайпер на крыше дома. Слуховое окно над вывеской. Белый чайник на красном фоне. Уничтожить!
Он спрятался за стальной крышкой люка. Видел, как танк повел пушкой, отыскивая вывеску. Нашел. Оглушительно грохнуло, танк присел, выпуская из ствола дымное пламя. Верхняя часть дома с вывеской рухнула, и оттуда, вместе с дымом, на асфальт посыпались бесчисленные осколки фарфора, расколотые блюда, тарелки, цветные сервизы и чашки. На осколки выпал человек, в чалме и накидке, распростерся среди битой посуды, разведя ноги в шароварах и заостренных чувяках. Было видно его запрокинутое лицо с маленькой черной бородкой.
Толпа приближалась, но между ней и зеленой вывеской еще оставалось пространство. В бинокль были видны первые ряды толпы. Люди в балахонах и тряпичных повязках, взявшись за руки, сдерживали давленье задних рядов. Перед ними пятились вожаки с мегафонами, направляя в толпу рокочущие заунывные вопли.
– Кристалл! Кристалл! Я Гранит! Действуйте по обстановке.
Через пустое пространство улицы он чувствовал тугое, яростное, исходящее от толпы дуновение. Толпа приближалась, толкая перед собой волну неодолимой страсти и ненависти. Она была сильней взрывной волны, раскаленней кумулятивного пламени, могла прожигать броню, перевертывать танки. Она заливала улицу раскаленной неудержимой магмой. По сторонам улицы дымилось, пылило, опадали вывески, падали ставни и жалюзи.
Он чувствовал, как нервничает водитель броневика, как в танке сжался экипаж, как неспокойны солдаты на броневиках; их облучает слепая, исходящая из толпы сила, и они готовы спасаться, прыгать с брони, разбегаться по проулкам и подворотням.
Он чувствовал, как в нем начинается паника. Как тесно ему в люке, как начинает дрожать и плавиться лобовая броня, и он беззащитен перед этой слепой истребляющей силой.
Уже без бинокля были видны лица в толпе, открытые кричащие рты, воздетые кулаки, сжимавшие палки. Агитаторы пятились, ревели в мегафоны, выкликали «Аллах акбар!». Толпа подхватывала крики, превращала их в грозный пламенный выдох, от которого у него леденело сердце. Эти крики, этот неудержимый вал обрекал его на уничтожение.
Кромка толпы коснулась зеленой вывески. Кто-то прыгал, размахивал палками. Вывеска накренилась, косо повисла, а толпа прошла рубеж, приближалась. Пространство между ней и броневиком уменьшалось, наполненное сжатым светящимся воздухом, который нагнетался могучей помпой.
– «Кристалл!» «Кристалл!» Я «Гранит!» Разрешаю огонь на поражение. Как слышите меня, «Кристалл»?
Он окунулся в люк, обернулся к пулеметчику и срывающимся голосом прокричал:
– По толпе! На поражение! Огонь!
Близко, оглушительно, стучащими толчками загрохотал пулемет, выплевывая из раструба рыжее пламя. Трассы пунктиром полетели к толпе, промахнулись, летя над головами, опустились ниже и вонзились в середину толпы, выстригая в ней вмятину. Люди падали, толпа раздвигалась, из задних рядов наступал новый вал, и в него вонзались жалящие пунктиры очередей, выедая в толпе пустоту.
– Огонь! – как безумный, кричал он. – Огонь!
Толпа рассыпалась, втягивалась в соседние проулки, унося в глубину города отчаянные вопли ненависти. Пулемет умолк, ярко светлели рассыпанные апельсины, валялись вповалку люди в чалмах и накидках, и кто-то полз, отрывался от земли и падал, и снова продолжал ползти.
Суздальцев ошеломленно смотрел на исписанный лист. И вдруг в прозрении понял, что войны этой нет. Ее не существует в нынешнем времени, нет ни на одном из континентов. А она существует в будущем, и о ней никто, кроме него, не догадывается. Она скрыта от глаз военных, политиков и историков. Заслонена от них сегодняшней сумбурной действительностью. Никто не знает, где, на какой горе находится янтарный дворец, который штурмует безвестный батальон. Через какие хребты в алюминиевом солнце переплывают медлительные транспорты. На какой из улиц бесчисленных городов находится вывеска с фарфоровым чайником, в который целится танк. Эта война является вестью из будущего, и эта весть адресована ему, и он должен что-то немедленно сделать, кого-то оповестить, кому-то сообщить о грядущем несчастии. О грядущей войне, на которой погибнут спящие в эту минуту отроки, не ведая, что пули для них уже отлиты. Воспаленными глазами он смотрел на белый лист бумаги, не касаясь ручкой, и на белом листе возникали строчки.
Багровая заря над горами. Вечерний город, как пчелиные соты, лепится по склону горы. Желтые, как рыбий жир, огоньки. Город ошпаренный, липкий, словно с него содрали шкуру. Мятеж, подавленный пулеметами и грохотом танков, покинул улицы, укрылся в трущобах, свернулся в них, как остановленный вихрь, готовый вновь развернуться, хлестнуть по улицам своим чешуйчатым хвостом, раскрыть ужасный огнедышащий зев. Он стоит у мешков с песком, глядя, как десантник устанавливает в амбразуре сошки пулемета. И внезапный свистящий, грохочущий звук. От зари на город пикирует штурмовик, стреловидный, стремительный, проходит над городом, наносят хлещущий удар звука. Взмывает и уходит за горы. Другой штурмовик пикирует с другой стороны, нанося разящий удар, полоснув город свистящим хлыстом. Самолеты наносят по городу удары крест-накрест, загоняя мятеж в гнилые трущобы, не давая ему подняться. И в ответ, среди последних отсветов зари, под первыми звездами по всему городу булькая, звеня, как голошенье тетеревов на болоте, перекатываются, переливаются крики «Аллах акбар» – как вопли исхлестанного избитого города…
Суздальцев сидел за столом, и ему казалось, что на его теле взбухают рубцы.









































