Текст книги "Пепел"
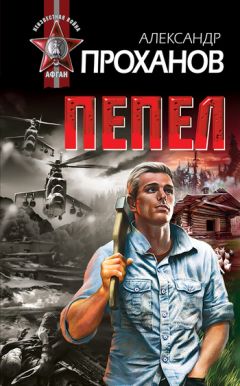
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ГЛАВА 4
Ночью сквозь сон Петр слышал, как шумит за окном, дрожит изба, ударяют в стекла мерзлые ветки шиповника. Словно кто-то ломился в его каморку. Он сжимался под одеялом, подтягивал колени к подбородку, словно хотел укрыться в материнском лоне от ужасов и опасностей мира, в котором был рожден. Проснулся в черноте холодной избы, слыша, как тетя Поля за перегородкой гремит сковородкой. Зажег свет. К темному слезящемуся оконцу были прижаты ветки шиповника с оранжевыми ягодами, и на них лежал снег, сгибал своей тяжестью колючие кусты.
Он наспех перекусил картошкой, следя, как лампочка отражается в черной масленой сковороде. Натянул сапоги и плащ с поддевкой, кинул на плечо ружье и вышел на крыльцо. Небо было черно-синее, едва тронутое рассветом. Кругом была светящаяся в синих сумерках белизна выпавшего снега. Ступени крыльца, огороды, тесовый забор, дорога, крыши соседних домов – все было белым. Ветер нес запахи сырых лесов и полей, в которые ночной буран принес снег.
Суздальцев схватил горячей рукой мокрый снег, слепил снежок, куснул его холодную сочную мякоть и метнул в доску забора, на которой вчера сидела и крутилась сорока. Услышал гулкий сочный удар, разглядел в темноте белую метину.
Бочка с застывшей водой была покрыта купой снега. Он положил на купу растопыренную пятерню, чувствуя, как тает под ней снег. Сизый лед с застывшим пузырем воздуха и вмороженный кленовый лист были припечатаны его пятерней. Зима была уловлена в бочку.
Он вышел на дорогу, заметенную снегом, с одиноким черным следом проехавшей машины. Шел по деревенской улице, заглядывая в незанавешенные окна. В избах топились печи, красное пламя озаряло полукруглый зев, в нем чернели чугуны, в которых хозяйки запаривали корм для скотины. Сами хозяйки, с ухватами, в платках, заслоняли на мгновенье красный огонь, и эти пламенеющие очаги создавали ощущенье древнего, языческого капища, среди которого сновали хранительницы огня.
Когда он вышел за село на гору, над черным лесом розовела заря. Когда шел через поле, проминая сапогами сочный снег, заря становилась все красней и огромней. Когда приближался к лесу, небо желтело, светлело, и ели стояли, покрытые снегом, а метелки сухой травы под ногами были забросаны белыми сливками.
Он направлялся к соснякам на болоте, где поджидал его лесник Сергей Кондратьев, которому вменялось заготовить сосновые семена. Собранные шишки он разложит на печи, дождется, когда расклеятся смоляные ячейки и из них просыплются семена. Их посеют в питомник, и через два года крохотные пушистые сосенки повезут на лесную пустошь и насадят лес.
Аукаясь, гулко перекрикиваясь, они отыскали друг друга. Кондратьев сидел на поваленном дереве среди невысоких развесистых сосен, с которых временами опадал тяжелый тающий снег. Лесник держал на коленях железные «когти», которыми пользуются электромонтеры, залезая на столбы. Подтягивал ремни, примеряя «когти» к своим кирзовым сапогам.
– Будем ветки, которые пониже, пилить и шишки с них обирать. Имеем полное право. Одну ветку спилим, а заместо нее лес посадим. Одно другого стоит.
Он нацепил «когти», засунул за пазуху ручную пилу и, широко расставляя ноги, пошел к сосне. Полез на нее осторожно и основательно. Упирался когтями в золотистый шелушащийся ствол, принимая на шапку и на плечи падающий снег. Суздальцев следил за его медвежьей грациозностью, радуясь своему участию в этой нехитрой лесной работе.
Кондратьев достиг нижних веток, угнездился поудобней и стал пилить пушистые, усыпанные шишками ветки. Обрушивал их с треском вниз. Суздальцев собирал зеленоватые, склеенные смолой шишки, пахнущие хвоей, канифолью, и ссыпал их в сумку. На пальцах его оставалась смола, и он лизнул их, почувствовав на языке вкус скипидара.
Кондратьев спустился, раскрасневшийся, с сизыми щеками, сбросил «когти» и достал завернутый в газету ломоть сала и краюху хлеба:
– Поработали, пообедаем. Имеем полно право.
Было славно сидеть на поваленном дереве среди заснеженного леса, жевать розоватое, твердое от холода сало, заедать черствым хлебом.
– Я че тебе хотел сказать-то, Андреич. Спасибо за три куба, которые ты мне простил. Я из них венцы срубил. Теперь на избу хватит. Лес, он чей? Государственный. А мы чьи? И мы государственные. Значит, имеем полно право брать пару-другую лесин, если на избу не хватает. Избу не для себя ставлю. Я, может, скоро помру. А дети в стоящем доме жить будут. Имеют полно право.
Суздальцев внимал мужицкой мудрости, находя ее справедливой, не осуждая этих плутоватых, кормящихся от леса людей за их мелкие хитрости и утайки. Радовался тому, что среди темных покосившихся изб встанет новая с золотыми венцами изба, и в этом будет его, Суздальцева, малая бескорыстная заслуга.
– Я тебе вот что скажу, Андреич. Если ты всерьез из города сюда перебрался, строй дом. Лес твой, возьмешь из него, что надо. Имеешь полно право. Я тебя плотничать научу. Шкурить, пазы рубить, хошь в лапу, а хошь внахлест. Приходи ко мне подмастерьем. Скатаем, решетник поставим, дранкой покроем. Будем пить, гулять, новоселье справлять. А что, – обрадовался он внезапно подвернувшейся рифме, – имеем полно право!
Суздальцев любил его, был благодарен этому зрелому мужику за то, что заслужил его доверие. Был готов идти к нему в подмастерья, чтобы вместе с ним перекатывать по снегу пахучие золотые бревна, врубаться отточенным топором в крепкую древесину, выламывать белые хрустящие щепки. И встанет его, Суздальцева, дом, крепкий, ладный, с золотистыми венцами, с торчащим из пазов кудрявым мхом, с резными наличниками и нарядными стеклами, отражавшими розовую слюдяную зарю. Его дом поднимется рядом с убогой избушкой тети Поли. И он заживет в этом доме, уважаемый всеми в окрестных деревнях лесной объездчик. А вместе с ним – румяная дородная жена, из тех красавиц, что встречаются ему на деревенских улицах в цветастых кустодиевских платках, с озорными веселыми глазами.
– Ого, гляди-ка, Андреич, белка!
Суздальцев увидел, как по вершинам сосен, отталкиваясь четырьмя лапами, прыгает белка. Перенеслась на голую, с корявыми ветвями осину, теряя высоту, пышно распустив хвост. Метнулась вверх по стволу, скользя синей тенью. Пробежала по ветке, стряхивая с нее снег. Полетела в воздухе к соседней березе, влетая в прозрачную крону, цепляясь за шаткие ветки, сжимаясь в упругий комок, распрямляясь в гибкую голубоватую пружину. Грациозно, выписывая легкие иероглифы, бежала, словно чертила в небе таинственную строку. Были видны ее уши с кисточками, заостренная мордочка, красноватое брюшко и синий плещущий хвост, который загибался, как драгоценная буквица.
– Андреич, что рот раскрыл! Стреляй!
Лесник бросил сумку с шишками, азартно побежал сквозь деревья, преследуя зверька. Суздальцев, восхищенно, испуганно наблюдая воздушный пролет белки, схватил ружье, повел стволами вслед красно-голубой трепещущей белки. Выстрелил. Сквозь дым и блеск огня увидел, как белка сорвалась с ветки, упала на нижнюю, попыталась зацепиться, карабкаясь ввысь, опять сорвалась и головой вниз, дрожа хвостом, упала в снег. Несколько раз свилась в завиток, распрямилась и замерла. Небо, из которого она выпала, казалось пустым, словно омертвело и выгорело. Петр побежал к добыче, не понимая, ликовать ему или горевать.
– Стой, слышь, Андреич, не трогай руками. Если живая, прокусит. Зубы у ей, как иглы.
Кондратьев подошел первый, тронул зверька сапогом. Белка не шевельнулась. Лежала, нежно и грациозно протянувшись по снегу. В голове недвижно мерцал темный глазок. Около мордочки на снегу краснели катышки крови.
– Молодец, Андреич, скоро шубу себе сошьешь. Имеешь полно право. Ты хоть умеешь их разделывать?
Суздальцев покачал головой. Ему было жаль белку, которую он выстрелом смахнул с вершины. И казалось странной возможность коснуться руками недоступное, не знавшее человеческого прикосновения существо. И была радость, упоение первым охотничьем успехом, благодарность лесу, который послал ему этот дар.
– Учись, Андреич, белку разделывать.
Сергей Кондратьев достал перочинный, остро отточенный нож. Поднял белку. Держа головой вниз за лапу, сделал длинный надрез, вскрывая ей пах. Просунул палец в основание хвоста, с треском потянул, извлекая из пушистого голубоватого меха длинный, красный, заостренный на конце костяной отросток. Стал сдирать потрескивающую шкурку, обнажая красные липкие мускулы ног. Рассекал кости на кончиках лап. Сволакивал чулком шкурку, обнажая белую влажную изнанку. Сделал последний, у основания носа, надрез. Отсек вывернутую изнанкой шкурку с синим хвостом от красной мокрой тушки с худыми фиолетовыми ребрами и оскаленной головой. Кинул тушку на снег, и она, красная и горячая, окруженная белизной, плавила снег.
– Повесь над печкой, пусть сохнет, – передал он шкурку Суздальцеву, и тот чувствовал неисчезнувшую теплоту зверька, парной и едкий запах рассеченной плоти.
Вдалеке послышался гулкий окрик. На него отозвался Кондратьев, и скоро сквозь стволы замелькала тучная, неловкая фигура, и к ним на поляну вышел Ратников. Не один. Его опережала проворная пушистая собака. Замерла, увидев незнакомых людей. Чуть слышно заворчала. Осторожно приблизилась к красной ободранной беличьей тушке и понюхала ее, брезгливо отвернувшись. Так же осторожно подошла к Кондратьеву и Суздальцеву, обнюхала их. Побежала обратно к Ратникову. Это была чистокровная лайка с густым серым мехом, остроконечными чуткими ушами и упругим кольцом хвоста. Ее узкая молодая морда была дружелюбна, глаза весело и остро блестели, и от нее исходила веселая энергия, игривая радость.
– Ну, Андреич, ты стрелок. Какого зверя завалил, – Ратников тяжело дышал, усмехался, протягивал для пожатья руку. – А я слово-то держу. Собаку тебе привел. Какой охотник без собаки? Белками мешок набьешь… Дочка, Дочка, иди сюда, вот твой новый хозяин.
Собака подбежала, скакнула ему на грудь, стараясь лизнуть в лицо. Суздальцев видел, какой у нее сочный розовый язык, блестящие клыки, какие пышные вылетают из черных ноздрей букеты пара.
– Давай, Андреич, гони червонец. Собака твоя.
Суздальцев извлек смятые деньги, передал Ратникову, а тот вытащил из-за пазухи свернутый брезентовый поводок и протянул Суздальцеву.
– Возьмешь на поводок, выведешь из леса, а потом отпускай. Не убежит. Поймет, кто хозяин, – и он, защемив поводок на кольце ошейника, передал его Суздальцеву. Еще немного они оставались втроем. Кондратьев перекинул через плечо железные «когти», подхватил сумку с шишками и пошел через лес к своей деревне.
– Хочешь, обмоем покупку? – спросил Ратников, кивая на собаку. – Ну как хочешь, – и пошел через лес тем же путем, каким явился.
Суздальцев, держа на поводке крутящуюся собаку, пошел на просеку, строго покрикивая на лайку, когда она запутывала поводок в кустах или обматывала его вокруг своего горла.
На опушке, выйдя на поле, он спустил собаку с поводка. Она оглянулась на лес, в котором исчез ее недавний хозяин, кинулась в поле, радуясь свободе, влажной белизне. Перебегала из стороны в сторону, удалялась, едва заметная на снегу, снова подбегала. А он шагал через поле, гордясь своей новой ролью хозяина. В его подчинении находилось теперь это жизнерадостное, красивое и милое существо, которое то подбегало близко, взглядывая своими умными вопрошающими глазами, то уносилось вперед. Рылась черным носом в снегу, вынюхивая мышь или заячий след, а он временами окликал ее: «Дочка, Дочка!» – и она преданно, с готовностью мчалась на его оклик.
Он уже любил ее, уже не мыслил себя без нее. В своей свободе, в своем одиночестве он обрел друга, преданного провожатого, с которым они станут неразлучно бродить по лесам. Вот если бы его сейчас увидали мама и бабушка, почувствовали его счастье, то перестали бы горевать о нем, порицать его уход из дома. Вот если бы его увидала невеста, она поняла бы его стремление к свободе, к вольной жизни охотника и лесника, которому незачем связывать себя узами обыденной городской жизни. Собака бежала впереди, оставляя на снегу когтистые отпечатки. Он шагал следом, неся в рюкзаке убитую белку, думая, что теперь и впрямь сбудется предсказание лесника Кондратьева, и с помощью обретенной лайки он настреляет в лесу белок на меховую щегольскую шубу.
Затемнели на бугре избы Красавина, появился из низины шатер колокольни с покосившимся ржавым крестом, на котором в часы заката вдруг загорались крупицы золота. Петр собирался взять собаку на поводок, чтобы пройти по улице независимо и сурово, как настоящий охотник и лесной объездчик. Из окон, прилипая носами к стеклам, станут смотреть ему вслед деревенские соглядатаи. Но сколько он ни звал лайку, сколько ни кричал, подзывая ее: «Дочка! Дочка!», собака издали смотрела на него веселыми глазами, не подходила, кружила по полю. А у первых изб кинулась в огороды и исчезла. Он сердито, огорченно шагал по улице, надеясь добраться до дома, скинуть рюкзак и ружье и отправиться на поиски строптивой лайки.
Навстречу ему, сгибаясь в три погибели, опираясь на клюку, шла Анюта Девятый Дьявол. Платок ее был плохо завязан и свисал у подбородка, как длинная борода. На ногах были калоши, надетые на шерстяные носки, и каждый шаг давался ей с трудом и болью. Дергался ее страдающий горб. Ее догоняла простоволосая, в незастегнутой шубейке женщина, племянница старухи. Она приехала из каких-то отдаленных мест ухаживать за теткой, дожидаясь, когда та помрет и дом перейдет в ее собственность.
– Ну, куда ты, тетя Анюта, намылилась? Ты же дурная, безумная, в поле замерзнешь, – говорила племянница, поглядывая на проходящего Суздальцева, скорее для него, нежели для несчастной старухи. – Ну, куда ты, тетя Аня, намылилась?
– Поликарпушка зовет, – тихо, шепча беззубым ртом, произнесла старуха.
– Ну, какой Поликарпушка? Дядя Поликарп убит, и у тебя за иконой на него похоронка, и места этого, где он похоронен, ты не знаешь. Пойдем, пойдем домой, пока не замерзла. – Она обняла старуху, развернула ее обратно и бережно повела домой. Так, чтобы Суздальцев видел ее терпеливую заботу и смирение, с какими она ухаживала за безумной старухой.
Вошел в дом, скинул сапоги, повесил у печки ружье. Извлек из рюкзака белку и показал тете Поле.
– «В островах охотник цельный день гуляет, если неудача, сам себя ругает», – встрепенулась она, глядя на белку. – В другой раз у нас к обеду заяц будет.
Дверь отворилась, и две гневные, крикливые женщины переступили порог, встряхивая в воздухе комки перьев, из которых торчали куриные лапы и окровавленные огрызки шей.
– Что же это творится! Кто же это, чертяка, собаку с привязи спускает! Какая она собака, если кур давит!
– Жили, как жили, пока из города всякие не понаехали. Бешеных собак развели. Им, городским, все легко дается. Здесь каждого куренка вырасти, корм купи, выхаживай, пока яйцо не пойдет. А эти городские, как баскаки.
– Пусть за кур заплатит. А не то в милицию жалобу, в эпидемстанцию. Пусть приедут, дуру бесхозную застрелят!
Женщины шумели, трясли безголовыми курами, отрясали на пол рябые перья. Тетя Поля, смущенная, виноватая, переводила глаза с разгневанных соседок на несчастного жильца.
– Валентина, Галина, он же не нарочно собаку спустил. Ему сегодня дурную собаку подсунули. Он вам заплатит. По три рубля за курицу.
– Какие три! Пусть по пять платит, по-рыночному. Они только в этом годе нестись по-настоящему стали. Холера на его голову!
Суздальцев ушел за перегородку, достал скромные деньги, которые получил в лесничестве. Отсчитал пятнадцать рублей и вынес женщинам. Те приняли деньги, умолкли. Гнев прошел. Та, что кричала громче остальных, спокойно спросила:
– Кур-то себе возьмешь или нам оставишь?
– Себе берите, – ответил Суздальцев, желая, чтобы они поскорее ушли. Прислушивался к затихающим на крыльце шагам, смотрел на упавшие на пол куриные перья.
– Кто же тебе, Петруха, порченую собаку подсунул?
– Витька Ратников.
– Ах, он бессовестный! Плут бесстыжий! Начальству своему пакость сделал. Ты его за это прижми. Он мне в прошлом годе дров обещался привезть, до сих пор везет.
Огорченный, жалея денег, которых едва хватало на жизнь, он вышел на улицу. Стал звать, свистеть:
– Дочка, Дочка!
И собака выскочила на его голос, подбежала, уставила на него милую мордочку, высунув розовый язык, жарко дыша паром. Казалось, она улыбается, ждет от хозяина похвалы, гордится совершенным собачьим подвигом.
Суздальцев взял ее на поводок. Гнев его прошел. Милое, простодушное животное не ведало, что сотворило. Он был сам виноват тем, что не взял ее на поводок при входе в деревню. Повел ее в сени. Тетя Поля строго, с негодованием смотрела на собаку:
– Не вздумай ее в сарай пускать. Там мои куры. Вот здесь в сенях, на полу, пусть лежит.
– Не замерзнет?
– Чего? Они, лайки, на снегу ночуют. Вон, кинь ей ветошку.
Суздальцев постелил на пол драный тулупчик. Привязал поводок к скобе. Наклонился и погладил меховой загривок, чувствуя, как пахнет псиной, как в темноте благодарно и преданно лизнул его собачий язык.
Он вернулся в дом, где тетя Поля уже зажгла лампу. Достал из рюкзака влажную беличью шкурку. Продел в оставшуюся от глаза дырочку суровую нитку, завязал петлей и повесил белку под потолок, у печки. Попав в поток теплого, исходящего от печки воздуха, шкурка медленно завертелась, отбрасывая на стол длинную хвостатую тень.
Весь день, блуждая по лесу, разгребая руками снег и вдыхая запах красных и желтых листьев, обрывая смоляные шишки с сосновых веток, целясь в белку, летящую в вершинах голубой стрелой, подзывая на снежном поле резвящуюся собаку, – весь день он тайно ожидал сокровенного ночного часа. Затихнет и опустеет дорога, погаснут в избах огни, уляжется тетя Поля, и он окажется один в своей каморке перед листом бумаги. Станет ждать пугающей грозной минуты, когда в ветхую избушку хлынет бог весть из каких пространств свирепый стальной поток.
Он сидел, робея, держа над бумагой ручку, ожидая, что на кончике ручки возникнет раскаленная капля, плеснет огнем. И, разрубая синенькие обои, возникнет прогал в дымную металлическую даль, из которой ему на грудь прыгнет ужасный зверь, хлынет война. Ляжет на бумагу сумасшедшими каракулями. Он смотрел на кончик ручки, видя, как тень от висящей белки медленно скользит по столу, но огненный контакт не возникал. Цветочки на голубеньких обоях наивно желтели, и бурный поток не пробивал стену. Словно он иссяк, утратил свою сокрушительную силу, не мог пробиться из другого пространства и времени.
Постепенно его мысли стали рассеянными. Он с раздражением подумал о Ратникове, который подсунул ему не натасканную, порченую собаку. О Кондратьеве, у которого станет брать уроки плотницкого ремесла и поставит посреди Красавина новый добротный дом. Он вспомнил дятла, который вцепился коготками в трухлявый березовый стол, цепко двигался вокруг него, нанося клювом бесчисленные дробные удары. Он слышал этот мелодичный стук, и он усиливался, становился громче и резче, превращался в металлический грохот, в надрывные пулеметные очереди. И обои на перегородке стали бугриться, выгибаться, и с оглушительным треском возник пролом, дымный туннель, сквозь который дул жестокий сквозняк. Петр пролетел сквозь туннель, одолевая пласты пространства и времени, и очутился на бетонном шоссе, под знойным солнцем…
На дороге во всю длину стояли боевые машины, развернув пулеметы и пушки к глиняным стенам селенья. Из гончарного скопища куполов и лепных ограждений доносилась нестройная стрельба. Еще недавно командир полка отправлял взвод под командование лейтенанта в лабиринты глиняных улиц, в скопленье куполов, похожих на сухие ржаные лепешки. Лейтенант, маленький, ладный, похожий на нетерпеливого молодого петушка, приглаживал золотистый хохолок, напяливая на него каску. Играл глазами, слегка пританцовывал, торопился исполнить приказ, демонстрируя солдатам свое бодрое бесстрашие и командирскую лихость.
– Есть прочесать кишлак! Есть зайти со стороны виноградника! Се ля ви! Вас понял, товарищ полковник! – Махнув солдатам, он ловко перепрыгнул кювет, побежал к строениям, утягивая за собой взвод солдат с автоматами, в касках.
Теперь комполка стоял возле командирского бэтээра, прижимал к небритому горлу тангенту, связывался по рации с попавшим в окружение взводом:
– Я – Первый! Я – Первый! Что там у вас, Четвертый? Доложить обстановку!
– Горячо, се ля ви! Обстрел с обеих сторон! Плотный стрелковый огонь! Есть потери, се ля ви! – доносилось по громкой связи, и звуки очередей, пропущенные сквозь шуршанье эфира, сливались с очередями, летящими в солнечном воздухе.
– Выходи из-под огня, «Четвертый»! Возвращайся на дорогу, Кравчук!
– Мы в мешке, командир. Лупят со всех сторон, се ля ви!
Колонна броневиков, вытянувшись вдоль дороги, отливала зелеными гранями и углами брони. Она казалась чужеродной этим гончарным дувалам, глинобитным неровным строениям, старомодным куполам и башням. Встреча брони и глины знаменовалась очередями, глухим разрывом гранаты, истерическим бульканьем рации.
– «Четвертый», как слышишь меня? Ответь, «Четвертый»! – командир полка тщетно взывал по рации, в которой хлюпало и стучало. – Ответь, «Четвертый»!
Вместо бодрого лейтенантского говорка, то и дело повторявшего «се ля ви», раздался дрожащий надрывный голос:
– Лейтенант Кравчук убит! Командование принял старший сержант Коновалов.
– Сержант, выходи оттуда к гребаной матери! Бери людей и выводи на дорогу!
В стороне от кишлака на поле появилась цепочка солдат. Они сторонились кишлака, огибали его по широкой дуге. Впереди четверо солдат несли убитого, подхватив его за ноги и плечи. Высоченный солдат нес на плече лейтенанта, перекинув его голову к себе за спину. Хромая, опираясь на плечо товарища, шел раненый. Остальные прикрывали отход, стреляли в пустоту. И в ответ из кишлака звучали редкие неприцельные выстрелы. Солдаты вышли на дорогу и уселись у обочины. На их лицах не было ни страха, ни азарта, а была пустота и тупость. Они сняли каски, отложили автоматы, пили из фляжек. Не встали, когда к ним подошел командир полка.
Лейтенант лежал на спине, лицом вверх, закатив полные слез голубые глаза. На нем не было каски, и озорно торчал петушиный золотой хохолок. На лбу, между воздетых белесых бровей, краснело пулевое отверстие, из которого вяло сочилась кровь.
Командир полка заглянул в лицо лейтенанта и тихо прошептал:
– Се ля ви!..
Суздальцева вдруг осенило. Тот, чьи глаза видели эту безымянную войну. Кто летел в военном транспорте на луну. Кто мчался на стреляющей боевой машине к ночному дворцу. Кто смотрел в бинокль на ревущую в азиатском городе толпу, а потом отдавал приказ стрелять по льющейся человеческой лаве. Кто сжимался от рева истребителей, полосующих бичами город. Кто видел лейтенанта с петушиным шальным хохолком и черно-красную дырочку меж белесых бровей. Все это был он, Суздальцев, перенесенный из тесной избушки в будущее, еще не существующее время. Та несуществующая война отыскала его в глухой деревне, выхватила из каморки, перенесла в неведомую азиатскую страну, где происходят бои и смерти. Это ошеломило его. Он не видел себя на той войне, не видел, как выглядело его постаревшее лицо. Была ли в волосах седина. Топорщились ли над верхней губой офицерские усы. Но знал, что это он. Его сегодняшнее пребывание в деревенской каморке через бесконечные цепи событий, через вереницы причинно-следственных связей перетекает на ту загадочную войну, которой еще нет – и которая неизбежно случится…
Убитый лейтенант лежал на обочине лицом вверх, и по щеке из раны вяло сочился алый ручеек. Второй убитый лежал на боку, словно спал, и его бледное остроносое лицо казалось усталым и равнодушным. Раненому санинструктор бинтовал бедро, солдат всхлипывал и постанывал от боли. Другие солдаты, отложив автоматы и каски, пили из фляг; не могли напиться, словно заливали водой горевшие в них угли.
Кишлак казался безлюдным, без дымка, без крика, без выстрела, словно обитавшая в нем жизнь, отбившись от вторжения, спряталась под глиняными колпаками и сводами. По другую сторону от дороги, где курчавились старые безлистые виноградные лозы, мерно приближались три верблюда. Качали грациозными шеями, возносили надменные головы, колыхали на горбах полосатые переметные сумки. Впереди вышагивали два погонщика, высокие, худые, в белых чалмах и белых длинных балахонах. Краснели из-под тюрбанов их лица, большие носы, чернели округлые бороды.
– Что за чучела? Взять, привезти сюда! – приказал комполка. Офицер и трое солдат кинулись наперерез каравану. Остановили, что-то объясняя, тыкали стволами автоматов. Погонщики повиновались. Повели верблюдов к дороге, туда, где их ожидал командир полка.
– Кто такие? Откуда? – спрашивал он погонщиков, когда они вместе с верблюдами приблизились к бэтээру. – Как здесь оказались?
Погонщики не понимали его, спокойно смотрели коричневыми глазами, что-то жевали, перетирая жвачку белыми зубами. Жевали погонщики, жевали верблюды. Лежал лейтенант с пулевым отверстием, и другой убитый отдыхал на боку.
– Обыскать! Что в мешках?
Офицер охлопал погонщикам плечи, бока и бедра, и было видно, как худы, сухощавы их длинные тела под белой тканью. Офицер отомкнул от автомата штык-нож, подошел к верблюдам и полоснул ножом висящие на верблюжьих боках мешки. Из мешков посыпалось зерно, и вместе с сыпучей золотой пшеницей на землю выпал черный, с лысым прикладом карабин. Офицер подхватил карабин, повертел, поворачивая шишку затвора, выкидывая из ствола патрон; тот упал на траву, желтея остроконечной пулей. Протянул карабин командиру.
Это был старый карабин времен англо-бурской войны, с седым стволом, с блестевшей от прикосновений рукоятью затвора, с ветхим прикладом, в котором переливалась перламутровая инкрустация, – дань уважения и любви азиатского хозяина к верному оружию. Карабин своей тяжелой усталой красотой мог поведать о горных засадах, где стрелки поражали английскую пехоту, целя точно меж глаз. Об охотах в горах, где меткий охотник бил в глаз пролетающую через пропасть косулю. Из такого карабина в глиняных теснинах селенья был убит лейтенант, и пуля, подобная той, что желтела в сухой траве, пробила лейтенанту череп.
– С оружием? В районе боевых действий? Расстрелять!
Погонщики спокойно жевали, не понимая чужой речи. Верблюды возвышали головы над кормой бэтээра.
– Расстрелять! Отведите их в поле и расстреляйте!
Солдаты стволами указали погонщикам поле. Те спокойно пошли, по окрику офицеров остановились и повернулись своими красными гончарными лицами.
– Цельсь! – приказал офицер. Солдаты подняли стволы, и погонщики, не меняясь в лице, продолжали жевать. – Пли!
Раздались короткие очереди, и погонщики упали назад и чуть вбок, одинаковые, длинные, вытянувшись белыми балахонами среди черных трав.
Командир полка заложил два пальца в рот и свистнул, пихнув сапогом верблюда. Животные побежали вдоль броневиков, перебирая длинными ногами, раскачивая горбоносыми головами. Солдаты, вышедшие из боя, продолжали пить, словно в каждом горела груда углей.
Он понимал, что присутствует на неведомой войне, является ее участником, и эта война без него невозможна. Через бесчисленные причинно-следственные связи она рождается здесь, сегодня, в утлой избушке с тиканьем ходиков и стуком в окно колючей ветки шиповника. Она рождается из его движений, мерцания зрачков, мыслей об этой войне. И если нарушить ход сиюминутных движений и мыслей, круто изменить поведение неожиданным поступком и мыслью, то собьется весь ход причинно-следственных превращений, пойдет в иную сторону, и войны не случится. Он обманет войну, обыграет, не даст ей зародиться в этой ночной каморке с высыхающей под потолком беличьей шкуркой, с его испуганной шальной мыслью.
Ему казалось, что он нашел средство избавить мир от войны, избавить себя от участия в этой войне. Он поднял руку и резко провел пятерней по волосам. Взял ручку и на чистом листе бумаги нарисовал крест, обведя его кругом, – символ, разрушающий истоки войны. Вспомнил о невесте, как они лежали в ее комнате в темноте, окно было распахнуто, шумел дождь, пахло железными крышами, и он ее целовал бесстыдно, страстно, видя ее всю своим хищным мужским зрением. Она, не стыдясь, позволяла себя целовать, и губы ее в темноте улыбались. И это страстное воспоминание смещало его относительно той точки, где должна была зародиться война.
Он встал, осторожно, чтобы не скрипели половицы. Прошел мимо спящей тети Поли к дверям. Отворил дверь в сени. Вышел и, чувствуя плечами морозный воздух, нашел в темноте лежащую на овчине собаку. Она слабо визгнула, лизнула ему руку, и он гладил ее по загривку, думая, что и это поглаживание меняет весь последующий ход событий, уводя его от войны, мешая ей зародиться.
Вернулся в избу. Смотрел на лист бумаги с крестом и овалом. Но символ, останавливающий войну, не действовал. Лист покрывался его болезненными письменами.
В модуле за помещением медсанбата, под яркой электрической лампочкой на дощатом топчане лежал убитый лейтенант. Он был голый, и солдат-узбек ополаскивал его из шланга. Струя разбивалась о грудь лейтенанта, теребила пах, ударяла в лицо, рыхлила рот. И тогда казалось, что лейтенант жадно пьет, хватает струю бурлящими губами. Золотистый хохолок почернел от влаги. Все его ладное, мускулистое обнаженное тело стеклянно блестело. Другой узбек поставил на электроплитку банку с оловом, смотрел, как на расплавленном металле дергается мутная пленка. Тут же стоял жестяной гроб, в который оба узбека переложили мокрого лейтенанта. Нарыли крышкой со смотровым оконцем, в которое выглядывало остроносое, с русыми усиками лицо. Тут же лежал большой паяльник с остатками запекшегося олова. Стояла скамья с тряпьем. Узбеки, смуглые, изможденные, с печальными лицами, сели на скамью. Один достал из кармана кусок сахара в синей бумажной обертке. Отломил половину и отдал товарищу. Оба сидели и медленно грызли сахар. Лейтенант выглядывал на них из оконца.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































