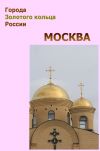Текст книги "За оградой Рублевки"

Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
За поворотом дороги раздался шум автомобильного двигателя, от которого давно отвыкло село. На улице показался синий автомобиль с хромированным толстоносым радиатором, и мулла подумал, что это приехал его старый знакомый Адам, который служил теперь главой района, – явился в село для инспекции школы, где, наконец-то, после годового перерыва, начались занятия. Учительница, еще не получая зарплату, уже раздобыла новый комплект учебников и открыла начальные классы.
Автомобиль одолевал подъем, разбрызгивая грязь, и мулла остановился, поджидая машину, радуясь встрече с другом. Синий автомобиль поравнялся с муллой, темное боковое стекло опустилось, и два автомата в упор расстреляли муллу, опрокинув его спиной в грязь, так что от удара отлетела чалма и обнажилась голая стариковская голова. Женщины в криках прижались к стенам, а синий «Лендровер», задавив гуся, развернулся и, кидая из-под толстых колес ошметки грязи, умчался из села. Мансур трогал автоматный ствол пальцем с арабским перстнем. Из теплого ствола сочился прозрачный пахучий дымок.
Вечером, в горном лагере, в блиндажах, скрытых под корнями огромных вязов, боевики отдыхали. Чистили оружие, жарили мясо. Привели из земляного укрытия русских пленниц, – двух медсестер и молодую учительницу. Велели раздеться и на ватных одеялах насиловали. Выходили под звезды разгоряченные, запахивая ремни, уступая место товарищам, слыша, как хрипят они, утыкаясь колючими бородами в женские груди, содрогаются худыми спинами, ненавистно и страстно раздирая женскую плоть. Мансур, хватая зубами окровавленные губы белокурой медсестры, вбросил в нее свое огненное семя. Вяло поднялся, испытывая отвращение и усталость. Приказал адъютанту Арби:
– Ликвидируй русских сук!
Голых женщин вывели в ночь, на морозный хрустальный воздух. Отвели к ручью и убили из пистолета. Мансур видел, как вспыхивают от выстрелов букеты пламени, падает белое тело. Женщины лежали в темноте, слабо белея, как груды талого снега.
Елизаров был вызван в палатку к подполковнику ФСБ, собиравшему агентурные донесения от агентов о местонахождении банд. По этим донесениям уходили на поиски группы спецназа. Подполковнику нездоровилось. Он жался к горящей печке. Ноги его были в теплых носках и тапочках Он был белесый, с залысинами, с усталым желтоватым лицом. Елизаров увидел полевой телефон, прислоненный к столу автомат и бумажную иконку Богородицы, пришпиленную к брезенту палатки.
– Мой «источник» сообщил, что Мансур планирует серию терактов против глав администраций и мулл, выступающих против ваххабитов. Был убит мулла Ибрагим-ходжа, зарезан еще один родственник Ахмада Кадырова, тяжело ранен глава чеченской милиции в районе Даргоя. А нам не удается его ликвидировать. – Подполковник смотрел на стакан горячего чая, в котором кружились чаинки.
– Моя группа работает без отдыха третью неделю, уходя на реализацию ваших разведданных, – сказал Елизаров, – Но либо данные не верны, либо Мансур обладает способностью проваливаться сквозь землю.
– Его можно взять.
– Сбросить атомную бомбу в предполагаемый район дислокации?
– Он приедет на похороны своего близкого родственника.
– Кто у него умер?
– Никто. Вы с группой пойдете в его родное село Галсанчу и убьете его отца. Оседлаете дороги, ведущие в село. Мы дадим артиллерии координаты предполагаемых целей. Когда Мансур поедет на отцовские похороны, мы осуществим огневой налет при поддержке вертолетов и штурмовиков. С помощью агентов мы запустим слух, что смерть старика – месть кровников из банды Негра, которую подставил Мансур. Вам понятен план операции?
– Когда выступать?
– Завтра утром.
Чаинки крутились в темном стакане чая. На брезенте отсвечивала пришпиленная иконка.
Елизаров с группой на двух бэтээрах достиг подножия округлой, красно-пушистой горы, за которой находилось село Галсанчу. Бэтээры укрылись в распадке, а капитан Елизаров с двумя бойцами двинулся пешком на гору, медленно пробираясь сквозь осенние заросли, среди наклоненных деревьев, которые сыпали им на плечи багряную листву. Елизаров нес на плече снайперскую винтовку, вдыхая сладкие ароматы осени.
Одолев вершину, они спустились на выгон и увидали село. Оно слабо дышало, окруженное туманами жизни, среди лазури неба, разноцветных осенних вершин, сверкающих голубых ледников. Казалось перламутровой раковиной. На выгоне, за околицей, неподалеку от каменного старинного дома, паслась корова. Стояло одинокое дерево, почти потерявшее листву. Елизаров оставил прикрытие в зарослях, а сам по-змеиному сполз с горы и прижался к дереву. Винтовку он положил рядом на выступавший из земли гнутый корень. К вечеру из дома должен появиться старик, отвязать корову, повести ее на ночлег. И тогда он выпустит в старика одинокую точную пулю.
Елизаров смотрел на дом, служивший убежищем нескольким поколениях горцев, среди которых возрос Мансур, – бегал в детстве по этому выгону, сидел под этим деревом, гнал тонким прутиком розовую корову, был любим, вдыхал сладкий ветер, летевший с голубого хребта, а потом превратился в смертельного врага ему, Елизарову, который видит смысл своей жизни, в том, чтоб его убить.
Елизаров вспомнил своего отца, когда тот, молодой, сильный, сажал его к себе на плечи и нес через хлебное поле, и он, замирая от страха, любя отца, видел с его высоких плеч белую пшеницу, темный дубовый лес и красный платочек матери, поджидавшей их на опушке.
Он лежал на холодной земле, положив винтовку на гнутый корень, и дерево, раскрывшее над ним свой темный, наполненный лазурью купол, было древом познания Добра и Зла.
Когда белый хребет стал голубым, а потом нежно-розовым, и на нем загорелись зеленые драгоценные пики, на выгон из дома вышел старик в бараньей папахе, в долгополом пальто, с деревянной клюкой. Медленно приближался к корове. Останавливался, оглядывался на горы, словно хотел углядеть среди вечерних вершин тайный знак, посланный сыном Мансуром.
Елизаров видел старика сквозь прозрачную, как синяя капля, оптику прицела, и ему вдруг почудилось, что он целит в своего отца, постаревшего, страдающего от болезней и ран, сидящего сутуло у столика, на котором, голубая, словно сосулька, переливается афганская ваза.
Ему захотелось кинуть винтовку, стать невидимым, превратиться в бестелесный пучок лучей, улететь с земли.
Это длилось секунду. Папаха, белая борода старика, его коричневое лицо слабо волновались в прицеле. Елизаров, задержал дыханье, нажал на спуск, не услышав слабого чмоканья. Старик упал. Корова стояла на выгоне, и над ней, далекий, прозрачный, догорал ледник.
Елизаров отошел от села и расположился с группой спецназа на вершине высокой горы, откуда открывалась расселина и змеилась белесая, словно посыпанная мукой, дорога. На этой дороге должен был показаться «Лендровер» Мансура, которого достигло ночное известие о смерти отца. Старика обмыли, обмотали белой пеленой, положили на дощатую кушетку. За селом на кладбище продолбили длинную щель, поджидавшую белого, похожего на личинку, покойника. В доме женщины в черном варили плов.
Елизаров смотрел на дорогу, на старый каменный мост, под которым блестел ручей. Дорога, мост, окрестные склоны были целями, которыми располагала батарея дальнобойных гаубиц, штурмовики и вертолеты. Когда появится на дорогое Мансур, Елизаров по рации передаст сигнал в штаб, пушки и авиация нанесут по Мансуру истребляющий огневой удар.
По дороге в село прошло несколько женщин, и Елизаров в бинокль видел их мотающиеся долгополые юбки. Просеменил ишачок с кулями, за которым поспевал мальчик в малиновой шапочке. Протрещал мотоцикл, выбрасывая густую гарь. На багажника мотоцикла был прикреплен молочный алюминиевый жбан.
Мансура не было, и Елизаров молил, чтобы тот появился и увенчалась успехом мучительная операция. И одновременно с тайным суеверием не желал его появления. Словно жизнь Мансура была соединена с его, Елизарова, жизнью, и пока жив этот жестокий отчаянный горец, жив и он, Елизаров.
В прозрачном воздухе гор, где слышно падение одинокого камня и хруст обломившейся ветки, послышался далекий рокот мотора. На дороге появилась синяя тупоносая машина, и в бинокль Елизаров различал пятна грязи на дверцах, хромированный радиатор, смутные тени за стеклами. «Лендровер» Мансура приближался к мосту, и Елизаров, нажав на тангенту рации, кратко выдохнул: «Я – Гранит!.. Цель вижу!.. Огонь!..»
Еще несколько минут машина надсадно урчала, виляя в ухабах, подвигаясь к мосту. И когда толстые колеса въехали на каменную кладку моста, над горой просвистел и прянул первый снаряд. Взрывом оторвало берег ручья, и черный букет грязи распушился в стороне от машины и медленно опал. Взрывы вставали по сторонам от дороги, окружали машину, как черные великаны, и «Лендровер» уклонялся от них, юлил, пытался развернуться, но его накрыло ударом. Машина горела, а на нее наваливались взрывы, дробили горы, выпаривали воду ручья, швыряли на дрогу расщепленные горные вязы. Потом пикировали вертолеты, сотрясая плоскими взрывами мост и остатки «Лендровера». И последними, надрезая стеклянную лазурь тонким белым резцом, работали штурмовики, отламывая горы тяжелыми ухающими взрывами. Когда налет прекратился, Елизаров с бойцами спустился к дороге, бродил среди тлеющих угольков, осматривал уничтоженную прямым попаданием машину, лохмотья обгорелой окровавленной ткани, истерзанную, с расщепленными костями плоть. На дороге, в мучнистой колее Елизаров увидел оторванную руку, и на скрюченном пальце тускло блестел перстень с арабской вязью.
Нажал на тангенту рации: «Я – Гранит!.. Цель уничтожена!..»
Вечером в палатке, у накаленной до малиновых пятен печки, группа спецназа сушила одежду, чистила и перебирала оружие. Солдаты слушали «кассетник» с записью группы «Любэ». На брезенте красовались вырезанные из журнала голые женщины, ослепительно улыбались, выставив розовые груди. Елизаров чистил автомат, закапывая в ствол желтоватое масло. На досках стола лежали рядом серебряная ладанка Богородицы и тяжелый мусульманский перстень с узорной вязью. И было чувство, что он живет на земле уже тысячу лет, воюет сотую по счету войну, и новые войны, как горы, идут на него одна за другой.
ПЛАХА ВО ЧРЕВЕ
Тусклое московское утро в угрюмом рокоте улиц, с черной бегущей толпой. В небе синяя гарь, перекрестья проводов, реклама водки, церковный крест. Чиновники занимают в кабинетах столы, раскладывают папочки с документами, отвечают на звонки телефонов. Торговцы на рынках считают первый барыш, мусолят деньги, прячут в тугой кошелек. На телеэкране модный режиссер рассказывает о новом спектакле по мотивам Шелом-Алейхема. А здесь, в больнице, за серыми стенами, немытыми окнами, среди желтоватого несвежего кафеля, в тесной операционной, готовятся к абортам. Длинный, накрытый клеенкой стол, похожий на гладильную доску. Две опоры для женских ног, похожие на стремена. Круглый стульчик хирурга с потертой кожей от долгих сидений и ерзаний. Сестра с недовольным лицом ставит эмалированные медицинские миски, вынимает из кипящего тубуса стальные инструменты, ссыпает в миску их сверкающий, окутанный паром ворох. Флаконы, банки, ватные тампоны. Журнал регистраций.
В коридоре дожидаются женщины. Их несколько, записанных на операцию. Разные по возрасту, по достатку, по социальному положению. Единые в одном – в каждой притаился живой зародыш, маленький сочный эмбрион. Прилепился к их материнской утробе, слабо трепещет, пульсирует, нежно пьет живые материнские соки. Для этих нерожденных младенцев – хромированная сталь инструментов, кипяток, отточенные лезвия, крючья. Материнское чрево – плаха, где состоится казнь. Кафельная операционная – место казни. Вокруг операционной, превращенной на время в центр мира, вращаются по орбитам – президент в золоченом кремлевском кабинете, патриарх, совершающий утреннее богослужение, хлебопек, вытаскивающий противень с румяной выпечкой, писатель, затевающий увлекательный роман. Москва своими миллионами, жилыми кварталами, банками, министерствами окружает операционную, заглядывает в немытые окна, собирается к месту утренней казни.
Входит хирург, немолодой, тучноватый, – зеленая мятая шапочка, неловко сидящий халат. Присаживается на креслице поудобнее, ерзает ягодицами, осматривает посуду, ножи, булькающую кастрюлю, чем-то похожий на повара, у которого на кухне затевается нехитрое блюдо. Суп из младенцев. Сестра, крахмально-белая, свежая, держит в руках оранжевый резиновый жгут.
– Первую на стол! – командует хирург, продевая пальцы в резиновые перчатки.
Дверь растворяется, и на каталке сильные, немолодые санитарки, упираясь, тяжело дыша, похожие на рабочих лошадей, ввозят женщину. Большая, пышная, с розоватой кожей, с расплывшимися грудями. Волнуясь, поправляет прическу, сжимает ноги, обутые в короткие зеленые бахилы.
– Перекладываем! – командует хирург.
Женщину переваливают, перетаскивают на стол. Санитарки подымают ей ноги, укладывают на подставки, и она лежит, раздвинув колени, воздев к потолку ступни, зачехленные в бахилы. Ее большой живот с глубоким пупком взволновано дышит. Испуганная, беззащитная, водит по сторонам выпуклыми глазами.
– Двойную дозу, за деньги! – дает указание хирург.
Сестра жгутом перетягивает женщине руку, так что на сгибе начинает пульсировать темно-синяя вена. Ловким уколом впрыскивает снотворное, выдергивая тонкую, блеснувшую под лампой иглу.
– Приступаем!
Снотворное омывает ее сумеречным беспамятством, погружает в текущие воды темных сновидений. Веки опускаются, под ними стекленеет влажная, неприкрытая полоска глаз, повернутых прочь от слепящего света хирургической люстры, в глубинный колодец уснувшей памяти, где колеблется безымянный животный мрак.
Женский живот дышит. Колеблется легкий волосяной лобок. Смугло-коричневое лоно слеплено, склеенно, как морской моллюск. В нем, упрятанный в материнскую плоть, уже забытый матерью, преданный ею, отданный на заклание, притаился плод. Крохотный красный клубенек, в котором набух прозрачный пузырек головы, наметились водянистые горошины глаз, выступают скрюченные, едва намеченные лапки с пупырышками пальцев. Колбочка, в которой, как в капельнице, пульсируют соки, сочится теплая влага.
Каждая секунда прибавляет ему щепотку народившихся клеток, увеличивает его, как растущую почку, нацеленную вовне, из материнского лона, во внешний мир. И этот мир приготовил ему снаружи отточенную сталь, иглу, крюк, скребок. Подстерегает у врат, готовит смерть.
Женщина, лежащая на одре – почтовая служащая, незамужняя, с ничтожной зарплатой. Ребенок ей в бремя, – не прокормит, не вырастит. Не решилась стать матерью-одиночкой. Пошла на аборт, уже шестой.
Хирург на секунду задумался, словно кто-то положил ему на сердце камень, еще один, в дополнение к бесчисленным, из которых сложена огромная башня его смертного греха. Продлевает жизнь эмбриону, – комочку из красных пленок, сеточке кровеносных сосудов, капельке живого раствора, из которых мог бы взрасти Сергий Радонежский, Петр Первый, Семен Дежнев, Сергей Есенин, Юрий Гагарин. Или просто раб Божий, русский человек, сын доброго, жертвенного, бесстрашного народа, который населил огромный материк между трех океанов, утвердил могучее государство, прожил великую историю, сотворил иконы и книги, дворцы и храмы, реакторы и самолеты, а теперь исчезает с земли, как весенний пар на лесных опушках, оставляя беспризорной огромную пустеющую страну.
– Начали! – Хирург протягивает руку к орудиям, удобно разложенным на столике.
Зеркало из хромированной полированной стали, в виде желоба, похожее на сапожный рожок, изогнутое, отражающее голубую молнию лампы. Уходит в промежность, в черный зев, направляя внутрь яркую вспышку света. Отражает темно-красную нишу, священный кокон, где зреет потаенная жизнь. Стальные расширители растворяют трепещущее лоно, не дают ему сжаться, расталкивают нежную ранимую плоть. Скребок-кюретка, с отточенными кромками, насажен на пластиковый шланг насоса. Орудие убийства, металлический стержень, сжатый резиновой перчаткой. Медленно уходит в лоно, в распахнутую глубину, передавая чутким пальцам хирурга прикосновение к нежным стенкам, к мускулистой наполненной матке, к прилепившейся, сочной личинке будущего человека. Рывок скребка. Красный флакон зародыша лопается, из него вытекает жижа. Насос с чмоканьем, хлюпом выпивает красную, как варенье, жижу, прогоняет ее сквозь прозрачную трубку. Малиновая трубка дергается, гонит перетертого в слизь и сукровицу крохотного человека. Взорванную, не успевшую развиться галактику. Раздавленную у истоков судьбу. Казненную безгрешную душу, чей неслышный вопль, заглушаемый чмокающим звуком насоса, подхватывают рыдающие ангелы. Прижимают к груди убиенное дитя, похожее на нераспустившийся красный цветок. Влекут его в райский сад.
Хирург работает ловко, точно. Двигается взад-вперед скребок. Хлюпает насос. По сияющему желобу зеркала льется алая кровь. Женщина на столе вяло колышется, как выхваченный из моря, брошенный на палубу кит. В ней движется острая сталь. Ее свежуют, расчленяют, отделяют от мироздания. От смысла бытия, от старости, когда, утомленная, поседевшая, смотрит из окна, любуясь, как удаляется ее взрослый прекрасный сын. Оглядывается на нее, машет в окно, а в него из невидимой бойницы стреляет снайпер, разбивает вдребезги череп, и этот снайпер – она сама, поместившая сына в перекрестье прицельной оптики.
Женщина постанывает в забытьи. Не от боли, а от непрерывного ужасного сна. От кошмара, который ей не дано запомнить. Будто в ее лоно забрался огромный слепой крот. Роет, протачивает ход, прорывается сквозь живот, сердце, горло, в самый мозг и там сдыхает. Тухлый, разбухший, лежит в мозгу, раздвинув костяные лапы, отекает трупным ядом.
Полтора миллиона абортов делается сегодня в России. На миллион в год сокращается популяция русских. К середине века нас останется семьдесят миллионов. С таким населением не удержать территорию, не сохранить дееспособную армии, не построить флот и космические группировки, не отстоять русскую цивилизацию. Все, что происходит сейчас в неказистой операционной с рыжеватым потрескавшимся кафелем, – это уход из Сибири, отказ от Енисея и Лены. Это японцы во Владивостоке, китайцы в Иркутске. Это немецкие поселенцы в тирольских шляпах с нарядными фазаньими перьями возвращаются в родной Кенигсберг. Это турецкая армия проводит военный парад в Назрани. Примитивные стальные стержни, гуляющие в чреве усыпленной женщины, – оружие уничтожения русского языка, православия, технологий XXI века. Насилие над этикой, надругательство над Божественным законом, сокрушение основ мироздания.
Красный шмоток изрезанного эмбриона плюхнул на кремлевский стол президента. Поскользнулась на красной слизи нарядная туфля патриарха, читающего елейную проповедь. Строчки романа под пером модного писателя вдруг покраснели, стали плыть, отекать.
Хирург длинным, как клюв журавля, пинцетом хватает пропитанный йодом тампон. Просовывает женщине в чрево. Сильно и резко протирает рану. Вытаскивает стальной окровавленный клюв. Сбрасывает мокрую черно-коричневую вату.
– Готово! – устало вздыхает.
Санитарки проворно завозят каталку. Умело переваливают со стола спящую женщину. Ее груди безжизненно, жирно свисают. Живот топорщится уродливыми складками. Она пустая, с вырезанной сердцевиной, как крупная рыбина на плавбазе, у которой высекли живое нутро.
– Следующую! – громко зовет хирург.
Снова – колесница с двумя боевыми конями, и на ней, – неподвижная, мраморно-белая, с легким голубоватым отливом античной статуи, молодая женщина. Чудесно сложена, с небольшими, округлыми грудями, длинной шеей, строгим точеным лицом. Живот чуть заметно дышит. Нежное солнышко лобка. Глаза зеленоватые, под тонкими золотистыми бровями. В ушах сережки с крохотными зелеными камушками. В ней действительно нечто античное, не хватает золотого венка на красивой гордой голове. Нечто от жертвы, приносимой жестокому языческому богу.
К аборту ее, учительницу младших классов, побудили квартирные условия. С мужем и сыном живут в двух маленьких комнатах. Очередь на новую квартиру не двигается десять лет. Денег на новое жилье им с мужем, тоже педагогом, никогда не скопить. Она беременна девочкой, о которой мечтала. И этот аборт – тяжелейшая для нее драма.
Ее перекладывают на операционный стол, как на жертвенный алтарь. Она недвижна, отрешена, позволяет умелым жрицам распоряжаться ее телом. Те вдевают ее разведенные ноги в железные стремена. Наматывают на белую бессильную руку оранжевый резиновый жгут. Укол, который ее усыпляет, ничего не меняет в ее позе, дыхании, выражении лица. Кажется, что она омертвела задолго до того, как явилась сюда. В тот момент, когда решилась на заклание дочери.
Миссия русской женщины в истории народа огромна. Рожая по десять – двенадцать здоровых, полнокровных детей, выкармливая их обильным молоком, воспитывая на колыбельных песнях, сказках, церковных балладах, русская женщина наплодила жизнелюбивый, деятельный, богомыслящий и добрый народ, кому было дано освоить громадные просторы Евразии, создать небывалое государство, не просто сочетающее в себе множество вер, языков и культур, но и обращенное на единое для всех народов Откровение в Любви и Благодати. Это всепримиряющее откровение, эту женственную, свойственную России доброту несла в себе русская крестьянка и дворянка, солдатка и монахиня. Удар, которым России выламывается сегодня из истории, – есть в том числе и удар по русской женщине, которую лишают святости деторождения, пропускают сквозь абортарии, ведут в амбарных книгах строгий учет не родившимся русским воинам, ученым и пахарям.
Крохотная квартирка, в которой учительница приняла решение убить свою дочь, не может сравниться с дворцами и палаццо в «Городе Золотых Унитазов», где живут языческие беспощадные боги, кому приносится кровавая жертва. С платиновыми рогами на костяном желтом черепе, с татуировкой паука на груди, Потанин, вставивший себе никелированные зубы, в каждом из которых горит изумруд. Дерипаска, огромного роста, с алюминиевой головой, с яростными, как прожекторы глазами, что прикрыты красными очками, отчего вокруг его лба пышет негасимое багровое зарево. Могучий, с квадратными плечами, опирающийся при ходьбе на волосатые передние конечности, Абрамович, победивший на недавнем конкурсе красоты, где он выпил до дна золотую пиалу с нефтью. Седой, согбенный, с берестяной торбой за спиной, с деревянным посохом паломника, Чубайс, – поставит торбу, вынет из нее берцовую кость и задумчиво грызет, глядя вдаль на черную, без единого огонька и фонарика Россию.
Все они смотрят сейчас, как лежит на операционном столе усыпленная женщина. Благодарны за жертву, которая она им приносит. По этому случаю они ликвидировали прошлогоднюю задолженность учителям по зарплате, и она выкроила деньги на платный аборт и анастезию.
– Поехали! – с удальством произносит хирург, начиная очередной космический старт с целью умертвить неродившуюся планету.
И снова изогнутое, как сверкающий бумеранг, зеркало. Жестокие, раздирающие лоно расширители. Кюретки, отточенные, как стамески. Жуткая чмокающая трубка насоса, по которой бежит малиновая жижа. Алый язык крови в металлическом желобе. Хирург старается, тяжело дышит. Вгоняет в нее железо. Вбивает костыль в разъятую матку. Чтобы там, на кровавом пустыре, больше никогда ничего не рождалось. Только груда ржавых гвоздей и обрывок колючей проволоки.
Каково ханжество президента, запрещающего смертную казнь, когда по всей стране, от Смоленска до Владивостока, неутомимо, без суда и следствия, с библейской яростью царя Ирода казнят младенцев. Под трехцветным флагом и двуглавым орлом, под музыку михалковского гимна работают гильотины, на которых изрезаются на части полтора миллиона младенцев.
– Якубович, что растет на «Поле чудес»?
– Трупик младенца…
Женщину, белую, мертвенную, окаменелую, увозят на катафалке. Она красива и недвижна, словно статуя. Ее поставят на могиле убитой дочери.
Третья женщина – вылитая кустодиевская красавица. Нежно-розовая, светящаяся, с необъятными бедрами, с млечными пышными грудями, на которых набухли лиловые, словно сливы, соски. Лицо круглое, румяное, доброе, с синими теплыми глазами, с пунцовыми губами и милыми смешливыми ямочками. Волосы густые, соломенной копной, перевязаны шелковой ленточкой, спадают тяжелым литым завитком на широкое, округлое плечо. Поставь рядом с ней блюдо с плодами земными, посади на перину с пестрыми подушками, принеси фарфоровый чайник с нарядным золотым петухом, окружи все это дорогой золоченой рамой и выставляй, как чудесный образец русского искусства незабвенных двадцатых годов.
Однако живот ее непомерно велик. От крупного припухшего пупка до светлого нежного лобка пролегла смуглая полоса материнского пигмента, какой проступает на теле роженицы на последних месяцах беременности. И само появление ее необычно. Вместе с ней, слегка придерживая каталку, входит человек в белом халате, лысый, остроносый, с зоркими въедливыми глазами под двойными окулярами. Похож на остроклювую внимательную птицу с набухшим зобом. В руке у него хромированный цилиндр с рукоятью, в котором, как бело-розовое облако, отражается обнаженная красавица. Посетитель и хирург обмениваются доверительными взглядами. Произносят несколько им одним понятных речений. Женщина на каталке вздыхает, волооко смотрит на хирурга:
– Больно будет?
– Не почувствуешь, милая. Будешь, как спящая царевна.
Она уже на операционном столе. Голова хирурга оказывается между ее приподнятых, обутых в бахилы ступней. Резиновая перчатка осторожно ощупывает живот. Словно гладит невидимый, перезревший плод, – нежно по головке, за ушками, щекочет подбородок, делает смешную «козу». Сестра с особой тщательностью вяжет жгут. Выделяет на сдобной руке темную ягодку вены. Впрыскивает снотворное, заглядывает в васильковые, меркнущие глаза, словно в их лазурной глубине осторожно погасили свет.
Зеркало, как турецкий ятаган, погрузилось в лоно. Стальные расширители пружинно раздвинули мягкую беззащитную плоть. Но нет ужасной пластмассовой кишки и насоса. Нет грубых заточек и скребков. Хирург заглядывает в лоно, поворачивает зеркало. Остроносый в очках нервничает, двигает зобом, как птица выпь.
В руках у хирурга инструмент, напоминающий глубокую ложку, какой черпают мороженое, выкладывая в вазочки шарики пломбира. Ложка на длинной рукояти погружается в женскую утробу. Рука хирурга осторожна, нежна. Что-то мягко нащупывает, к чему-то прилаживается. И вдруг напрягается, с чем-то борется. Дергает, словно выдирает гвоздь. Движется назад, вытягивая ложку из женщины.
Кажется, что в ложке лежит огромная сочная клубничина, липко-красная, мокрая. Потом, когда хирург выносит ее под ослепительную люстру, видно, что это крохотный человек с выпуклой лобастой головкой, курносый, с зарытыми веками, темными дырочками ноздрей, скрестил на груди ручки, поджал короткие ножки, весь прозрачный, дрожащий, трепещущий, словно глазированное изделие стеклодува, оторванное от длинной трубки, сквозь которую наполняло его творящее, созидающее дыхание.
Хирург приподнимает добычу, протягивает ее на показ остроносому визитеру. Тот отвинчивает крышку цилиндра, подставляет хирургу. И тот скидывает туда эмбрион, как сливают в банку пойманного сачком тритона. Остроносый заглядывает внутрь, словно смотрит, как плещет в глубине сосуда живое существо. Завинчивает крышку и, что-то бормоча, уносит цилиндр из комнаты.
Женщина лежит на одре, подурневшая, поблекшая. Из нее толчками хлещет кровь – на пол, на инструменты, на хирурга, на медсестру, на Третьяковскую галерею, на Ивана Великого, на Москву, на Волгу, на Куликово поле, на Полярную звезду, на дорогу в Рай, по которой чинно, самодостаточно ступают непорочные праведники.
Женщина, которую оперировали, за немалые деньги выращивала в себе шестимесячный плод. А потом продала его для нужд современной медицины. Засекреченная наука использует плоть и кровь младенцев для изготовления гормональных препаратов, которыми лечат самых избранных, незаменимых для человечества персон. Продлевают их век, возвращают здоровье и молодость, исцеляют от недугов и немощей.
Извлеченный плод, помещенный в цилиндрический холодильник, вынесли из клиники, где у ворот стояла черная иномарка с лиловой мигалкой. Включив сирену, понеслась по городу туда, где волшебную вакцину ждал изнемогающий Ельцин. Как наркоман в ломке, мучился, умолял, чтобы ему влили кровь очередного русского младенца.
Он лежал голый на мраморном постаменте, в готическом зале, среди склоненных красных знамен, взятых в качестве трофея после разгрома СССР. Над ним склонился прилетевший из Америки величайший врач всех времен и народов Дебейки. Тут же была Наина Иосифовна, похожая на голубицу. С ней рядом, в подвенечном убранстве, с белой фатой и флердоранжем стояла дочка Татьяна, вышедшая в очередной раз замуж. Медицинские светила, командующие армий, архиепископы, послы иностранных государств присутствовали тут же, с состраданием наблюдая на множестве экранов и приборов, как страдает Ельцин. Как отмирают в нем функции мозга. Как из лопнувшего сердца начинает сочиться гной. Он лежал, разбухший, синий, словно вытащенный из реки утопленник, и клочок волос над истлевшими гениталиями напоминал пучок зеленой тины. Фиолетовые губы его шевелились, из них тихо текла темная пена, и в ней шевелились личинки жуков-плавунцов. Только Наина Иосифовна могла понять из его несвязных бормотаний, что он заклинает друга Билла не допустить коммунизм в Америке и одновременно командует тридцатью восьмью снайперами, ведущими прицельный огонь по чеченцам.
Вакцину доставили тотчас, как она была изготовлена из перетертого заживо эмбриона с добавлением липового меда и муравьиных яиц. Ее вколол сам Дебейки, введя иглу в глазное яблоко Ельцина. Глаз страшно вздулся и приобрел панорамное зрение, так что Ельцину стали видны все, кто пришел к одру, надеясь получить укол чудодейственной вакцины. Она подействовала немедленно. Синий трупный цвет тела сменился нежно-розовым, молодым. Мозг с притоком целебной омолаживающей крови стал насыщаться кислородом, и Ельцин вспомнил, как зовут дочь. Сердце заработало, как у юноши. Гениталии оживились, потянулись сами собой туда, где тихо охала и радостно вздыхала голубица. Ельцин легко соскочил с мраморного одра и, как был босиком, пошел в соседнюю комнату с правительственной связью набирать резиденцию папы римского. Собравшиеся аплодировали и одновременно приспускали брюки, обнажая дряблые ягодицы, подставляя их под чудодейственный укол великого медика.