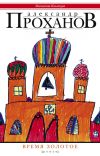Читать книгу "Шелопут и фортуна"

Автор книги: Александр Щербаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
IV
Вот, может быть, первостепенное знание, ставшее явным в самое последнее время: я любил свою дочь. Не только когда она в двухнедельном возрасте крутила головенкой, оглядывая потолок и стены своего первого жилища, и снисходительно улыбалась нам с Галей. И не когда я с чувством отрадного облегчения, воспользовавшись ее недомоганием, умыкнул ее, четырехлетнюю, с детсадовской дачи «Ёлочка» и дал слово, что никогда больше не позволю увезти ее ни в какое казенное место. И когда… – «ну, как сейчас помню» – … было еще и то, и другое, и третье… Двадцать пятое и тысячное…
Не об этом речь. А о том, что во мне много лет жила, не находя исхода, нервная энергия обиды, ни на миг не отпуская с того часа, когда я получил от нее (между прочим, не от подростка, а уже самой матери девчонки-подростка) письмо с подписью «ваша бывшая дочь». Я ведь не знал, что уже взращивается творение «Мама, не читай», и наивно полагал эту подпись недоразумением.
Но и не об этом я сейчас хочу сказать. А о том, что в тогда, в мае 2014-го, вдруг (иезуитское словцо, как бы освобождающее от объяснения причин), внезапно иссякло напряжение обиды. И я, с непривычки недоумевая от новизны состояния, понял (вдруг!): нет больше… любви! Это как тишина, изредка вытесняющая непрестанный кровесосудистый шум где-то внутри, за барабанной перепонкой, давно ставший обыкновением.
Именно так и распознал, что она, любовь, была. По выпавшему светящемуся перышку можно судить о пролете, увы, упорхнувшей Жар-птицы (незабвенный «Конек-Горбунок»). Только от неподдающегося определению «чувствования, чрезвычайно разнообразного по содержанию и силе» (Брокгауз и Ефрон), то есть от любви, и больше ни от чего, могла заряжаться батарейка того душевного уязвления: по характеру от природы (в отличие от Галины) я необидчив.
Новый психологический «статус вивенди» подтвердил простой эксперимент: я подумал о «Мама, не читай» – и не мельком, не опасливо, как бывало, а «с чувством, с толком, с расстановкой». И не испытал, как прежде, импульса непреодолимого отталкивания, ощущения невозможности прикоснуться – как к лепре. Остался холодным, как собачий нос. Более того, подумалось: «Надо бы прочитать».
Впрочем, это вряд ли.
Чтец я уже никакой. Дикий человек. Галя меня бы не узнала. Пробавляюсь сведениями о литературных новинках – надо же быть «в курсе» – от убогих хроник книжных обозревателей. Отчасти это связано с глазами. Трудно им сладить с книжными текстами. На компьютере я имею дело с двадцатым кеглем, да еще и увеличиваю формат страницы на 40 процентов.
Чтение, почти всю жизнь бывшее развлечением и удовольствием, после инсульта стало работой. А работоспособность все по той же причине понизилась в разы. Вот и выбирай, как говорил один персонаж Льва Кассиля, два из одного. У меня на первом месте всегда Галина: все, что относится к ее сочинениям, их публикованию и памяти о ней. Далее – поддержание какой-никакой жизни в интернет-журнале «Обыватель». Потом – мои писания наподобие этой рукописи, объективно необязательные, а потому сплетенные с укором совести: они отодвигают дела, связанные пусть с неблизкими, но хорошими людьми (прочитать написанное ими, нацарапать рецензию, дать совет и т.д.). Как в анекдоте: чукча не читатель, чукча писатель.
Короче, всякое «факультативное» чтение отодвигается в некую желательную, а, скорее, мечтательную жизнь. В первую очередь мечтания эти касаются хотя бы 10-15 книг, которые по справедливому мнению умных людей должен прочитать всякий культурный человек и до которых у меня до сих пор не дошли руки. Я, заметьте, не говорю уже о том, что эти же умные люди часто рассказывают, как они самые лучшие книги прочитывают по много раз, всегда находя в них что-то новое для себя. Я, трезво мыслящий субъект, об этом и не мечтаю.
Впрочем, нет. Очень хочу перечитать «Униженных и оскорбленных». Эта книга ввела меня в сладострастную достоевщину, восприняв которую, до конца оставляешь ее в себе. Вот в чем мне очень хочется разобраться: еще более умные и уважаемые мной люди то и дело толкуют о славном пятикнижии Достоевского. А «Униженных и оскорбленных» всегда обходят в своих рассуждениях, как будто бы их и не было, видимо полагая, что это литература второго разбора. Мне же роман показался образцом беллетристики. То есть прозы, может быть, не искрящейся философскими, трансцендентальными, социальными откровениями, но замечательно проявляющей чисто писательские, повествовательные качества авторов. Для меня, читателя-обывателя, они не менее (да скажу откровенно – более) дороги, чем пророческая высоколобость. «Искусство должно быть средством воспитания, но цель его – удовольствие» (Бертольд Брехт). Убежден, что и цель литературы – тоже удовольствие. Все прочее в ней – пусть и прекрасные, но сопутствующие обстоятельства. К тому же часто вовсе и не мешающие получению удовольствия.
…Воцарившаяся в душе без-обидность отбросила висевшее надо мной неизъяснимое табу и дала простор какому-то обновленному восприятию сущего.
Даже не знаю, с чего начать.
Вот три фразы нашей Кати из ее краткого представления своей книги. «Оказывается, можно уничтожить (убить) нелюбовью. Как это страшно! Люди, будьте бдительны!» Это упрек Гале. Главное слово – «нелюбовь». Это понятие, как я догадываюсь, лежит в основе всего труда. Ну, а меня занимает не существительное в целом, а только морфема «любовь». Это же антоним «нелюбви»? То есть содержательно они совпадают – но с противоположными знаками.
Любовь, любовь… По признанию литературной критики, Галина – «фирменный» писатель-толкователь этого загадочного чувства. И, конечно, в книжке «Шелопут и Королева» я уделил ему много страниц. Но, честно, даже приблизительной ясности в его понимании не постиг. Как это у Рабиндраната Тагора: «Если я скажу, что главный смысл слова «женитьба» – любовь, мне придется определять слово «любовь», а то, что называют любовью, еще теснее связано с жизнью, чем женитьба». И, добавлю, еще более запутанно. Вот подтверждение тому.
Было так. Я на поводу вышеупомянутой обиды поделился в интернете вопросом, до сих пор тревожащим меня: что же наша дочь так и не приехала на похороны своей мамы? И получил обширный ответ от… Евгения Шпиллера, второго супруга Кати. Вот наиболее содержательный отрывок из него.
«…Ни вы, ни покойная Галина Николаевна попросту не любили свою дочь… Вы хоронили своих родителей, и считаете, что этим вы отличаетесь от животных. Я тоже считаю, что вы отличаетесь от животных, но не этим. Главное ваше отличие, на мой взгляд, – это отсут– ствие такого «животного» чувства, как любовь к своим детенышам. Причем, если у самцов такое иногда случается, то у самок никогда. У вас с Галиной Николаевной это случилось на пару…
Умные родители, лишенные любви к собственным детям, хотя бы стараются имитировать это чувство…» И т.д.
Это я к чему? К тому, что у Галины в ее художественных сочинениях и публицистике есть свое толкование любви, у Кати – свое («нелюбовь» – некая пустота, но ведь занявшая место, предназначенное для реального сущего чувства?), у Шпиллера – это материнский или отцовский, короче, тварный, физиологический инстинкт. И не мудрено. Даже в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона конца девятнадцатого-начала двадцатого века отмечены четыре вида любви: половая, кровная-родственная, общечеловеческая и духовная. А уж в нынешние справочники страшно и заглядывать – чуть ли не десятки разновидностей понятия. Редкий ученый-гуманитарий не попытался внести в эту всемирную копилку свой скромный (или нахальный) вклад.
Очень показательный пример, как одно слово, будто щедрый источник, расточает множество речек – смыслов. Докопаться до некой единой сущности любви, наверное, еще труднее, чем даже до первоосновы микромира или, напротив, вселенной всех вселенных (она, как нам объясняют ученые люди, одна, общая).
Но это не лишает права всякому размышлять о сем предмете, о его природе и судьбах. И кто знает, может быть, это самое увлекательное размышление в жизни.
Мне хочется воспользоваться этим правом.
Видимо, все-таки есть, есть какая-то всеобщая основа всякой любви, пусть пока и непостигаемая людским разумом. Недаром в Библии так часто встречается это слово, особенно в Новом завете. Не только про супружескую любовь или к своим чадам, или к братьям нашим меньшим, не только к ближнему своему или к Богу, но про любовь как таковую в ее всеобщности, универсальности. Апостол Павел в своих посланиях посвятил любви целую главу. И открыл ее серьезным предостережением: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий». Другими словами не человек, а погремушка.
Но вот про что не сказал апостол (то ли сам не испытывал такого, то ли жанровые рамки культового поучения не позволяли): в злосчастном, неуважаемом положении «меди звенящей» человек может ощутить… свободу, которая ему заказана, когда он – любящий. Это – мой случай в отношении к дочери: благо освобождения от бремени обиды (которая, конечно, не грех, но чувство канцерогенное, вытягивающее из души жизненность) пришло благодаря утрате любви. Казалось бы, может ли быть какая-то утрата благом? А вот поди ж ты…
Но вот что еще сказал апостол Павел: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Если моей рукописи суждено быть дописанной и, может быть, предъявленной людскому суду, я, не исключено, смогу поведать, как узнал и поверил (вопреки сказанному в предыдущем абзаце), что «…никогда не перестает». Сейчас же достаточно повторить себе самому, и для соблюдения логики изложения, и для подтверждения собственной уверенности, что знание это накапливалось долго и независимо от собственной воли.
Итак, я – и «медь звенящая», но, можно сказать, посвящен и в то, что «никогда не перестает». И, может быть, по этому сочетанию могу подойти под микрожизнеописание, приведенное апостолом в той же главе: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое».
Я обалдеваю, а можно даже сказать – благоговею, от речевого слога библейских апостолов, и в первую очередь от снайперского словоприменения. Вот Павел написал – «…а как стал мужем», и я бы никогда не смог применить его мысль к себе. «Муж» в писаниях, как правило, не столько возрастное понятие, сколько синоним личности образцовой доблести и, особенно, зрелого разума. Несомненно помня об этом, талантливый писатель и образованнейший человек своего времени Павел понижает значение слова именно до смысла возраста. Как? Простейшим образом: противопоставляя «мужу» – младенца! Хотя в главе о любви нет и признаков темы детства.
А уж из младенчества я, как и любой читатель Нового завета, вышел. И, значит, с полным моральным правом, сравнявшись в годах с мужем Павлом, могу разбираться в его суждениях о любви. Он как бы приглашает к этому…
…А вправду, какого я возраста?
Меня раздражают мои ровесники, старающиеся представить себя пусть и морщинистыми, но «по сути на самом-то деле» ого-го какими юношами, и воспринимающими мир как двадцатилетние, и почти не уступающими им по физическим кондициям. Сейчас таких немало и в жизни, и в телевизоре. И я даже знаю, чем они вызывают мою неприязнь. Тем, что напоминают меня самого, ну, предположим шестидесятилетнего в некоторые моменты жизни.
Вот, скажем, какой-то корпоратив с цивилизованным возлиянием, культурной программой, а еще с танцами. Почти всегда много прелестных девушек. Впрочем, если их и не много, все равно… Ты танцуешь, получая от этого удовольствие. Через какое-то время – только удовлетворение от сознания пользы движения. Но еще в ощущениях – пьянящая достижимость… всего. Это от аперитива. Лишь одно невозможно – предстать перед самим собой (и перед девушками!) слабаком. И ты уже выделываешь одно или два (а других и не знаешь) коленца из последних сил. Слава Богу, музыка кончается. Здесь бы и передохнуть. Но нет. «Главное, чтобы воля тут была к победе». Возрождаешь в мозгу ощущение от утреннего воздействия гантелей – и на окончательном издыхании подхватываешь девушку на руки и транспортируешь до близстоящего стула. Чего, между прочим, не делал в молодые годы. Не было порывов кому-то что-то доказывать.
Сегодня мне как-то… жалобно видеть, как куртуазный старинушка – пусть в прекрасной физической форме – по-актерски галантно отвальсировав круг с милой балеринкой из подтанцовки, вдруг подкатывается под ее коленки, не без натуги отрывает ее от матушки-земли и, преодолев естественное сопротивление собственной поясницы, эстрадно осклабившись, как бы щедро предъявляет девушку восхищенному обществу.
Каждый раз при такой картине (а это не редкие случаи) мне почему-то приходят на память стихи Пушкина: «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня…» Причем на музыку самых разных композиторов.
Впрочем, на меня не угодишь. Я ведь смеюсь внутренним смехом и над сотоварищами по веку, которые, едва дожив до пенсии, с удовольствием впадают в роль многоуважаемого старца, носителя, как им мнится, сокровенных истин, которыми грех не поделиться с миром. Почти все они отпускают более или менее живописную бороду, некоторые начинают ходить с хорошо отшлифованной суковатой палкой, даже если с аппаратом движения у них все более-менее; часто речь свою начинают предварять словами «должен сказать» или «скажу правду» (видимо, подсознательно в голове прокручивается: «Истинно вам говорю…»). Встречаясь с таким сверстником, невольно вспоминаю сентенцию мудрейшего врача Николая Амосова: «Ничто так не старит, как готовность стареть». Люди моей профессии, еще оставшиеся в ней, начинают все больше ударяться в поучение: что хорошо – что плохо, как надо – и как не надо, что морально – что аморально…
Написал предыдущую фразу – и вдруг смекнул: ведь и это неприятие себе подобных, может быть, берет начало от упрятанного где-то неодобрения самого себя?
…По времени это было примерно посередине перестройки, то есть еще недалеко от брежневско-черненковского торжества коммунизма, но уже довольно близко и к августовскому «Лебединому озеру». Сижу я спокойненько в журнале «Журналист», «чиню примус», никого не трогаю. Телефонный звонок.
– Это Щербаков?.. – Виталий Сырокомский, главный редактор «Недели». – Я удивлен тем, что вы до сих пор ничего не предложили для нашей газеты. Все лучшие журналисты Москвы у нас отметились. Приезжайте ко мне, и мы исправим это неприличие.
Как это у классика: «Тут и сел старик». Я не был лично знаком с Сырокомским («Сыр», как называли его все в «Литературке». А иногда и – Сыргоркомский, с намеком на его прежнюю партийную номенклатурную родословную).
Еще живя в Волгограде, занес имя этого позвонив-шего мне человека в свой личный список великих главных редакторов современности. Оно было тогда третьим – после Аджубея и Егора Яковлева. Вообще-то Сырокомский был не главным редактором обновленной «Литературной газеты», а его первым заместителем. Однако журналистский мир страны знал, кто на деле рулил этим перлом отечественной прессы, особенно его второй тетрадкой. Первая, собственно литературная, интересовала очень небольшую часть аудитории, вторая же, общественно-политическая с неизменным Клубом «12 стульев», была многие годы лакомым блюдом читающей публики всех пятнадцати республик нерушимого союза.
Как и следовало ожидать, через какое-то время (впрочем, немалое) Сырокомского отстранили от «ЛГ», по-чекистски приписав ему какую-то мутную историю. Его разбил инсульт. Но вот он, как птица Феникс, вновь возник на журналистском небосклоне и начал собирать, уже вокруг «Недели», свою «могучую кучку».
Мог ли я пренебречь призывом? Драма была в том, что за годы служения в профессиональном издании я почти не имел рабочих контактов с непосредственной жизнью, а в основном разбирал, что хорошо, а что плохо в работе моих собратьев по перу и, что совсем уж сомнительное дело, рекомендовал, как надо и как не надо.
Однако пришел в «Неделю» к Сырокомскому, и мы придумали с ним для моего дебюта цикл публикаций под названием… «Письма о морали». Под рубрику «Наши нравственные ценности». Было пять таких писем. И, согласно течению моих сегодняшних помыслов, я уже – в полной готовности поиронизировать над своими давними опусами. Однако что-то подняло меня со стула, дабы раскопать их в моем так называемом архиве. И в первой же публикации натолкнулся на картинку тогдашней действительности, которую захотелось вставить в эту рукопись как иллюстрацию советской повседневности. Ведь все так мгновенно и накрепко забывается!
…Женщина униженно просила.
Очередь гордо и как-то отстраненно-задумчиво хранила молчание. Подсолнечное масло в рыбном магазине заканчивалось. А в расположенном по сосед-ству гастрономе «Восход» его в тот субботний день не было с утра. Обычное дело: с любым продуктом в нашей торговой сети могут случаться такие вот летучие микродефициты.
Женщина уже минут пять, а может, и больше просила продать ей – в порядке исключения без очереди – 30 (тридцать) граммов подсолнечного масла. В руках у нее была пол-литровая баночка, наполовину заполненная винегретом. И ей нужно было заправить его маслом и отвезти в больницу родственнице, находящейся в аллергологическом отделении. Кто его знает, может быть, именно это часто повторяемое слово – «аллергологическое» (а для женщины оно, видимо, было почему-то очень важным) своим необычным звучанием как бы унижало некое коллективное чувство достоинства очереди за постным маслом, не соот-ветствовало ее хмуро-простоватому настроению. Очередь молчала недоверчиво. Тут, в очереди, и я был, молча смотрел, как один покупатель отходил от прилавка, а следующий торопливо совал продавщице свою бутылку. И опять. И снова. Вроде так все и надо…
И тут, ко всеобщему облегчению (во всяком случае, так мне показалось), мужчина, оказавшийся первым у весов, мотнув головой в сторону, дал женщине молчаливый знак: давай, мол… Но не тут-то было. Услыхав про 30 (тридцать) граммов подсолнечного масла, продавщица как-то так странно, припадочно вскинулась, а потом забурчала что-то такое про свой нелегкий труд, приближающийся обеденный перерыв и покушающуюся на него очередь, что сникший мужчина, устыдившись, торопливо протянул ей свою бутылку…
А потом было хорошо: из этой самой носталь-гической бутылки мужчина отлил женщине в баночку потребное по правилам кулинарии количество постного масла. А женщина расплакалась и рассказала, как, еще с утра обнаружив отсутствие подсолнечного масла в доме, она зашла к соседке, но и у той его не оказалось, и у второй тоже, а третью вообще не удалось застать; как пошла она в ближайший магазин, потом в более далекий и так далее; как села в поезд и поехала из города Обнинска в город Москву; как не обнаружила подсолнечного масла в «Восходе»; как пришла в этот рыбный магазин на Бутырском рынке и при входе в него бесславно попросила у двух женщин продать ей пятьдесят граммов масла…
Такая вот история.
А между «Неделями» обнаружилась слипшаяся с одной из них «четвертка» бумаги с двумя «фирмами» в левом уголке: «ИЗВЕСТИЯ Советов народных депута-тов СССР» и «НЕДЕЛЯ. Воскресное приложение»:
«Глубокоуважаемый Александр Сергеевич!
Редколлегия «Недели» благодарит Вас за Ваше выступление в № 25.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.
Заместитель главного редактора «Известий»,
Главный редактор «Недели»
В.А. Сырокомский».
Был тут и № 25. Я пролистал его с начала до конца, потом с конца до начала и не обнаружил никакого свое-го выступления. Удвоил тщание и нашел на вполне достойном месте колоночку под заголовком «Сэконо-мили на журналистах». Ее содержание тоже может служить колоритной приметой времени.
Речь о том, что руководство СССР даровало право членам Союза театральных деятелей и Союза кинемато-графистов на получение дополнительной жилплощади. Каковое давно было у писателей, композиторов, худож-ников. А вот всякий член Союза журналистов как был, так и остался, по райкинскому выражению, «как простой инженер».
Естественно, автор считает это местью кремлевских помпадуров за смелую критику. «Что ни журнал, то вопрос: доколе?.. Телевизор – и тот уже не только утешает на досуге, но и язвит удручающими картинами каждодневного нашего бытия». На какие же милости от советской номенклатуры могли рассчитывать журна-листы, на какое-то «перестроечное» мгновение вдруг ощутившие себя народными заступниками?..
Однако возвращусь к «нашим нравственным цен-ностям», вернее, к «Письмам о морали».
Парадокс в том, что я в своих статьях о профессии не раз и не два писал о том, что всяческая моралистика безнадежно портит материалы любого жанра, и доказы-вал это различными доводами. Хотя вообще-то можно было обойтись и одним: любой читатель всегда может задать риторический вопрос: а ты кто такой? Помню, у моей маленькой дочки была дачная подружка, любив-шая повторять смешную присказку: «Ученые, ученые, кругом одни ученые. А я кто? Никто!» Вот именно.
Сопровождая Галю на официальных мероприятиях, которые ей порой приходилось посещать, я не раз становился свидетелем ее интервью. Иногда просили сказать что-то о сочинениях ее собратьев по перу, как правило, молодых. Обычно ее ответ был кратким: «Кто я такая, чтобы оценивать работу других писателей?» Я вспоминаю лишь один случай, когда она публично, в газете, выразила неудовольствие, нет, не творчеством, а поведением коллеги. Но это была, по ее понятию, чудовищная история (не вообще, а потому что была затеяна именно писателем!)
«Меня пригласила журналистка, с которой мы уже однажды работали. Мы долго беседовали с ней о жизни, о книжках, о многом другом. Вечером я решила послушать «Звездную гостиную». Каково же было мое удивление, когда вместо журналистки, с которой я разговаривала утром, те же вопросы в эфире мне задавала Дарья Донцова. Я долго не могла понять этой мистификации. После окончания передачи у меня возникло чувство, что мне должны позвонить и извиниться. Никто мне, естественно, не позвонил.
…Я бы не пошла на встречу с Донцовой. Не потому, что я имею что-то против нее – я никогда ее в глаза не видела, кроме как на фотографии с мопсами. Просто я не читала ни одной страницы Дарьи Донцовой. Я полагаю, что и она ничего моего не читала. А встреча двух писателей, которые незнакомы с творчеством друг друга, бессмысленна. Мы с Донцовой – «куклы из разных коробок». У нас разные читатели, разные поклонники. Будь такой разговор по-настоящему, из него могло родиться что-то новое, но все то, что произошло, просто обман. И это происходит на всех уровнях. Высшие государственные чины не всегда говорят то, что есть на самом деле; телевидение вовсю использует подставных героев передач. …А теперь употребили и меня. …То, что сделали мы с Донцовой, это не доброкачественная пища – это фальшивка. Конечно, не такая, из-за которой может произойти нечто серьезное, но это фальшивка. И если любого человека можно таким образом использовать, то хороши же мы будем».
Не знаю, когда, где, каким образом обрела Галина неколебимое чувство собственного достоинства – такой я узнал ее с первой встречи, – а я перенимал у нее это мироощущение, прилагая к собственной натуре. Истинное же достоинство – когда собственное представление о себе равновелико тебе самому. Склонность к морализированию, мне представляется, нарушает равновесие: ты, сам того не замечая, как бы возвышаешься над про-чими, а на самом деле раздуваешься, как лягушка из басни Крылова. С младых лет я понимал это умом, но с того же времени и боролся, наподобие циркового номера с «нанайскими мальчиками», с собственной тягой к дидактике, к поучению… Может быть, эта тяга от родителей, я бы сказал, прирожденных педагогов?.. В журналистских материалах уже перед сдачей в производство я то и дело обнаруживал выплески морализаторства и безжалостно их вымарывал. А сколько их я не заметил?
Все это говорю к тому, что цикл «Письма о морали» был в моей жизни не случаен. Самому-то себе можно признаться: ты – зануда. Ну, не совсем чтобы так: «Вот зануда, так зануда. Ты занудливей верблюда!» Но все же…
…И все же, какой мой возраст?
Это не досужий вопрос. Любопытно знать, каким я буду, когда меня не будет. «В большинстве своем отшедшие (умершие. – А.Щ.) пребывают в оптимальном, по их суждению, возрасте, как правило, молодом, и в красивом обличии. Они достигают этого состояния в течении первых нескольких лет или месяцев после перехода, а предсмертные болезни оставляют на пороге новой жизни (кроме психических, которые изживаются лишь постепенно)». Так свидетельствует ученый и мыс-литель, которому я склонен доверять. В другой своей книге этот же исследователь приводит следующее:
«…из разговора через 3 года после перехода с женщиной, умершей в возрасте 93 лет:
"Вы сейчас молоды?" "Нет" «А другие говорят, что они молоды». "Может быть, все зависит от состоя-ния души". «А у вас оно какое?» "Лет на 57". Но через несколько месяцев она сказала: "Выгляжу так же, как в жизни, но лет на 45", а еще через год: "Выгляжу на 36 лет. Я уже другая", и вскоре: "Мне 36, это мой любимый возраст и самый счастливый год моей жизни”. Однако еще через год снизила свой возраст до 32 лет».
Или вот еще:
«Особенно быстрые изменения внешности происхо-дят в первое время после перехода в связи с движе-нием… к оптимальному возрасту. В результате этого даже умершие старыми принимают вид молодых:
"Старых людей здесь нет. Наши родители молодые".
«Бабушка и дедушка N здесь молоды».
Мать А. Конан Дойля, умершая старой, там молода и здорова, счастлива и весела.
Женщина, умершая шестидесяти лет, говорит через 2 года:
«Я рада, что молодая, красивая и здоровая. Я очень нравлюсь себе и другим».
Другие… подтверждали это:
"Ваша N – красавица и добрая женщина."
…В период перехода к оптимальному возрасту вид… соответствует… самочувствию и определяется "состоянием души":
«Выгляжу на столько, на сколько себя чувствую». «Душа должна быть молодая, тогда и сам молодой».
Похоже, что и внешность… подпадает под доми-нант волемысленного начала, как и все прочее…»
Сижу и думаю: что я должен сообщить читателю для того, чтобы он с легкостью воспринял вышеприве-денные сведения о «том свете»? (Я давно понял, что не могу заниматься никаким писанием, мысленно не представляя потребителя моих усилий, даже если знаю, что его не должно быть; это как моряку предложить покончить жизнь самоутоплением).
Может, начать с заднего крылечка школы, где в ведомственном жилье обитала наша семья? На нем я, хилый мальчишка, любил греться на солнышке и ломать голову над чем-нибудь несуразным. Например, почему это бензин из бака полуторки запросто бежит вверх по опущенному в него шлангу? Ну, или брага из стоящей на полу огромной бутыли?.. И однажды какая-то особая, неведомая до того радость всколыхнула мое существо – когда догадался-понял, какая именно мягкая природная сила поднимает эти разные жидкости. Мож-но сказать, мальчишка был на пороге осознания того, что на несколько веков ранее понял великий физик Блез Паскаль.
Однако нет, начать с этого – все получится слишком длинно. Есть другая исходная точка, более приближенная к теме, – самое начальное, еще студенческое вступление в профессию.
…Конец 1957 года. Одна из последних перед зимней сессий лекций. С мяукающим скрипом при-открывается дверь аудитории, и чья-то просунувшаяся голова, перекрывая журчащую доцентскую речь, можно сказать хамски вещает:
– Александра Щербакова срочно к телефону на кафедре…
Действительно, в забитом столами и столиками кабинете кафедры печати, обычно заполненном делови-тым шевелением, а сейчас безлюдным, лежит в ожидании снятая с рычагов трубка.
– Это Зиновий Абрамович Янтовский. Вы должны прямо сейчас пойти в главное здание на кафедру ботаники…
Зиновий Абрамович – руководитель нашей самой первой практики. Журфак УрГУ (впрочем, тогда еще не «фак», а отделение) был славен прежде всего деловой профессиональной хваткой своих питомцев. Уже выйдя из альма-матер, я в местных редакциях не раз слышал подобное: хочешь подбавить своей конторе интелли-гентности, бери ребят из МГУ, а если для работы – то из Свердловска.
Действительно, у нас культивировалось отношение к практике как к самой ответственной дисциплине. Нашего однокурсника, не выполнившего предписанные нормативы «пятой четверти», не задумываясь отчис-лили из университета. Через год восстановили – но это было уроком всем.
Первая практика, так сказать, домашняя, была на первом же курсе. Тогда мы и узнали Янтовского. Он числился на кафедре печати, но его рабочее место было вдали от учебного здания – в типолаборатории, а проще говоря – в маленькой университетской типографии. Там выпускалась многотиражная газета «Уральский университет». Зиновий Абрамович редактировал ее. А также на деле пополнял наши познания типографских премудростей.
Он не был полиграфистом. До нас доходили слухи о его прежнем славном журналистском прошлом. Но в годы сталинских репрессий он попал под их каток. И ему была закрыта возможность работать в профессии в прежнем качестве.
Янтовский пришел к нам и сообщил, что отныне и до конца учебного года наш курс есть не что иное как редакция газеты «Уральский университет». И объявил запись, по желанию, в ее отделы. Как мне сейчас вспоминается, самым популярным тогда оказался отдел культуры. Самым «обиженным» – науки. В нем оказался один штык – А.Щербаков. Так что конкуренции у меня не было. Но не это обстоятельство меня манило, а подспудное подозрение, что где-то именно там – самое интересное.
И первый же выход на «свободную охоту» оказался удачным. Как ни напрягаю память, не могу сейчас установить, кто или что вывело меня на Адольфа Мокроносова. Ему не было и тридцати, кажется, он был еще аспирантом или ассистентом.
Оказалось, у меня счастливо сохранился мой маленький, тощенький первый журналистский блокно-тик. В нем есть такая страничка.
«О карт. Клубни – органы размножения. Цветение – и не цветение. – Потому что вещества – в клубни, а не к цветку. Бутоны завязываются. Опыты, кот. доказ., что может цвести. Для понимания природы фотопериодич. реакции. Физиологич. природа реакции раст. на фотопериод. окажется одинаковой для разных растений. – Очевидно…»
Даже рассказы Мокроносова о картошке, с коей мы породнились со своего военного малолетства, были мне занимательны. Но когда тот произнес фразу «1721 – открыт фотосинтез», жирно подчеркнутую в моем блокнотике, я, видимо, то ли в удивлении раскрыл рот, включив шестую передачу запоминания, а скорее всего поменял бумагу для записи на более широкоформатную. Потому что строка про 1721 год оказалось в блокнотике последней. Я живо представляю себе сценку: