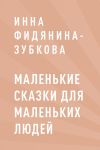Читать книгу "Бытие и возраст. Монография в диалогах"

Автор книги: Александр Секацкий
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Лучшее время человеческой жизни…
Бессмертно всё, что невозвратно,
И в этой вечности обратной
Блаженство гордое души.
В. Набоков
К.П.: Наш курс «Философия возраста» в университете мы традиционно начинаем с сюжета о старости. И это порой вызывает недоумение. Предполагается, что надо начинать с детства и двигаться по возрастам вверх. Но мы представляем старость как некоторый итог человеческой жизни, и поэтому она заслуживает особого метафизического внимания.
Необратимость времени никому не дана так, как старику, для которого нет никакой возвратности, невозможно никакое исправление ошибок. И поэтому старость особенно интересна, причем этот интерес имеет двоякий характер. Если мы просматриваем историю человеческой культуры от архаики до современности, мы везде встречаем две линии в оценке старости, которые сложным образом переплетаются.
Во-первых, низкая оценка старости. Старость презирается, отодвигается на второй план. Заниженная оценка старости в архаических культурах выражалась прежде всего в сюжете геронтоцида или умерщвления стариков. Восходя к архаике, подобная практика в превращенных и замаскированных формах сохранилась и до сего дня. На меня произвела впечатление американская черная комедия Фрэнка Капры «Мышьяк и старое кружево» 1944 года. Сюжет фильма следующий. Две благопристойные на первый взгляд дамы среднего возраста вывешивают объявление, что они готовы сдать комнату пожилому джентльмену, и на первой же встрече они убивают своих жильцов и закапывают их трупы в погребе с соблюдением трогательных траурных церемоний. Их молодой племянник, узнав об этом, приходит в ужас: зачем убивать стариков в современном обществе?! Тем не менее, нельзя сказать, что такие «странные» действия не находят глубинного понимания у зрителей. Не прослеживаются ли здесь остатки архаического ритуала геронтоцида?
Отрицательная оценка старости проявляется в ее негативной мифологии, которая ярче всего выражена в фаблио – жанре французской городской литературы. Например, Мольер рисует нам старого «рогатого» мужа, который нещадно бит, но при этом доволен жизнью. У него молодая жена, которая ему изменяет с бродячим клириком, любвеобильным и удачливым, и это противопоставление глупого немощного старика и молодого пройдохи осуществляется в контексте борьбы за женщину. Тут возникают мифологические и даже календарные (метеорологические) ассоциации. Старость в календарном смысле – это уходящий год. А молодой человек – это наступающее новое время.
Но, во-вторых, в то же самое время в культуре постоянно присутствует и высокая оценка старости. Старость воспринимается как некий итог, даже как лучшее время человеческой жизни. Старик вызывает «априорное» почтение, хотя «плохо выглядит». Посмотрите на изображения Сократа! Тема особого уважения к старикам была развита в античной цивилизации, в частности, потому что старость ассоциировалась с мудростью, с формированием культуры философии. Социальный институт философии возникает на базе особого положительного внимания к старикам. Такая почтительность есть результат долгого развития традиционной цивилизации.
Но новоевропейская цивилизация «сбивает» однозначность таких высоких оценок, продолжая сохранять амбивалентность отношения к старости.
А. С.: Феномен старости необходимо рассматривать с разных позиций, исходя из параметров биологического и социального. С биологической точки зрения существование организма после репродуктивного акта теряет всякий смысл, а старость предстаёт как некая странная остаточная инерция существования. Современные биологи, включая Р. Доукинса и Р. Триверса13, пишут, что после репродуктивного акта существование организмов становится необъяснимым. Действительно, общество основано на скрытых и явных формах геронтоцида. Удивления заслуживает другое. Как раз механизм поедания самкой паука своего партнера после и отчасти уже во время спаривания биологически объясним – устройство для копирования запущено, а тут ещё остается полезная биомасса. Паук-самец свою миссию выполнил. После того как обеспечена защита своих копий, своих распечаток, биологический смысл существования организма некоторым образом исчезает.
Но здесь обнаруживается одна особенность. Если у низших животных мы не отмечаем старости вообще – не бывает старой амёбы или старого клопа, – то, когда мы приближается к кромке высших животных, особенно животных домашних (домашние животные – великая биологическая иллюстрация старости), у нас возникает вопрос: а человек, человеческий мир после антропогенной революции или катастрофы антропогенеза как поступает со старостью?
Идея сохранения старости находит своё оправдание прежде всего в следующем: коль скоро социум должен буквально отыскать себе формы самопричинения на ровном месте, то есть учредить диктатуру символического вопреки естественному ходу веще́й (в противном случае у него не хватит мерности для собственного бытия), то среди такого рода странностей возникает долгое детство, имеющее рациональный смысл (пусть даже смысл невероятной роскоши), и столь же долгая старость, которая некоторым образом признается самоценной. Поддержание старости, ветхости, недееспособности важно, благодаря тому что появляется дополнительное измерение деятельности, заботы, которая не имеет биологического смысла и в силу этого может поддерживать своды иной вселенной – вселенной символического.
Кроме того, существуют и прямые социально-адаптивные формы использования старости. Прежде всего это тот самый механизм мудрых старцев, или старейшин, которые выполняют функцию редактуры инноваций, и именно в этом качестве они оказываются незаменимыми. Это некий образец целесообразно используемой старости. Многие геронтологи и социологи полагают, что наш образ мудрого старца, относящийся к архаике, и образ той жалкой, болезненной старости, которую мы сегодня видим на каждом углу, кардинально расходятся, но расходятся потому, что, собственно говоря, в ситуации архаики и выживали те старики, которые идеально соответствовали эйдосу мудрого старца, сохранившего интеллект и подобающую благообразность. Ты воистину достоин уважения, если ты аксакал, у тебя белая седая борода и ты можешь неспешно произносить некоторые слова, не лишенные смысла. Такие старцы выполняют важнейшую функцию отсеивания всякой ерунды, пустых инноваций и неоправданных мутаций, выполняя тем самым целесообразную задачу для общества – роль живого цензурного щита, и одновременно символизируя или очерчивая дополнительные измерения «разворачивания» человеческого. Если ты такого рода старости не достигаешь, то болезни естественным путем прекращают твою жизнь задолго до достижения маразма. То есть социум не оставлял шанса для выживания маразматикам и тем старикам, которых надо кормить с ложечки.
Современная цивилизация устроена иначе, именно поэтому чрезвычайно изменился количественный и качественный состав старости, и сегодня представление о мудрых старцах ничему эмпирически не соответствует, разве что в отдельных случаях мы с удивлением обнаруживаем, что они ещё есть.
Но этот архаический институт – не самая важная характеристика феномена. Нас, конечно, интересует София – мудрость и возникшая из неё философия. Что касается философии, она имеет свои причины и свои резоны к существованию и может рассматриваться как функция работающего сознания, как результат стойкого любопытства и пр. Но одновременно социологически она может также расцениваться, например, как функция (и как следствие) наличия старцев. Есть старые люди, которые не могут с прежней интенсивностью участвовать в деятельности, их нужно чем-то занять, и они должны чем-то занять друг друга. Так пусть это будет философия. Вполне возможно, что с внешней точки зрения взаимное потчевание старцами друг друга различными изречениями или некими сентенциями может носить характер герметичной системы символических обменов, априорно представленной как философия – как тот странный, ни на чём полезном не основанный обмен, который санкционирован к существованию и достоин его, просто в силу того что сама старость санкционирована и допущена быть. Раз она допущена быть и раз старики живут и произносят слова, то произносимые ими слова в конце концов образуют поле философии. Далеко не сразу оно начинает выглядеть так, как сейчас. Даже история греческой философии показывает, что сначала были пресловутые семь мудрецов, которые как раз такие сентенции произносили, потом философия подошла к объяснению природы веще́й, и всякий раз в это поле происходит скандальное вторжение молодых, и выясняется, что юные в философии, как и в любой сфере деятельности, оказываются намного способнее старцев.
Но тем не менее сама изначальная санкция этих непритязательных занятий обменом неактуальными словами (а философия – это и есть обмен неактуальными словами и предложениями) дана, именно в силу того что жизнь старцев сохранена и они могут поучать. Социально-психологические механизмы слушания ориентированы на то, чтобы поддаваться гипнозу определенного рассказа, если возраст рассказчика соответствует праву на этот рассказ. Так и получается: философия возникает на основе своего простейшего социального гарантирования как дозволенное занятие старцев, к которому, может быть, как-нибудь потом действительно стоит присмотреться. Из этого поля извлекаются ценные объективации, и путем вторичной редакции философия конституирует себя уже иначе через школы и механизмы передачи знания. Но всегда сохраняется теневой минимум гарантии её существования. Это тоже функция старцев – философствовать, не гарантируя ни результата, ни качества, и за это мы должны быть им благодарны. Речь ведь идет о таких странных вещах, которые post factum могут оказаться важными и могут быть перепричинены, но изначально они просто и бесконтрольно допущены.
К.П.: Вопрос о соотношении старости и философии я бы расширил на всю сферу, которую Гегель называет «абсолютным духом». Философия есть обмен неактуальными словами (в философском рассмотрении неактуальные проблемы порой оказываются актуальнее актуальных). Вообще философия в этом плане близка религии. Религия тоже по большому счету неактуальна, поскольку дистанция между небом и землей слишком велика, чтобы быть актуальной. Также неактуально искусство. Но в конечном счете выясняется, что именно всё самое неактуальное наиболее актуально как внутренний стержень любого человека, необязательно старого. Это «абсолютный дух». И с этой точки зрения старцам позволено этим заниматься – выходя на пенсию, человек начинает философствовать (философствовать по-разному – иногда умно, иногда не очень). Но в этом состоит оправдание существования старости.
Также важно выделить ещё один тезис. Люди бывают умные и не очень. Причем умные люди необязательно старцы. Возраст не делает людей мудрее. Есть мудрые юноши и мудрые люди зрелого возраста. Стабильное благоустроенное общество, которое выстраивает благоустроенный институт старости, например пенсии, вовсе не ориентировано на возвышение стариков. Речь идёт лишь о том, что в благоустроенном обществе существование всех возрастных когорт предполагает наличие тех или иных условий для их развития.
Также хотелось бы отметить, что особое место в низкой оценке старости занимает болезнь, которая нередко рассматривается как рационализация низкой оценки старости. Старость всегда ассоциируется с болезнью, хотя, возможно, это предрассудок. Болезнь сопровождает все возрасты человеческой жизни (недомогания старости ничуть не тяжелее, чем недомогания детства, юности, зрелости), но в старости она почему-то особым образом тематизируется. С этим связана одна любопытная особенность именно современного общества – это повсеместная медикализация. В качестве главной ценности в обществе, где Бог мёртв, выступают здоровье и физическое благополучие.
Например, качество современных фильмов измеряется объемом бюджета. Ну какой боевик можно снять всего за какой-то «жалкий миллион долларов»?! Вот сто миллионов – это да, боевик! Также и медицина оценивается с финансовой точки зрения. Но если сопоставить затраты на различные группы заболеваний, то болезни, связанные со старостью, предполагают более значительные денежные затраты, чем затраты, связанные с юностью или детством. Болезням старости уделяется большее внимание, чем болезням, характеризующим другие возрасты.
В плане современной цивилизации я хотел бы связать эти три понятия: старость, возраст и медикализация14. Они овеяны рядом предрассудков, которые по возможности нужно рационализировать. Но также я бы хотел обратить внимание на любопытные пики оценки смерти в различных возрастах. Это обнаружилось уже в культуре античного мира, затем в культуре мира христианского, где можно выделить две жизненные модели. Одну я назвал бы «моделью Ахилла», вторую – «моделью Мафусаила».
Человек типа Ахилла стремится умереть рано, он ищет смерти. В предисловии к книге Эрнста Юнгера приводятся слова наполеоновского маршала Ланна: «если гусар не убит в тридцать лет, это не гусар, а дерьмо»15. Как мы помним из античного повествования, Ахилл торопится жить, он знает, что его жизнь коротка, и он стремится за эту короткую жизнь свершить как можно больше. В русской культуре это относится к создателям золотого века, это А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, некоторые художники той эпохи, например Фёдор Васильев (1850–1873). Все они прожили короткую жизнь.
Вторая вариант «удавшейся» судьбы, «модель Мафусаила», представлен людьми, которые проживают длинную жизнь подобно легендарному библейскому старцу. Глубокая старость предполагает накопление мудрости. Хотя я не уверен, что мудрость можно накапливать; этот вопрос требует специального исследования. Есть такая поговорка: старик говорит, что он уже забыл то, чего молодой ещё не знает. В обычном понимании старость – это время не только накопления, но и забывания. Мафусаил же предполагает накопление мудрости без потери. Образ жизни философа, гуманитария, вообще ученого – это образ жизни Мафусаила. В одаренном студенте философского факультета нередко уже проглядывает маленький старичок, тогда как тренеры футбольных команд, напротив, нередко несут в себе образ (стать) молодого футболиста.
Эти два варианта жизни, конечно, связаны с профессиональным подразделением. Также речь здесь идёт о предпочтениях той или иной культуры. Например, если мы имеем дело с воинской культурой, тут долго жить, как было уже сказано, просто «зазорно». Это установка Ахилла. Но если я попадаю в монастырь, там совершенно другие установки. Таким образом, установка в значительной степени определяется локальной культурой.
А. С.: Мы в данном случае рассматриваем феномен старости не столько как способ данности изнутри, не столько как противодействие времени и социальным вердиктам, но и как ничем не объяснимый феномен, который необходим именно в мире людей. Понятно, что если забота по отношению к подрастающему поколению строго целесообразна биологически, с точки зрения пресловутого эгоистичного гена, то почтение к старшим (к старикам) не имеет такого характера и представляется делом чисто человеческим, что не раз обыгрывалось, например, в конфуцианстве. Можно привести нравоучительное изречение: животное ходит на четырех ногах, смотрит вниз и заботится о потомстве, а человек ходит на двух ногах, смотрит вверх и заботится о старших. Время, которое инвестируется в заботу о старших, – это очень странно проведённое время, оно сродни самопожертвованию, но различным образом санкционировано практически всеми культурами (правда, по-разному) и для чего-то нужно. Ответ на вопрос, почему нужно заботиться о старших, близок ответу на вопрос, почему нельзя есть людей. По-видимому, это нужно, поскольку такова та критическая масса реалий человеческого, без которых человеческое просто не устоит.
Но мы убедились, что социум, даже сама история извлекает из этого нечто чрезвычайно важное, в частности философию. Если старикам позволено быть, то наличествует внутренняя трансляция их занятий. Место философии могла бы занять, например, игра в жмурки – наше счастье, что этого не произошло. Старцы мудры потому, что их образ жёстко предзадан. И поэтому всегда удивление и чувство легкого абсурда вызывают, например, тексты Хармса, или старуха
Шапокляк, которая любит проказничать, или выражение «шкодливый старикашка». Если бы образ «шкодливого старикашки» был немного лучше растиражирован, насколько иначе был бы устроен мир! Но, к сожалению, дальше текстов Д. Хармса это растиражирование не продвигается. Это означает, что мир устроен так, как он устроен, и что сумма всех социальных вердиктов, приговаривающих к определенному модусу бытия, к отыгрыванию своих собственных немощей, тем более что они санкционированы культурой, даёт нам определенный способ признанного реагирования – удержание мудрости, которая может быть не так уж и мудра, но зато она топологически здесь, она, как и философия, имеет место быть. Есть нечто скандальное в том, чтобы представить себе юного Б. Спинозу или Ф. Шеллинга, создавших себе имя в достаточно молодом возрасте. Предположим, правила игры требовали бы от Ф. Шеллинга, представляющего свое сочинение «Философия искусства», надеть искусственную бороду, добавить морщин. Ничего страшного в этом не было бы – ради сохранения санкции общества на философию можно было бы принести и такие жертвы.
Что касается медикализации, в этом есть один любопытный момент. Известный образ античности, связанный с пластически совершенным телом, предполагает, что совершенны все тела, то есть настойчиво транслируемая в пространстве и времени фигура античности говорит: вот мы, боги, полубоги, герои, свободные граждане, и наши тела, воспитанные мусическими и гимнасическими искусствами, прекрасны. Тогда мы спросим себя: а где другие тела, где увечные, раненые, болезные, безобразно старые? Их нет! Раненых добивали – и это не публиковалось в общественном обсуждении. Именно поэтому столь ярко обозначен водоворот между античностью и христианством, это как будто поворот калейдоскопа – настолько ошеломляюще внезапным является вброс увечности, переход от совершенных античных тел к чудовищным, искорёженным мукой, старостью, болезнью телам в Средневековье. В этом повороте отчасти состояло и величие христианства, которое санкционировало наличие любого тела и необходимость для души отмучиться в том теле, какое досталось. Мы этот образ полностью унаследовали и сегодня, хотя, конечно, овладели искусством драпировки, декорации, так сказать, создания благообразных вывесок для стариков, под которым скрывается всё тот же маразм. Сегодня мы сохраняем любые тела и любую жизнь, которая ещё теплится. Зато наступила странным образом античность веще́й. Старые тела остаются, но старые вещи – нет. Они безжалостно выбраковываются, выбрасываются, подвергнуты ли они физическому ущербу или моральному старению.
Таким образом, по отношению к вещам, которые нас окружают, мы живём как бы в новой античности. Так, как античность поступала по отношению к телам, современный мир распоряжается вещами. Для нас порой остается очарование ущербных веще́й – стол с тремя ножками, сломанная кофемолка. Их жаль выбрасывать: пусть себе живут, им тоже пришлось пострадать. Почтение к старым вещам остается на пороге гламурной цивилизации и в неё не входит принципиально. Как античность заботилась о том, чтобы только идеальные или близкие к идеалу тела были представлены богам, остального богам не подобает видеть (если же это были тела старцев, то благообразных старцев – мудрецов, философов), так сегодня лишь новые и сверхновые вещи предъявлены миру, остальные безжалостно истребляются. Исключение составляют разве что специально эстетизированные, винтажные артефакты. Что бы могла значить такая странная инверсия: ведь должна быть какая-то связь между удивительным появлением на другом полюсе вроде бы того же самого запрета на старые вещи и старые тела. Как связаны старые вещи и старые тела? Или здесь есть какая-то иная, глубинная, связь? Что это вообще могло бы означать в отношении интересующего нас феномена старения, ветшания, демонстрации миру и друг другу следов времени?
В каких-то случаях это стыдно, в каких-то, напротив, это важнейшая форма демонстрации, поскольку сама старость – это нечто, находящееся за пределами необходимого, это вообще то, что принципиально вышло за пределы эйдоса. Старая вещь хранится не из-за своего соответствия эйдосу (с точки зрения биологического соответствия это плохая кофемолка, негодная дверь, ненужный стул), для нее находятся некие иные основания бытия. Совпадают ли они с основаниями бытия чрезвычайно старых людей? Либо это совсем другие основания?
К.П: Что касается приведенного сравнения старых людей и старых веще́й то это очень интересный ход новоевропейской мысли, которая тяготеет мыслить человека как своеобразную машину. Здесь необходимо учитывать, что и в старых людях, и в старых вещах есть начало комического. Старые вещи и старые тела находятся в отношении дополнительности – как инь и ян, и даже в отношениях контрапункта. Юноша может позволить себе старые вещи, старик же не будет носить потертое и заношенное – в этом есть нарушение вкуса. Хотя в целом тема старых веще́й есть сюжет широко понятой философии техники.
Мне бы хотелось остановиться на проблеме эстетической ценности старости. Тут есть симметрия с эстетической ценностью детства. Ребёнок красив по определению. Хотя это не так очевидно, но и старость красива по определению. Во всяком случае она по определению интересна. Эстетическая ценность старости присутствует и в работах скульпторов античности, и в портретах Рембрандта, В. Серова, И. Репина. Геронтофилия предстает как любование старым телом – любовь к старому телу – мы говорим не об извращениях. В то же время старость может восприниматься и как время свободы. Как сказал один современный философ, я не только не боюсь старости, но хочу её, так как тогда я буду делать всё, что хочу, и мне за это ничего не будет (вероятно, ему всё время приходится ограничивать свои желания). Пресловутая болезнь Альцгеймера не так однозначна. В поведении старых людей присутствует момент разыгрывания старости. Старая женщина десять раз на дню спрашивает у своей дочери, какое сегодня число. Дочь выходит из себя. Старушка торжествует в своем маленьком домашнем господстве. Тот самый трикстер, который подавлен в юности, обнаруживается в старости. Человек зрелого возраста не может себе позволить быть трикстером. Старик может и хочет быть смешным. Примечательна фотография со столетнего юбилея итальянского нейробиолога, лауреата Нобелевской премии Риты Леви-Монтальчини: она прикуривает от свечки на торте в её честь с надписью «100». Да, как будто иронизирует фотография, курить вредно! Но что может быть вредно столетней старухе, на морщинистых устах которой блуждает ироническая улыбка?! Ей же принадлежит фраза: да, мне сто лет, но я соображаю лучше, чем когда мне было двадцать.
Пресловутого Альцгеймера можно использовать как фетиш, с которым старик отваживается вступать в диалог. Не так уж редко старики используют Альцгеймера в качестве жизнеутверждающего фона для комического восприятия жизни.
Любимая скульптурная тема античности – это Афродита и Пан. Пан – «шкодливый старикашка» с козлиными ногами. Как бесстыдна и принципиально дионисийна эта его беспардонная нацеленность на богиню красоты! Сократа сравнивали с Силеном, в чём заподозрены самые основания калокогатии. В средневековых фаблио и в пьесах Мольера старик – это фигура комическая, но комическое – необходимая краска в общем полноцветии эстетического переживания человеческого бытия, разделяемого и самим старцем. Старость несет в себе эстетическое начало комического, и тем она, может быть, и привлекательна.
А. С.: Но всё-таки не комический элемент является преобладающим в образе старости. Сама эстетическая функция охранения того, что уже не нужно, получает свою гарантию именно в отношении к старому, ветхому, бренному – к тому, что уже не нужно ни для чего существенного. Это и фоновый способ хранения философии, всё-таки отличный от религии, потому что нет ничего более актуального, чем воспроизводство души, если душа действительно воспроизводится, если реакторы экзистенции действительно запущены, а не заглушены. Опыт веры требует жертвы, крови. А философия, напротив, существует на излете, когда опыт веры уже не работает по тем или иным причинам (но при этом нужно чем-то занять старцев).
Посмотрим на судьбу старых веще́й сегодня. Старые вещи сегодня изымаются из интерьеров, они должны найти свою помойку и в ускоренном метаболизме исчезнуть с глаз долой. Но они привлекают не только стариков (для которых срабатывают как ловушка), но как ни странно и художников. И это не случайно. Когда витрины гламурной цивилизации заполнены блеском новых веще́й, художник на них даже не смотрит. Художник спасает старые вещи, дает им иную жизнь, например, посредством коллажа, некого сохранения. Ему нужны именно эти вещи, что-то он в них находит, чего нет во всех сияющих витринах вместе взятых. И отчасти в силу этого он художник.
Эстетическая составляющая всегда работает таким образом. Тексты, которые выбывают из своего актуального, конструктивного контекста (например, тексты географии Птолемея или карты Греции и Рима, карты Фернандо Магеллана), сохраняются потому, что нужны эстетически. Именно с эстетической точки зрения нам интересно изучать астрономию Птолемея или медицину Гиппократа. Художник сохраняет старое и производит его ревалоризацию, более того – придает ему сверхценность, потому что эти объекты, раз уж они уцелели, обретают новую жизнь, несравненно более долгосрочную, чем была им суждена в рамках простой полезности, чистой функциональности. Получается, что и сама старость эстетизирована и дает санкцию эстетике как таковой. Смысл эстетики – сохранить ненужное, то, что не является строго необходимым, сохранить то, для чего нет особых эвокаций. Внутри искусства существуют области для эвокаций – резонансов, построенных на гормональных воздействиях. Но область чистой эстетики, чистого искусства основывается на том, что вещи и тела, пережившие соответствие своему эйдосу, которые в каком-то смысле и Богу-то не нужны, тем не менее нужны художнику. Удивительно хранение ненужного, но при этом предельно необходимого в качестве человечности самого человеческого. Если бы не этот образ старости, который хранится далеко за пределами своей нужности, своей востребованности, функциональности, не было бы оснований для чистой эстетики вообще, поскольку эта функция каждый раз заново актуализируется через обращение к старому, брошенному, бросовому, даруя новое хранение и новые сроки в вечности.
К.П.: Самое время упомянуть и бесцельную целесообразность Канта16. Не подходим ли мы к тому, что старость может быть объяснена в рамках именно третьей «Критики» И. Канта – «Критики способности суждения»? Как пишет самарский философ С. А. Лишаев, «ветхое – это и есть бесцельная целесообразность»17. И здесь можно выявить методологию. Старость как феномен социально-философский, антропологический может быть объяснена через бесцельную целесообразность артефактов (искусственно созданных веще́й). Чем, грубо говоря, артефакт отличается от техники? Если техника имеет ярко выраженную постановку цели и средств и техническое устройство – это устройство, с помощью которого можно достигать цели, то артефакт – это, бесспорно, искусственно созданная вещь, цель которой, однако, забыта, утеряна или неактуальна18. В некотором смысле мы можем говорить о том, что старик – это артефакт человеческого бытия.
Я хотел бы ещё добавить, что гламурность современного мира – это тоже явление скорее эстетическое, чем функциональное. И поразительным образом, приобретая гламурность, мы теряем утилитарное удобство. Есть некое поразительное утилитарное удобство старых веще́й. Я бы это перенес и на стариков – присутствует некая утилитарная полезность старых людей. Некогда, ещё в советские времена, был субботник в ЛГУ, во время которого мы должны были перенести в другое помещёние все вещи Д. И. Менделеева – вещи, книги, мебель, баночки с лекарствами, хранящиеся в Музее Менделеева, располагающемся в главном здании университета, «12 коллегий». Перебирая это скопище артефактов, относящихся к повседневной жизни Дмитрия Ивановича, я понял, что время конца XIX – начала XX вв. – это время гораздо более удобных веще́й, чем мы имеем в наш век прессованного картона. Мы живем гораздо менее удобно.
Вспомним сцену из «Жертвоприношения» Андрея Тарковского. Герою фильма на день рождения дарят карту Европы XVII в., которая совсем непохожа на Европу в современных картографических изображениях. Герой делает замечание, что Европа «на самом деле», как оказывается, выглядит совсем иначе, чем думали в XVII в. Даритель отвечает: «И ведь люди тогда жили, и жили очень неплохо!»
На русский язык переведены медицинские трактаты Авиценны. Если их почитать, можно найти массу практических советов, о которых забыли современные терапевты в поликлиниках, и извлечь немало практической пользы. То же относится к терапевтическим справочникам старых изданий – там прекрасно, просто и точно, описаны многие болезни.
Поразительное утилитарное удобство старых веще́й можно перенести и на старых людей. Например, «социальный институт» бабушки: для того, у кого есть маленький ребёнок, какая удобная, совершенно необходимая «вещь» – бабушка!
Также следует отметить, что старые вещи, особенно когда они предстают как некое единство, позволяют реально путешествовать в истории. Если я приезжаю в деревню, где нет электричества и водопровода, то живу так, как жили мои предки. Я постигаю историю глубже, как бы «изнутри».
А. С.: Насчет утилитарности – это, пожалуй, спорный вопрос. Подручность современных девайсов всё-таки не идёт ни в какое сравнение со старыми вещами. Старые интерьеры были удобнее в том, что взаимодействие с инструментом и даже с несколькими простыми вещами должно было актуализовать множество поведенческих программ или некоторые спектры деятельности, нужные для полноты человеческого. Шарманку и ту нужно было покрутить, а не просто нажать кнопочку. Не говоря уже о табакерках, флакончиках и пр. Здесь пригодность определяется антропомерностью. Некоторая критическая сумма веще́й (тем более если среди них есть инструменты) достаточна для того, чтобы воспроизвести человеческое в человеке.