Текст книги "Этика под ключ"
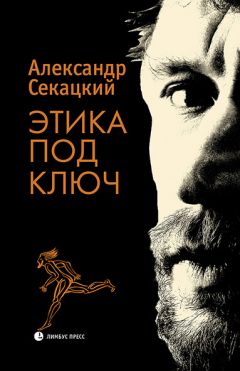
Автор книги: Александр Секацкий
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Этот метафизический тезис опирается на вполне эмпирический аргумент и даже на своеобразный решающий эксперимент: при всех преференциях, даваемых речи, живому труду и плотской любви, без предъявления вещи миссия не будет выполнена. Истинный дар должен содержать в себе определенную концентрацию труда, усталости, заботы, риска, – что-нибудь из этого или все вместе.
Если любовь без дружества всего лишь затянувшаяся конвульсия или серия конвульсий, устремленная к угасанию, то и труд без объективаций, без полномасштабных инвестиций в предмет тоже может быть рассмотрен как нечто подобное. Возьмем опять принцип коммунизма, гуманизма или персонализма, в соответствии с которыми человека следует ставить выше его изделий-объективаций. Вроде бы он не вызывает сомнений и его нарушение лежит в основе отчуждения: люди, обращенные друг другу лишь своей товарной стороной – это краткое и ясное определение общества, где царит отчуждение.
Но, как уже отмечалось, есть важные и далеко идущие различия между товаром рабочего и опусом художника, хотя и то и другое суть формы опредмечивания (овеществления) живого труда. Если художник слышит два обвинения:
1) человек ты замечательный, но вот твои стихи так себе, занялся бы лучше чем-нибудь другим;
и
2) у тебя, конечно, изумительные стихотворения, хотя иногда мне кажется, что ты просто монстр какой-то, – то, скорее всего, первый вердикт будет куда более обидным, тогда как второй может стать предметом своеобразной гордости – если речь идет о настоящем художнике.
И разве это не значит, что великий водораздел проходит внутри овеществленного? Не между духом и материей, а между трудом, отчужденном в товаре, с одной стороны и творчеством, порождающим опус художника, с другой? То есть важнее всего то, с какого рода овеществлением мы имеем дело. Стало быть, в оппозиции, установленной Шеллингом, происходит своя коррекция.
«Продукты, отпавшие от продуктивности, и чистая продуктивность» – это слишком просто, чтобы быть первоисточником всех коллизий духа. Главная же творческая коллизия хронопоэзиса, а стало быть и духа, это коллизия между просто отпавшими от продуктивности, отработанными, осадочными породами, продолжающими оказывать сопротивление и даже усиливающими его, и теми продуктами-объективациями, в которых сама продуктивность, будь то живой труд или творчество, сохраняется и покоится, конденсируется и распределяется по интенциональным коридорам. Речь о различии между глюкалом и бронзовой чашей – вовсе не случайно Хайдеггер ставит данный вопрос сразу после своего знаменитого «почему есть сущее, а не наоборот, ничто?». Одни вещи суть коллекторы биографического времени, а значит, и духа – так что внутри у них как бы находится волшебная лампа Аладдина, другие же – глюкала. Удел их – осесть на дно, издавая характерные звуки, ничего более вразумительного от предметных усилий духа в них не остается. Обезличенное, овеществленное, действительно оказывается самой сутью отчуждения, в которое уходит (точнее, отнимается) жизнь еще прежде, чем она уходит в смерть, – но это утечки в одном и том же направлении. А совсем рядом в незначительном параллаксе, присутствует возможность создать воистину вещь, которая будет воплощением духа и его украшением – и самым надежным биографическим коллектором.
Лампа Аладдина
Два следствия вытекают из параллакса между отчужденным и неотчужденным овеществлением. Лампа Аладдина – удивительно подходящий образ для пояснения сути дела. Она символизирует вещь, сделанную с душой, и потому душа, в данном случае Дух, оказывается помещенным в эту Вещь. Лампу нужно потереть, Чашу – хорошенько рассмотреть и потрогать, и тогда Дух вступит с тобой в контакт. Это может быть заключенный в лампе джинн, конкретно-всеобщее, уловленное в некой вещице, принадлежащей искусству, монограмма самой жизни Мастера-создателя, которая тоже оказывается в распоряжении владельца, если эту вещь «потереть». С другой стороны, в отчужденной конвейерной штамповке нет никакого духа.
В любом случае принципиально важна способность вещи содержать в себе внутреннюю лампу Аладдина или быть такой лампой. Такая способность радикально меняет статус объективаций и даже вообще статус материи. Ведь это значит, что результат спонтанной активности чистого духа нельзя свести только к преодоленным и непреодоленным следам сопротивления: в мире воистину есть вещи, воплощенность в которые возвышает дух, наделяет его настоящей силой и уберегает от рассеяния: таким образом, перед нами, возможно, решающий аргумент в пользу материализма. Нечто духовное, необремененное материей и занятое лишь соотношениями с самим собой совсем не так величественно, как это может показаться. Семена духа без плодородной силы земли не дадут всходов и не приумножатся.
А как прекрасно и точно в этом образе ухвачена сущность труда: нужно потереть лампу. Задумаемся: ведь недостаточно заклинания, просто пароля, сезама и даже простого прикосновения – для извлечения духа требуется некая полнота телесного, осязаемого контакта.
И труд тогда предстает чем-то большим, нежели адаптация к духу тяжести, чем вмененность отбываемого срока грехопадения. Как раз здесь находится абсолютно оригинальный пункт онтологии пролетариата, так и не постигнутый метафизикой от Лейбница до спекулятивного реализма. Метафизики, в сущности, сходились в том, что где духи, там и заклинания. Заклинания, конечно же, могут осуществляться на языке теоретического разума, ведь это он со-природен духу и Абсолютному духу. Пролетариат же в своей онтологии фактически утверждает: в важнейших, ключевых случаях заклинания не действуют – лампу надо потереть… Это событие самого бытия, которое не может быть включено в дискурсивные построения напрямую, но и интеллектуальные окрестности, пронизанные этой гравитацией, никем, кроме Маркса, не были замечены – да и до сих пор вызывают недоумение у многочисленных любителей мудрости.
Суть недоумения в следующем. Философия так или иначе устремлена в умопостигаемое и различает в этой сфере величие Единого, иерархическую лестницу категорий, захватывающие дух приключения понятия и прочие духовидческие картинки. А тут, понимаешь ли, капитал с нормой прибавочной стоимости и «Капитал» с многостраничными выкладками по поводу формулы Т – Д – Т и Д – Т – Д, и даже историческая миссия пролетариата, вроде бы вдохновляющая, но тоже странным образом выводимая из этой формулы… И причем здесь философия, где же здесь, в этих изъятиях прибавочного продукта, метафизическая крутизна?
Теперь есть ответ в той форме, к которой может прислушаться метафизика: лампу Аладдина надо потереть, чтобы высвободить заключенный в ней дух, которому теперь и принадлежит могущество действительности, тогда как там, на излете, среди тощих абстракций, он и сам пребывает в состоянии истощенности и бессилия, достаточном лишь для производства химер и солнечных зайчиков, для интоксикации чистого разума, впрочем успешно выдающей себя за философию.
Далее. Деятельность по одухотворению материи есть труд в самом широком и общем смысле, и в одном случае произведенные вещи содержат внутреннюю лампу Аладдина, в другом же – оказываются могильниками живого труда и стоящего за ним человеческого присутствия. И что может быть важнее этого различия или даже антагонизма, из которого вырастает революция и исходят величайшие силы социальных преобразований? По сравнению с этой коллизией картинки, традиционно рассматриваемые дисциплиной чистого разума, суть только игра теней на стенах платоновской пещеры…
Значит, то, что происходит в ходе овеществления, в процессе производства вещей-объективаций, есть первичная экзистенциальная константа, которую Dasein всякий раз застает на уровне брошенности и забвения бытия. Но эта константа, несмотря на ее заданность, может и должна быть изменена – таков кратчайший смысл революционности марксизма. Важно только не упускать из виду этот контрапункт всеобщего труда, от которого в разных направлениях расходятся круги по воде, а также по прочим стихиям – по земле, конечно же, и даже по стихии тумана, где она представлена активностью болотных огней, свечение которых и регистрируют мудрейшие из обитателей пещеры. «По всей округе разносится пение соловья, но сама птичка у меня в руках» – словами этой малагасийской пословицы мог бы сказать о себе настоящий марксист, чем точно обозначил бы свое онтологическое преимущество над другими, весьма искренними теоретиками.
Столкнувшись с коллизией труда как универсальным вызовом, пролетарский авангард должен составить что-то вроде краткого манифеста на кантовский лад: «Что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться?» В черновом варианте ответы могли бы выглядеть так.
1. Что я могу знать?
То, что факт эксплуатации труда капиталом есть основополагающий факт истории и современности. Это не просто частная несправедливость, совершаемая в отношении меня, но всеобщее противоречие, искажающее историю и естественный ход вещей. Мой труд отчуждается без достаточной компенсации – и пусть созерцатели теней с их извращенной гносеологией достают микроскопы, чтобы рассмотреть мою проблему, – я-то знаю, что здесь определяется судьба бытия, ибо этот антагонизм стягивает графики и расписания в дисциплину времени, загоняя в отчуждаемую товарную форму творческие порывы – и это касается сердцевины человеческого в человеке, касается всех людей. Ежедневное отчуждение проживаемой жизни посредством ущербного, преступного овеществления, есть несправедливость того же ранга, что и сама смертность или порабощение Духом тяжести, эта несправедливость может и должна быть устранена. Это то, что я могу знать.
И еще. Приложив усилия, я без всякого микроскопа могу разобраться в том, как душевные порывы преобразуются в бездушные изделия, могу осуществить тем самым материалистическое понимание истории и приобрести выстраданный, ежедневно проверяемый взгляд на основной вопрос философии.
Соотношение духа и материи по-настоящему может быть понято именно в производстве вещей, причем во всем диапазоне, включая сюда производство простейших изделий, акцентированный процесс труда в рамках свободной кооперации, например коммунистические субботники и создание произведений искусства. По сравнению с этим обширным праксисом любая теория будет схематичной – и тектология Богданова с ее соединением элементов активности и элементов сопротивления, и гегелевская диалектика, и даже политэкономия «Капитала».
2. Что я должен делать?
Ну, это совсем просто: встать в ряды атлантов и не покидать их. Только те, атланты античности, удерживали небо от падения, а атлантам пролетариата приходится еще удерживать его от улетания. То есть, с одной стороны, следует сопротивляться эксплуатации и утилитаризму, фетишизму производительности труда, а в конечном счете фетишизму пустых скоростей, совершенно не направленных на то, чтобы возжечь внутреннюю лампу Аладдина в каждой вещи. С другой же стороны – отстаивать форму предметности, важность объективации, чтобы предотвратить изготовление глюкал и простое отбывание номера на работе.
Для удержания этой дистанции, этой золотой середины человеческого бытия, недостаточно простого равновесия, адаптации к естественному ходу вещей – необходим весь драгоценный многовековой опыт труда с избранными извлечениями в состав совокупного праксиса. Сюда войдет и опыт Мастера, изготовителя Чаши (Хайдеггер), сумевшего поведать и о духе, и о материи, и о себе; и опыт преодоления сопротивления материи, добытый художниками Возрождения; и революционный опыт самоорганизации фабричных рабочих. Все это и многое другое необходимо, чтобы удерживать золотую середину бытия; тут годится термин Хайдеггера, используемый, правда, несколько иным образом: стояние в просвете. И следует иметь в виду, что это стояние преисполнено бдительности и требует атлетизма духа.
3. На что я могу надеяться?
На то, что будут преодолены фальсификации с одной стороны и соблазны с другой. Что лампа Аладдина не будет выдернута из сердцевины вещей. Этого не должно произойти потому, что не существует других, столь же аутентичных способов человеческого присутствия и в действительности нечем заменить посредничество вещей, в которые встроена эта лампа, то есть вложен нашедший свое воплощение труд души. Я могу на это надеяться не в силу абстрактных требований истории или «научно-технического прогресса», который, похоже, как раз на стороне ленивого развеществления, а потому, что еще ни одна этика и ни одна теория вообще не представила такой полноты человеческого, которая могла бы обойтись без полновесных объективаций, без встроенной лампы Аладдина, которую нужно все же потереть, затратить некоторое время на распредмечивание.
Таким мог бы быть черновик манифеста – но затем, поскольку было бы необходимо углубиться в первый пункт, непременно встала бы проблема различия между вещью и художественным творением – не только в хайдеггеровском ключе. Изымаемая норма прибавочной стоимости сохраняет свою важность, равно как и способ ее изъятия, но в онтологию пролетариата здесь входят и некоторые вопросы общей эстетики – впрочем, в самой эстетике практически не разработанные.
Изделие и произведение, вещь и опус
На чем основана привилегированная роль опуса (произведения) по сравнению с обычным изделием, с общей товарной формой? Почему труд живописца относится к иному метафизическому ведомству нежели труд каретных дел мастера или циркового дрессировщика? Высокопарный ответ насчет того, что в одном случае речь идет о подлинном искусстве и его магии, а в другом всего лишь о чем-то рукотворном, пролетариатом на веру не принимается.
Например, уже средневековая Япония возводит чайную церемонию в ранг искусства, и мастера этой церемонии удостаиваются, в сущности, не меньшей славы, чем знаменитые актеры и выдающиеся режиссеры в Европе. В Китае то же самое можно отнести к искусству гадателей, включая гадателей по панцирю черепахи – это эстетически-магическое действие, окруженное примерно той же аурой, что и презентация новой симфонии в Европе…
А вот изделия плотника и токаря не содержат в себе никакой магии, и уж тем более никакая аура не признается за трудом фабричных рабочих. Выражаясь языком Маркса, пролетариат должен констатировать отсутствие объективных и субъективных условий для возможного возжигания лампы Аладдина внутри вещей, то есть условий для того, чтобы объективация не была исключительно практикой отчуждения, а могла нести в себе следы авторского одухотворения.
Ведь введение в оборот культурно-исторического контекста сразу же ставит вопрос об условности и произвольности сложившегося водораздела между искусством и ремеслом. И если пролетариат в своей онтологии не смиряется с сопротивлением материи, поскольку оно является чистым противодействием слепых стихий (а не формой предметности, которую материя принимает и удерживает под воздействием духа), то и социальные установления, какими бы древними, почитаемыми и «естественными» они ни были, отнюдь не принимаются просто по факту, они непременно подвергаются ревизии, проходят проверку на устойчивость устоев. Как уже отмечалось, правозащитная деятельность с точки зрения революционного пролетариата подчинена правополагающей деятельности.
Ясно, что и фундаментальное различие между магией нетленного искусства и «бросовостью» всякого прочего ремесла, мастерства и вообще труда, отнюдь не принимается на веру, и, разумеется, профессиональные заклинания искусствоведов не воспринимаются как железные аргументы. Интуиция подсказывает пролетариату, что наладчик, машинист, слесарь имеют право на собственную авторизацию, на внутреннюю лампу Аладдина. Увы, соцреализм не смог ни донести, ни даже внятно сформулировать это требование, если, опять же, не считать «Джан» и «Происхождение мастера» Андрея Платонова…
Формирование пролетариата как класса можно описать в терминах мобилизации духа. Дух как разум (raison) предпринял новый штурм естества, материи как стихии или буйства стихий. Отметим особо: речь идет о второй мобилизации. Первая, которая и была содержанием антропогенеза (или наоборот, антропогенез был ее содержанием), заключалась в утверждении автономного мира контр-естественности, мира, который, насколько это было возможно, был выведен из-под юрисдикции законов физики и биологии, из-под власти естественного отбора в частности и прежде всего. Эта мобилизация увенчалась установлением диктатуры символического, дух отвоевал территорию, на которой теперь могло осуществляться бытие вопреки – вопреки всему, что не есть он сам.
Вторая мобилизация, во имя которой и был сгруппирован пролетариат, опиралась и на другой руководящий принцип, который можно назвать хитростью разума. Естество теперь подверглось преобразованию путем перегруппировки вторичных линий активности и сопротивления, как сказал бы Богданов. Или, используя изящную формулу Гегеля, «воздействия острым концом хитрости на тупой конец мощи». Вторая мобилизация тоже прошла в целом успешно, но ее последствия трудно охарактеризовать одним предложением: научно-технический прогресс, торжество ratio, покорение природы, торжество Просвещения, расцвет капитализма.
Далее. Успех второй мобилизации, второго крестового похода духа был частичным и породил внутренние антагонистические противоречия в новой формации. Хитрость разума оказалась сконденсированной на одном полюсе и как бы экспроприированной: это предпринимательство и предприимчивость в той мере, в какой они могут породить капитал и, в свою очередь, быть им поглощенными. То есть изобретательность ученых и изобретательность как родовая классовая черта буржуазии в целом. На другом же полюсе, там, где пролетариат, оказались сгруппированными стойкость и сила духа, которые капитал склонен был расценивать как тупой конец мощи, как материал, заслуживающий лишь преодоления, укрощения наряду с прочими стихиями, для чего, соответственно, требуется систематическое применение хитрости.
В действительности острый конец хитрости был общим достоянием второй волны мобилизации духа, ибо он, сажем так, бесполезен без прочной рукоятки и надежного упора. Но капитал обратил его против труда, против предметно организованной материи как субстанции труда. Пролетариат, в свою очередь, столкнулся с задачей экспроприировать, изъять у буржуазии хитрость разума, выбив ее при этом с командных высот социальности – после чего запустить третью волну мобилизации духа, поскольку вторая очевидным образом выдохлась. Необходимо было – и задача эта по-прежнему актуальна – отстоять свое право на достойное воплощение присутствия и сам принцип предметного инобытия как оптимальный способ соприсутствия духа и материи. Необходимо было защитить вещь и избавиться от дискриминации самой среды вещественности.
Таким образом, нравственность пролетариата будет лишь другой стороной его метафизики, то есть материалистического понимания истории.
И всё же сконцентрируемся теперь на морально-этических аспектах подлинного, продуманного до конца материализма. Для обычной плоской этики – будь то прагматизм Бентама, разумный эгоизм Гельвеция-Чернышевского или этика в духе Кропоткина – пролетарская мораль представляется чем-то отрывочным, подчиняющимся могучим внешним гравитациям вроде классовой солидарности, исторической своевременности или несомненного приоритета обогащенной материи над голодным духом. В пролетарскую этику, которая всегда конкретна, как сама истина, вполне может входить норма прибавочной стоимости, причем на тех же правах, что и любая заповедь в евангельском духе. Поэтому для целого семейства таких герметичных этик пролетарская этика может предстать (и предстает) неким образцом безнравственности. Все попытки как-то «облагородить» этику пролетариата, придать ей вид юридически не противоречивого документа, бессильны и нелепы. Например, моральный кодекс строителя коммунизма был типичным образцом такого рода. Там в двенадцати положениях излагались правила поведения советского человека – образцы правильных мнений, а также правильных форм самочувствия. Ну и заклинания в качестве побуждений для перехода в нужное состояние. Все это не слишком отличалось от правил поведения для первоклассников, и «моральный кодекс», можно сказать, внес свой вклад в смеховую культуру советских людей посредством многочисленных анекдотов.
«“Все во имя человека, все для блага человека”, – какой точный, справедливый девиз, я даже знаю имя этого человека», – и следовало имя очередного генсека. Правда, нельзя не отметить, что этот пресловутый кодекс по принципам составления чрезвычайно похож на сегодняшний свод правил политкорректности, который, однако же, на каждом шагу доказывает свою действенность. Дело, возможно, в подключенности к репрессивному аппарату, каковым является собственное сознание, причем не только индивидуальное сознание, но и вся атмосфера современного общества, где власть в ее повседневных проявлениях захвачена юристами («законниками»), хотя есть основания подозревать, что и этот новейший гуманистический кодекс ожидает в конечном итоге та же самая участь.
Так или иначе, если отбросить дешевые агитки вроде упомянутого морального кодекса, придется признать, что этики пролетариата в виде некоего пособия не существует. И все попытки составить текст из смеси общечеловеческой и классовой морали потерпели фиаско. Классики марксизма, кстати, и не ставили перед собой такую задачу, предпочитая для подобных случаев изречение, полюбившееся еще Гегелю: «Чтобы научиться плавать, надо плавать». То есть входить в воду и пытаться плыть, из чего, однако, не следует, что самоучители плавания совсем уж бесполезны – они просто принципиально неполны.
Тут еще нужно иметь в виду, что специфическая революционная этика, совпадающая с логикой бунта, не совпадает с этикой пролетариата. Они могут быть ситуативно близки и почти тождественны, но подобные совпадения носят краткосрочный, ситуативно-исторический характер. В целом же этика пролетариата намного шире, поскольку включает в себя всю полноту истории и даже предвосхищаемое будущее. Революция время от времени встает на повестку дня, и тогда от пролетариата, и тем более от его авангардов, требуется максимальная готовность, но и в таком случае конкретная ситуация современности всегда обладает приоритетом.
Поэтому революционные воззвания в составе пролетарского мировоззрения не носят сквозного, универсального характера. Конечно, Ленин говорил, и не раз: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уж видно будет…» Однако концентрация всей энергии в пространстве политического обессмысливается, если ситуация слишком затягивается. Можно включить право на бунт в список основных прав человека, как это делает Бакунин и его последователи. Неотчуждаемое право на бунт, несомненно, заставляет сильнее биться сердце, особенно в юной груди, но и оно, это священное право, как показывает опыт истории, способно легко превращаться в абстракцию, в бурю в стакане воды, в сброс пара из котлов.
Со времен Кропоткина анархизм далеко продвинулся в сфере громокипящих фраз. Вот что, например, пишет один из современных представителей анархизма Хаким-бей (П. Уилсон): «Пять лет назад еще можно было занимать в этом мире третью позицию – ни “за”, ни “против”, по чувству или по расчету, область вне дихотомий, пожалуй даже, укрытие, самоустранение как проявление воли к власти.
Но сейчас есть лишь один мир – торжествующий “конец Истории”, конец той невыносимой боли, что зовется воображением: на самом же деле – апофеоз компьютеризованного социального дарвинизма.
<…> Поэтому необходимо выбирать – либо мы признаем себя “последними из людей”, либо мы признаем себя оппозицией… Все позиции, основанные на отказе, должны быть пересмотрены с новой точки зрения, исходя из новых стратегических требований. Можно сказать, что нас загнали в угол. Идеолог прошлого определил бы ситуация как в очередной раз “объективно предреволюционную”. Вслед за временной автономной зоной, вслед за восстанием, снова видна необходимость революции – виден джихад»1212
Хаким-бей. Хаос и анархия: Революционная сотериология. М.: Гилея. 2002. С. 19.
[Закрыть].
Как мог бы заметить российский пролетарий 1917 года: «Очень р-р-революционная фраза». Но конечно, не более чем фраза, далекая от этики пролетариата, осуществляющего настоящие революции и ведущего непримиримую классовую борьбу. То, что для анархистов типа Хаким-бея есть этика и экзистенция, для пролетария – повестка дня, и, перефразируя Христа, пролетарий мог бы сказать: каждому дню принадлежит его собственная повестка. При этом революционность класса сомнению не подлежит, ведь это класс, устремленный в будущее. Другое дело, что истинное бытие и достойная человеческая жизнь не сводятся к политической активности, у пролетариата есть и иные задачи, причем в развертке жизни как целого более важные: отстоять ценность объективации в свободном труде и поддерживать обогащенную предметностью материю. Те же, чья жизнь протекает только в политическом измерении, суть паразиты и маргиналы с точки зрения онтологии пролетариата.
Потому-то действующую этику пролетариата труднее всего сформулировать как предложение под ключ. Она не разворачивается на ровном месте без подключения к истории, к труду, к рельефу социальной неоднородности. Если бы «Этика» Маркса была написана, она больше всего напоминала бы «Этику» Спинозы, то есть непременно включала бы положения о природе вещей, о сущности времени, об универсальности метода, но при этом в конце или в середине каждого раздела оставалось бы место, называемое «страничкой для заметок», которое требовалось бы заполнять для авторизации и актуализации по месту и времени, и без такого заполнения этика была бы недописанной и непригодной для применения, подобно незаконченному предложению «Я старше, чем…». Этические предписания сами по себе не могут быть истинными независимо от истин онтологии, то есть от степени сопротивления материи, от состояния собранности или разобранности социального тела, от действующего градуса солидарности; словом, перед нами активно-реактивная этика, принципиально не совпадающая с моралью господина, описанной у Ницше, обладателя длинной, несокрушимой воли, не признающей извиняющих обстоятельств, но при этом подслеповатой и частенько принимающей деревянные мельницы за чудовищ и вообще принимающей одно за другое. Вот и кантовские моральные императивы с их знаменитыми формулировками «не смотря на», «не взирая ни на что» слишком похожи на приготовления к игре вслепую. В противоположность подобным установкам, пролетариату, безусловно, свойственна зоркость, она этически окрашена и определяет важнейшие поступки. Там, где чистый практический разум, согласно Канту, судит и действует, «не взирая ни на что», там пролетариат обязательно скажет: это смотря что. Смотря как и кому. Потому что важно взирать, смотреть и смотреть в корень, проявлять зоркость и бдительность.
Такая бдительность есть сознательное оформление классового чутья, и оборотной стороной при этом является классовая солидарность, которую интересно сопоставить с этикой воинского братства и боевого товарищества, воспетого Гоголем устами Тараса Бульбы. Во-первых, исторически переходящее знамя пролетариата1313
См.: Секацкий А. Миссия пролетариата. СПб., 2015.
[Закрыть] позволяет удерживать всякое достояние передовых классов, так сказать, предшествующих аватар пролетариата – в том числе и моральное достояние воинского братства (феодально-рыцарского сословия). Товарищество как важнейший нравственный принцип извлечено именно оттуда и усвоено пролетариатом через голову проигнорировавшей его буржуазии: обращение «товарищ» задает круг своих и, что важно, круг удивительной широты. Свой, или товарищ, – это, вообще-то, человек труда, имеющий дело с предметом и не стремящийся избавиться от объективаций жизни, тем более посредством утяжеления предметной обремененности для других. В отличие от гегелевского господина, не желающего и не умеющего углубляться в материю, и в отличие от «человека схемы», успешного или не очень в своей охоте за солнечными зайчиками, пролетарий обращен к конкретности и основательности. А в отличие от раба, он направляется к труду не внешним побуждением – он знает, что это такое, на чем и основывается доверие к товарищу, тоже знающему это. Поэтому его товарищи, не столько его сограждане, сколько соратники, могут быть бурлаками на Волге, железнодорожными рабочими в Намибии или плотниками в Кентукки, ведь их интересы, если копнуть глубже, если преодолеть искусственную резервацию конкуренции, совпадают – и такова онтологическая основа пролетарского интернационализма. У всех рабочих есть своя республика, и она тоже есть «вещь общая», res publica. Однако если общее поле других классов выдвинуто исключительно в политическое пространство, где преобладает проективность и схематичность, и потому там неизбежно возникает хищный паразитический слой, то вещь общая для пролетариата и есть прежде всего сама вещь как объективация труда и всякой сущностной самореализации. В этой всемирной республике у пролетариата имеются внешние и внутренние враги, с одной стороны – неподатливость материи, с другой – вытеснение предмета как всеобщего из сферы самореализации, то есть эксплуатация труда с неминуемым отчуждением его результатов от персонального, авторизованного бытия. Отстаивание своей республики, несомненно, образует этическое измерение для пролетариата и его коллективную экзистенцию – сущностно универсальную, но являющую себя по-разному в зависимости от исторического горизонта.
О современной повестке дня
И вне зависимости от всего вышесказанного мы все равно вправе спросить: чем могла бы быть эта этика сегодня? Попробуем присмотреться.
Во-первых, сослагательное наклонение «могла бы быть» тут отнюдь не случайно, поскольку на сегодняшний день пролетариат расформирован. Его прежняя, исторически последняя ипостась (аватара), класс промышленных рабочих, больше не является революционным классом, и, в принципе, эта общность распалась как социальное целое, как класс, что, впрочем, не уменьшает ценности его исторических и экзистенциальных уроков. Его наследие важно и для консолидации этики, хотя скорее не под ключ, а на вырост. И определенные моральные максимы, опирающиеся на опыт прошлого, могли бы способствовать формированию нового пролетариата.
В своих изысканиях, и в частности в «Миссии пролетариата», я высказал предположение, что революционным классом ближайшего будущего окажется содружество актуальных художников – я и сейчас думаю, что такое содружество будет играть в ближайшее время все большую роль. Но все-таки что-то не сходится, не хватает ресурса материи, если угодно, исторического материализма, привязанного к жизненному опыту.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































