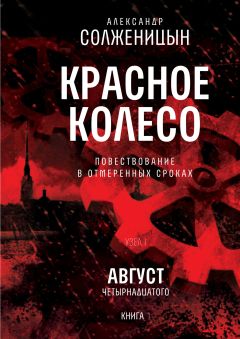
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Документы – 1
23 июля
ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ – ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II
…Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.
Документы – 2
31 июля
Запись маршала Жоффра
…Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.
Документы – 3
1 августа
НИКОЛАЙ II – МИНИСТРУ САЗОНОВУ
…Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.
2
Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, – так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война – грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая – и в раздольной безтревожной степи, под небом безтучным – засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что эту войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить – и даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой и пожигаемый солнцем, Саня решился ещё неясно, неокончательно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил средь них решающего: через тёмную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.
И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.
Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему, – поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы – и смял бы, сбил всё настроенье своё и, может, даже, в станицу бы вернулся.
Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.
Расстался с ней – тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?
Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница – Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней – ничего б не стоило и всё его решение, и движенье.
Хотелось, мечталось Сане дожить – полюбить по-настоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.
Но теперь пока расстилалась – война.
В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продух, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простеленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе, – Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками.
А то слышал он название станции или высматривал её черезо щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.
Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию – ту, что начинается только от Воронежа.
Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).
Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках да стригли овец. Окоренились.
Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришёл погасить её. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось – алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шири, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни местечка.
В той России – много красот умеренных, разделённых, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разливистых восходов на всю вселенную – не бывает.
Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, пять лет назад, Саня вышел со станции Козлова Засека – идти к Толстому. Было сочней и свежей, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по косогору и попал в такой лес – просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться, – а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!
Но нет, лес поднялся к орловскому большаку – и оборвался. Саня понял свою ошибку: только переваля через большак, он спустился к яснополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослию. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.
Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продраться сквозь заросль – и просто, без цели, походить тем парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, где сиживает он.
Тут были петлистые аллейки, небольшой прудок, ещё один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей – не было видно. И в раннем солнечном переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.
Но ещё поднялся по берёзовой аллее – длинной, прямой и узкой, как коридор. Берёзы сменились клёнами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрежение парка, окружённое липовым прямоугольником, ещё разбитое вдоль, поперёк и диагонально дорожками. И – кто-то мелькал по этим аллеям, шёл довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал. И увидел – Седоволосого, Седобородого! в длинной рубахе с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража.
Толстой шёл с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился и едва ли не минуту неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошёл. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет – и тогда голова его, в обхвате парусинового картуза, вспыхивала как нимбом. Так он прошёл все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу совсем рядом с Саней.
Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налегши грудью на липу, обнимая пальцами её дорожчатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел помешать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а вдруг Толстой следующий раз уже не завернёт сюда, уйдёт к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.
И с колотящейся смелостью Саня вышагнул на дорожку – издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял гимназическую фуражку (он тот год носил её, пока отец не отпустил в студенты) – и стоял прямо, немо.
Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немым обожателем:
– Здравствуйте, гимназист.
Кто же к кому пришёл? Кто кого искал? Как будто самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо ответил:
– Здравствуйте, Лев Николаевич!
И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст.
– Откуда же вы, гимназист? – вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше.
– Из Ставропольской губернии, Александровского уезда, – теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнулся, прокашлялся, поспешил: – Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? – какая жизненная цель человека на земле?
Но – не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безусильно сдвинулись в произнесенное тысячу раз:
– Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.
– Так, я понимаю! – волновался Саня. – Но скажите – служить ч е м? Любовью? Непременно – любовью?
– Конечно. Только любовью.
– Только? – Вот за этим Саня и ехал. Теперь свободней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался, и, по свойству юности, он хотел даже великому собеседнику выявить таким образом своё не совсем пустое мнение: – Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмёт верха – ведь тогда ваше учение окажется… без… – не мог договорить. – …Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием – и сперва на нём пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже – на любви?.. – И пока Толстой не ответил, в этот последний миг: – Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, – всеобщего взаимного доброжелательства н е т, Лев Николаич, н е т!
Ещё свои заботы не ушли с борождённого стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твердо посмотрев, безколебно ответил старец, всей жизнью выношенное:
– Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.
И – кажется, не хотел больше говорить. Как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать своё.
Болезнуя, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и ещё одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился:
– Что до меня – я так и хочу, через любовь! Я так – и буду. Я так и постараюсь жить – для добра. Но вот ещё, Лев Николаич! Само-то д о б р о! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают…
Приостановился пророк, мол – да. И остриём палки чуть посверливал в твёрдой земле.
– Вы пишете, что добро и разум – это одно, или от одного? А зло – не от злой натуры, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, – духа лишался Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, – никак! Вот уж никак! Зло – и не хочет истины знать. И клыками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А – делают. И – что же с ними?..
Даже пальцами губы свои прикрыл, чтобы больше не говорить, чтоб самому-то услышать!
Вздохнул старик глубоко:
– Значит – плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И – поймут. Все рождены – с разумом.
И, расстроенный, пошагал с палочкой.
А Саня – стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушёл. И ещё потом стоял.
Так он надеялся в три минуты от Самого узнать и понять! Не понял.
Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах: всё-таки – можно? хоть для себя, потихоньку? Или – решительно противоречит?.. Тайно всё равно влекло его слагать строки и рифмы. И в альбомы девицам, шутки ради, он записывал иногда. Однако и ограничив себя в стихах, тем не сберёг заметно времени и не открыл кратчайшего пути: как же служить Царству Божьему на земле?
Никогда не знал Саня уверенности в себе, каждый год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он преодолеть отцовскую волю, затягивал его жребий степного неуча. В сельской работе провёл он тот год, после поездки к Толстому, лишь немного читая, что попадалось, больше всё Толстого же. Наконец отпущен был в Харьков, но начав курс историко-филологического факультета, ощутил свою дремучесть, своё степное невежество средь городских студентов. А в Харькове год поучась и найдя в себе дерзость после первого курса перешагнуть в Московский университет (и Котю с собой увлёк), он ещё долго ощущал себя отставшим, недоразвитым, не домысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским – как будто правильно, очень верно! Плеханова дали – опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин – тоже к сердцу, верно. А распахнул «Вехи» – и задрожал: всё напротив читанному прежде, но – верно! пронзительно верно!
И стал брать его от книг – страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться с книгами – как вот теперь война, и уже не научиться, не нагнать.
Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.
Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочках, а остальная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.
И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь, – может быть, эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.
Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шёл в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, – и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.
Вот отдельно показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженые возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в безпечном белом, нетрудовом.
Наверно, молодой. Наверно, прелестной.
И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.
3
Ещё при первом разрыве сна, ещё прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, – тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.
Глаза открыла: не в спальне. Одна.
Распахнула ставни в парк – а утро какое! а воздух с теневым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.
Какого счастья?.. Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа сейчас же может быть заказан, доставлен.
Последняя крупная ссора длилась у них три дня, – три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым – всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут ещё и войной, – что решилась Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя нисколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь – тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.
Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.
В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.
Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.
И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).
Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезда в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.
У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, на войну, для войны.
Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её… Не о муже, она не думала, что так получится! Она говорила вообще о тевтонской угрозе… А Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она…
Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия.
Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал ирининого покойного отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? – а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: «У этого деньги из рук не вырвутся».
Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! – только так её звал. А в семнадцать ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.
Однако свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждается на том, что есть, на том растёт – и в этом её сила.
Свершилось – и Оря покорно признала невыбранного мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и заграницам – всё досталось Роману от ориного отца, не от своего, – так можно б его поминать хоть не руганью?..
Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним – пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец.)
Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели – лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто – только два, через уголок: золовка Ксенья спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.
Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и устоявшийся покой – вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом – так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу шестерых детей – только Ксенью, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.
Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.
Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше – и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть – сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.
В прачечной тщилась свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распоряжалась не принимать в стирку тонкого белья невестки («зачем дорогое надевать? кто его видит?»), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец – и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрайнего люди заимствовали, брали, воровали, было десять человек домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих – конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, – кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: «Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ на́йдут». Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм, – Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом, и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые расскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина, наоборот, убеждала свёкра, что монашки – хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.
С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:
– С Ромашей ночью – опять поврозь?
Ирина опустила прямоносимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.
Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты, – изумление:
– Чтоб жена – и сама отдельно? Не слыхано… Если б тебя он прогнал – я б тебе ничего не сказала.
Это она не только о сыне – она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.
– А так мы никогда и не дождёмся…
Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли «Коль славен наш Господь». (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода рюриковичей.)
– Гордость надо нагибать, Ируша…
Ах, нагибала, нагибала, – да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел, – и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: «Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!» – и свёкор, вилку швырнувши на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало: «Старушечка моя!» – тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.
Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё свекровь – упруго ответно поднималось в ней тёмное:
– Зачем вы так баловали? зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним – жить.
– А чем он плохой вырос?
Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед кабинетом, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: «Сукын ты сын!!» – кричал и топотал Захар Фёдорович, побагрев глазами. «Ты – сам!!» – кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: «Мама! Заприте дверь!», только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревоженные родители тут же стали слать ему телеграммы – сыночек, вернись, приезжай!
Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.
Кончился завтрак. Ирина встала, пошла – в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя – опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.
Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.
Со всеми службами и огородами занимала придомная усадьба двадцать десятин – было куда пойти: в прачечную; в погреба – осмотреть с экономкой запасы; по казармам обойти жён рабочих-срочников; или, пожалуй, в оранжереи.
Но куда ни иди, надо решать: мириться или нет? смириться или нет?..
Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, не поднять головы на веранду их спальни, откуда наверно высматривал он. Выражая обиду, он способен затаиваться там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, ни по дому.
Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было тревог, что не привьются: из великокняжеского крымского сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и на каждой промечено было, какой стороной сажать на восток.
Дальше вились сиреневая, каштановая, ореховая аллеи.
«Шоб гро́ши зароблять – нужен ро́зум», – говаривал Захар Фёдорович. Но не меньший розум да ещё и вкус нужен был, чтоб те деньги тратить. Несчитано денег было и у Мордоренок, да как они их тратили? Долго жили по-чумазому, Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зубов, сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми вместо медяков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом покупали в Петербурге у братьев-графов Граббе шесть тысяч десятин кубанской земли – размахнулся Захар Томчак: «Угостим графьёв? Да нэ як воны угощают, дрэбэдэнькой», – но чем же именно угощать, так и не мог придумать в ресторане Палкина, а велел нести побольше да подороже.
Как обставлять жизнь – Захар Фёдорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: «Га́рно, Ируша, гарно!» Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд – с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нём же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях: самостоятельность пейзажа, отъединённость от окружающей местности, непохожесть на неё. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам – парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места, с Карамыка, из-под Святого Креста, сотни две фруктовых деревьев, – принялись. За садом – виноградник. Вкруг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе – изумрудный английский райграс, подстригаемый газонокосилками.






























