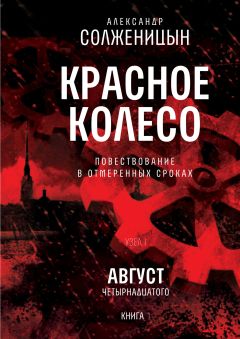
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
13
А если честно говорить, была ещё одна причина нынешней его лёгкости. Ему оттого было сейчас так легко и свободно, что он уехал из дому.
Он не сразу поверил этому ощущению в себе, он поразился: никогда прежде не было радости или облегчения от разлуки. Но три недели назад в Москве, когда они в штабе округа получили приказ о всеобщей мобилизации, и во всю же голову, во всю же грудь наполненный только общим, – Воротынцев однако приметил, как между глыбами войны проскользнуло радужной ящеричкой: теперь он естественно надолго отъедет от жены. Как будто станет свободнее или отдохнёт?
Странно. Вот не думал. Отчего и было ему крылато-легко во всей жизни, во всех его движениях и планах, – что он очень удачно и быстро женился. При его острой направленности, захваченности единым Делом, ему скорей должно было не повезти с женитьбой, как многим не везёт, – а ему повезло. Для устройства счастливой семейной жизни люди тратят много внимания и забот, а ему так легко: сразу – удача! превосходная жена.
Когда-то, ещё в последний год прошлого царствования, юнкером первого года, он опоздал в училище с гимназического бала: зацеловался с гимназисткой в Неопалимовском переулке, пришлось перелезать через забор, и всё равно был обнаружен. Наутро его вызвал сам начальник училища генерал Левачёв, царство ему небесное. «Ну что ж, Воротынцев? Двое суток гауптвахты?» – «Есть двое суток, ваше превосходительство». Высокий стройный генерал ещё и разговаривал стоя, светлыми насмешливыми, а потом вполне серьёзными глазами глядя на юнкера: «Мне не жалко дать вам эти сутки, а вам не жалко их отсидеть. Но, Воротынцев, с вашими выдающимися способностями, с вашей хваткой, – я слышал, вас дразнят “начальником генерального штаба” – (действительно, кличка такая была, и Воротынцев не считал её пустой, внутренне он не исключал такую возможность годам к пятидесяти), – примите дружеский совет опытного человека. Карты да неумеренное питьё – скольких прекрасных офицеров замотали. Но незаметней того, а больше – сглодали нашего брата дамы. Поверьте, все эти ухаживания, а потом личные потрясения – пустяки, ничто, трата лучших молодых сил и времени. Не рассори́тесь! Успеете. Хоть и говорится “ешь с голоду, люби смолоду”, но слишком смолоду человеку талантливому – некогда любить. Семья придёт своим чередом. А в движении к высшим военным должностям должно быть что-то монашеское. Подумайте!»
Воротынцев и подумал. И – принял. Он даже усвоил это внушение генерала Левачёва как прирождённую свою мысль, так хорошо ложилась она в план его жизни.
Да ещё раньше, ещё в детстве Георгий где-то прочёл, услышал об этом безсмертном выборе – Любовь или Долг? – и уже тогда для себя решил не колеблясь, тотчас и навсегда: Долг! Долг! Долг! И впредь – ухаживания и даже размышления над всеми этими так называемыми любовными вихрями он настолько не принял в свой опыт, что ни от товарищей по службе, ни от случайных встречных даже на досуге не выслушивал любовных историй, отводил, избегал их, не тратил времени. Совет генерала тем прочней лёг в основание его молодой жизни, что от родного отца он никогда ничего ясного на этом пути не слышал.
Отец и вообще никогда никакого своего опыта ему не передал. Единственное, чем он пытался направить жизнь сына – отдачей его в реальное училище, а не в кадетский корпус, как Георгий рвался. Но и за семь лет реального Георгий не остыл, не уклонился и всё равно поступил в Александровское училище. Он как бы искупал измену деда и отца их родовой традиции: они отвратились от военной службы, и уже оттого отец не заслужил полного почтительного внимания сына. Да и семейное вряд ли что отец мог посоветовать, потому что сам он счастлив не был, последние годы они жили с матерью плохо, порознь, – а почему, Георгий не вникал, и не взялись они ему объяснить, а только веяло над ним тоскливым безрадостьем и безвыходьем семейной жизни – может быть, и всякой семейной жизни? может быть, и не бывает другого развития?
И как бы в тон этому родительскому разладу в юные годы Георгия всегда звучала в их доме фортепьянная игра матери – всегда элегическая, пронзительно-грустная. Сама для себя она много играла, и этими звуками был наполнен их московский дом, Георгий пронизался ими, полюбил их, пристрастился даже. Было жалко маму, но – и не умел её утешить.
А мать не упустила воспитать в сыне – рыцарственное, преклонённое отношение к женщине. Что женщине недостаёт защиты от грубого течения жизни, и мужские руки, от избытка своих сил, должны приподымать её над этой жестокостью. Георгий охотно и прочно это впитал, это укладывалось и в его характер, он и чувствовал в себе этот избыток сил, при котором не унизительно служить слабому существу.
Алину в первый раз Георгий увидел и услышал в тамбовском дворянском собрании – и тоже за роялем, в концерте, и так сразу зажглись и сплавились ему в одно впечатление: и наружность её – вот, кажется, такой тоненькой, поворотливой, среднего роста, среднего цвета волос и с такой улыбкой он всегда и ждал встретить свою будущую жену! – да фортепьянная игра, да сверкающие шопеновские мазурки! Всё вмиг сплеснулось воедино! – и кажется, ещё до знакомства, ещё до конца последней мазурки он уже решил: женюсь! нашёл! нечего тут и примерять, сравнивать, оглядываться, – вот она, единственная женщина на земле, особо для меня созданная!
Да ещё это было – тотчас после Японской войны, в послевоенном восторге бытия: я – уцелел! Теперь я долго буду жить! Теперь – я счастлив быть хочу!
Да ещё и тридцать ему исполнилось.
И как ещё совпало счастливо: никогда до того он в Тамбове не бывал, и после не бывал, всего-то приехал на три дня в мелкую служебную инспекцию. И Алина тоже была – борисоглебская, тоже они с матерью приехали из уезда лишь погостить – и вот так встретились.
Георгий для себя решил мгновенно (он всегда мгновенно знал, чего хотел и что верно), стремительно сделал предложение. Алина была ошеломлена, не сразу готова ответить. Тогда он прогалопировал бурное ухаживание. И когда вскоре всё же повёл это воздушное белое чудо под венец, то ещё опасался, как бы она в последнюю минуту не передумала.
И всё оказалось великолепно! Любовь даётся в жизни раз, и как же счастливо – растратить её безошибочно. Нежно любишь ты, нежно любят тебя, и мир замкнулся в наилучшем виде, приспособленном для твоего движения! (Мелкие размолвки не в счёт.) И всю силу воспитанного рыцарского преклонения перед женщиной, безграничного восхищения – ты знаешь теперь, кому отдаёшь.
Их первые брачные годы были – его академические страдные годы, забиравшие всю протяжённость времени, всю напряжённость ума при немыслимой плотности предметов в году: всех военных, нескольких математик, двух языков, двух прав, трёх историй, и даже славистики, и даже геологии, и потом трёх диссертаций. Да ещё это были и лучшие годы самой Академии, когда расчищали рухлядь (не всю и ненадолго…), когда легенду о врождённой русской непобедимости сменяли на терпеливую работу. (Но каждый день ты шагаешь в Академию по Суворовскому проспекту, мимо Суворовской церкви, и гулко звучит в голове это славнейшее имя – какой русский офицер не мечтал о суворовском жребии!)
И при такой захваченности Академией – как счастливо текли их с Алиной тихие вечера в маленьких недорогих комнатках на Костромской улице! (И Костромская родная слышится!) Георгий – за письменным столом, Алина – за стеной у пианино или на кушетке, – покой и устояние, исключающие из мира тревог – тревоги сердечные. При академической восьмидесятирублёвой стипендии чаще и денег не было на театр или концерт, а времени-то – почти никогда, так дома и дома сидели, тем слаще, – и Алина не жаловалась. Пресчастливые годы! Чем бурней общественная и военная жизнь, тем приятнее, чтобы семья и быт текли ровно, традиционно, и не было бы надобности менять привычки. Укладывается Алина на кушетку, чтоб он сидел рядом и рассказывал о разных офицерах, служебных случаях и о чём он думает. Непробудное постоянное, повседневное ровное счастье, ни взрывов, ни сотрясений. Произошла неудача с ребёнком, никакого второго потом, но и это не навело облаков: жизнь будет в движеньи, в боях. Алина не слишком тосковала от потери – и в этом Георгию тоже повезло. Согласились они, что им – и не нужно, их любовь и без того предуказана с небес и вечна.
Когда же головинскую группу разогнали – довелось Воротынцеву ехать в глухой гарнизон за Вяткой. Для него-то – почти своя Костромская. Однако и Алина снесла потерю петербургской жизни, не уклонилась отсидеться в Борисоглебске с мамой – но поехала с ним в тот грубый, неустроенный быт и глушь, пыталась стойко переносить эти полтора года ссылки и не гнушалась кухонной и домашней работы. У него-то всё равно был Шлиффен каждый день на столе – а у неё? что она видела в этом жизненном провале? Так двойным вниманьем, восхищением, двойной нежностью Георгий старался облегчить ей это тёмное время, все-гда сознавая размеры её подвига и её любви. Но всё не состаивались облегчительные для Алины гарнизонные знакомства, и под конец она уже захандрила, однако тут ему удалось вынырнуть – и перевестись в штаб Московского округа. И как же Алина обрадовалась!
Это случилось – меньше полугода назад. А вот эти последние комфортные полгода в Москве, когда Алина, напевая, вила новое гнёздышко, – странно, Георгий стал понемногу замечать, будто чего-то в их жизни недостаёт, обронено. Что-то не совпадают у них больше ни начала фраз, ни продолжения начатых. Да вот что! Переехав в Москву – Алина быстро, сильно изменилась, стала требовательна, новый тон, новые желания: после вятской заглуши, после стольких лет терпения и жертв – она хочет наконец яркой жизни, когда же.
А – когда же. Георгий – не готов. Он нисколько не разгрузился, всё стало ещё плотней, все труды, все усилия – всё впереди.
Да, конечно, он перед ней виноват, виноват…
Но и не в этом только, а – что-то ещё. Случилось что-то с самим Георгием. Как будто кожа окорявела, очерствела, перестаёт ощущать каждый пробежавший волосок. Заметил, что становятся безразличны мягкие, невесомые, пахучие предметы её одежды – лежат себе и лежат, висят себе и висят. И в поцелуе губы перестают быть самыми нужными и нежными, а удобнее – в щёчку. Вообще, весь обряд любви – утомляет, с годами – пресен. И – тянуть его вечно?
Так ты прежде сорока – уже и стар?
Впрочем, и всё растущее, и на каждом дереве так: корявеет, лубенеет. Неизбежно лубенеет и всякая любовь, устаёт и всякое супружество. Очевидно, так и нужно: с годами острота, и потребность любви, и все восторги должны поостывать. На сорок лет остаётся нам и других ощущений довольно: и росное утро воспринимается не черствей, чем в юности, и как в двадцать прыгаешь на коня, и с волнением ставишь пометки на полях у Шлиффена.
И вот – война. И счастье же, что Георгий оставил её в Москве, где будут у неё и общество, и концерты. Насколько легче, что нет угрызений, и свободна душа для главного дела.
Лишь не забыть вниманием, часто писать, как просила, хоть полстранички. Успел и в Остроленке опустить несколько слов: люблю, люблю, ни с кем не сравнимая! И правда.
И – свободен, и – на коне. И сразу – как проще, подвижней, беззаботней. И дальше бы так.
Вообще предъявляет всякая женщина слишком много прав на своего мужчину да не упускает всякий день расширять их, если удаётся. Когда-то для тебя это наслаждение, когда-то сносно, а вот уже и тяжело.
Вообще, прав был генерал Левачёв: все эти проблемы любви, её волнения и переживания, все ничтожные личные драмы вокруг неё – слишком преувеличиваются женщинами, слишком смакуются поэтами. Чувством, достойным мужской груди, может быть только патриотическое, или гражданское, или общечеловеческое.
А может быть – просто засиделся. Семейная жизнь – не для воина. Просвежиться надо.
Он ехал и ехал ночной дорогой. Крепкими перебористыми ногами своего жеребца отмерял, перещупывал эти безконечные вёрсты между штабом армии и корпусами, эти страшные шесть дневных переходов.
Нет, так не воюют! Воевали, но больше так не дадут…
И – противника нет, провалился!
Да! – кольнуло – и эти незашифрованные искровки! Как можно было посылать?! Уж лучше б и средства такого не было вовсе, чем в руки нашим нерадивым.
Далеко обогнавши всадников с их аллюрами – в неразборную тьму чужой стороны беззащитными невидимыми искорками утекала на обокрад сила Второй русской армии.
14
Этим летом Ярослав Харитонов и должен был кончать Александровское училище, но по порядку: сперва в летние лагеря, потом торжественный выпуск, потом до полка ещё месяц отпуска – домой, в Ростов. В Ростове – ворох радостей, запрыгает Юрик, мамины заботы, родные комнаты, гимназические друзья, но важней всего: с Юриком, уже ему двенадцатый, и с одним другом – садятся в парусную лодку, уже припасённую, снаряженную, и едут вверх по Дону смотреть, как казаки живут, давно собирались, ведь стыдно: родиться и вырасти в Земле Войска Донского и ничего о казаках не знать, кроме того, что они нагайками разгоняют демонстрации, – а это смелое, подвижное, сильное племя, из самых здоровых русских порослей.
Но не сложился расчисленный вход в армейскую службу, а сразу вихрем, свежим и страшноватым, налетело то, что в армии главное, для чего и есть армия, – война! Уже 19-го июля их выпуск надевал заветные погоны со звёздочками, и не то что съездить попрощаться с родными, а даже самим успеть получить из фотографии первый офицерский снимок не пришлось: всех рассылали тут же с готовыми назначениями, Ярослава – в 13-й армейский корпус, в Нарвский полк.
Свой полк он застал в Смоленске, частью на погрузке в эшелоны, а частью ещё даже не собранный. (В Смоленске – овации офицерам на улицах, все кричат о победе, ощущаешь себя как в тёплом урагане.) Хотя четыре полка их дивизии носили самые первые номера во всём российском войске, но состава постоянного у них не оказалось: именно теперь-то и нагнали нижних чинов, по три запасных на одного коренного солдата, сам же Ярослав успел и принимать их – в серо-чёрном мужицком, с последним домашним припасом в белых узелках, как на Пасху увязывают святить куличи. Он же застал и в баню их водить, переодевать в серо-зелёные шаровары и рубахи, выдавать винтовки, амуницию и грузить в товарные вагоны. Кто остался и в крестьянских шапках. Да не только солдат действительной службы – не хватало почему-то и унтеров, и офицеров не хватало, хотя уж, кажется, к войне ли может быть не готова Россия, всегда воевавшая и воюющая! На роту приходилось по три-четыре офицера, Харитонову как свежеиспеченцу дали только свой взвод, но офицеры поопытней получали два взвода сразу и на одном держали подпрапорщика.
А всё это хорошо выпало! – и трёхдневная суматоха в Смоленске с переодеванием деревенщины (а Ярослав ходил пружинно, с прямой спиной и вдавливая след), и того более – сама езда, когда Ярослав не пошёл в офицерский вагон, а остался со своими, собственными своими, ему доверенными сорока народными лицами в теплушке, – и загудел паровоз через тридцать вагонов, и залязгали, залязгали, перекликаясь, передаваясь, буфера, и натужно заскрипели сцепы, и потянул весь поезд! О любви к народу много говорили, только и говорили в семье Харитоновых, для кого же и жить, как не для народа, – да только видеть народ было негде и нельзя, даже на базар соседний нельзя было отлучиться без спросу, и потом руки надо мыть и рубашку менять, к народу никак было не подойти, ни с какой стороны не заговорить, не известно, что говорить, стесняешься, – а вот теперь естественно сошлось, что этим мужикам бородатым был 19-летний Ярослав чуть ли не за отца, и сами они искали его – просить, спросить, доложить. А ему оставалось, сверх наилучших действий по службе, только вбирать и вбирать глазами, ушами и памятью – кто как зовётся, кто родом откуда и что у кого дома. Вот охотный рассказчик Вьюшков, его только слушай, проезжает поезд их места – вон уездный город на высокой горе, а тут овраги повсюду, урочище Крутой Верх, и какие тут соловьи и какие выгоны, – ведь нигде ж Ярослав ещё не был, ведь всё это повидать бы самому! До чего ж радостно и желанно – объединиться с ними, отъединиться с ними в одной теплушке, и слушать, как балалайка их тренькает (сколько свободы и поэзии, какой чудный инструмент!), днём стоять с ними, опершись о длинный засов, перегородивший раздвинутую дверь (а внизу ещё сидят, ноги наружу свесив), ночью в темноте не спать под их пение, пересуды да смотреть на огоньки цыгарок. Хотя не радости ждать на войне – а радостно было ехать! И не одному Ярославу: явно весело было и солдатам, всё время шутили, и даже пританцовывали, и боролись друг с другом, – а на узловых станциях ещё встречали их толпы с оркестрами, флагами, речами и подарками. В этом настроении успел Ярослав написать и первые письма – маме, Юрику и Оксане-печенежке, милой сестрёнке, – настоящей сестре, потому что Женя, ставши замужем и с ребёнком, превратилась в младшую маму, только почужей. Написал он, что вот к этому всю жизнь и стремился, этого и хотел: быть вольно-мужественным и вместе с простым народом.
Но дальше не так было весело, уж очень много суматохи и неразберихи. С железной дороги их внезапно ссадили, хотя поезда шли и дальше, – и, как издеваясь, погнали пешком почти рядом с колеёй – до Остроленки, так шли они несколько дней, и трудно это было уже отвыкшим запасным, в обуви необхоженной, в одежде неприношенной да со всей амуницией. Отчего так? – нельзя было охватить, понять, некого спросить. Наверно, злой номер их корпуса так сработал. Проезжал в автомобиле генерал, сказал: «Это немцам подай железную дорогу, а русские орлы и пешком отхватят! Верно, братцы?» И кричали ему: «Ве́р-на́!» (Ярослав тоже кричал.)
Второй офицер их батальона, штабс-капитан Грохолец, с острыми дуговыми наверх усами, маленький, а чёткий, весь военная косточка (Ярослав старался ему подражать), – сам, от смеху давясь, кричал на колонну: «Эй, шествие богомольцев! В Иерусалим собрались?» И до чего ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав, только военный глаз может так подметить! Запасные тяготились винтовкой как лишней тяжёлой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами тяготились и, невдогляд офицерам, стягивали их, перекидывали верёвочкой через плечо, а топали босиком. Батальон растягивался на версту, а уж полк не спрашивай, офицеры теряли своих ещё не пригляженных солдат, а из чужих батальонов тянули к себе и пробирали. Между разбродом людей втёсывался обоз, назначенный по той же дороге, и интендантские гурты коров, гонимых на свежую пищу их дивизии.
А 8 августа, на третий день как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был заранее приказ по дивизии, и разъясняли офицеры солдатам: что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Однако не верили простаки-мужики – и когда стало среди знойного дня темнеть, наступили зловещие красноватые сумерки, с криками заметались птицы, лошади бились и рвались, – солдаты крестились сплошь и гудели: «Не к добру!.. Ой, неспроста…»
Да если бы поучить, напомнить, боевые стрельбы устроить – ещё в отличных солдат можно было вправить этих запасных. Ярослав же видел по своим, хотя бы по Крамчаткину Ивану Феофановичу, – пятнадцать лет из деревни не вылезал, уже с сединой и, как о нём говорили, старовидный, – но изумлял он Ярослава своей строевой подготовкой, будто с плаца только что, будто ничего другого в жизни не видел, как подходить-отходить, как в чести тянуться с самозабвением: «Рядовой Крамчаткин по вашему приказанию, ваше благородие, явился!» – и в небо торчали усы, и глаза блюдцами, – а вот стрелять совсем не умел (скрывал, случайно узналось).
Великая война, первая война подпоручика Харитонова, начиналась так на каждом шагу, что в училище можно было бы за эти промахи лепить и лепить гауптвахту: всё, как в насмешку, шло в нарушение всех уставов. Как будто в училище, в их подтянутом молодом строе, с едиными быстрыми ружейными приёмами, чёткими рапортами, отрывистыми командами и лихой песней, им нарочно показывали, как никогда в армии не бывает, не будет и не может быть. Отпало всё, чему учили будущих офицеров: никакой разведки, ничего о соседних частях, и приказы удручающе отменяли, целые бригадные колонны останавливали галопирующими всадниками и заворачивали.
Днёвок не было вторую неделю, с утра батальоны подымались чуть свет и к походу бывали готовы в сносное время, однако садились и ждали на изморчивом утреннем солнцегреве, пока привезут из дивизии, из бригады приказ на дневное перемещение, начальство же иногда и до полудня не управлялось (а привозил ординарец приказ: начать марш не позже восьми утра), – зато уж днём батальоны гнали без передыха, навёрстывали. Потом садились вдруг: разобраться с обозами, забившими дорогу, задержать кухни, а пропустить вперёд отставший авангард. Опять гнали. Шли до заката, до сумерек и в сумерки, а то и до середины ночи. Ночами разбирались, кормились, и всё не просто: то в темноте не находили своих квартирьеров, высланных заранее, и не знали, где располагаться; то спорили между собой высшие начальники, где какой части можно ночевать, а части пока топтались да разводили костры, чай кипятили на сучьях, нимало не заботясь, что выдают противнику своё расположение. Тут же и кухни в темноте суетились при керосиновых факелах, при разбросе искр. А то – отбивались кухни, и так бывало, что в полночь ложились спать голодные (офицеры, как и солдаты, зябли на земле в одних шинельках), а к рассвету будили обедать за вчера. И ночи выходили короткие, не хватало сна.
Солдаты спрашивали: «Когда ж бы печёного хлебца, ваше благородие? Сухари вторую неделю, ажно брюхо скребут!» – и не было разумных слов объяснить: почему в Белостоке, где кругом полно было печёного хлеба, их дивизии уже никак нельзя было хлеба получить – не то интендантство; как же так, при начале войны, ещё прежде германской границы, ещё ни один снаряд не упал, ни одна пуля не просвистела, – а они восьмой, десятый день получали сухари с лежалым мышиным запахом, давних годов сушки, и соль – перебойно, не в каждом супе, не подвезли.
До Остроленки ещё была одна для всех дорога и перемещения ясные. Но после Остроленки, где не дали им отдохнуть ни дня, они разошлись дивизионными колоннами, после немецкой границы – и бригадными, и тут-то особенно не стало начальство успевать с приказами, а то и путало с ними, какому полку давая вильнуть лишних десять вёрст, – и всё это пропадало, никому наверх не известное, кроме немецких лётчиков, так и летавших ещё с Польши над русскими колоннами (а наши – не летали; говорили, что держат их до важной минуты). После немецкой границы кому доставались твёрдые щебенные дороги – шоссе; но и там от массы сапог и копыт поднимались густые клубы пыли, хрустело на зубах; да те шоссе кончались или не туда поворачивали, или не было их вовсе, а приходилось идти, и повозки тянуть, и орудия – по пыли сплошной, по вязкому песку, всё это в жару, не опадающую ни на день, одним ночным ливнем только и прерванную, и колодцы не везде, по много часов и без воды маршируя. А то, наоборот, плутали и вязли по болотистым поймам путаных речушек, будто нарочно самыми непрохожими маршрутами. И не оставалось у лошадей, у солдат, у офицеров другого желания, понимания и тяги, как – о т д о х н у т ь! Знамёна давно были скручены и тянулись как лишние дышла, барабаны убраны на телеги, к песням не было команд, роты теряли отсталыми, и только одна мечта их вела, что, может быть, завтра скажут: отдых!
Сгорели с ног.
Но видно, слишком важный был замысел, чтоб дать им день отдохнуть, – нет! всё с той же поспешностью их слали и гнали – вперёд! Уже по Германии, без единого живого немца.
Штабс-капитан Грохолец, узкоплечий, с фигурой мальчика, а лысоватый, – шутил между офицеров на перекуре:
– Да никакой войны, это – манёвры. Ординарец из штаба армии нас четвёртый день ищет остановить – не найдёт. А мы по ошибке занеслись вот на чужую территорию, теперь Василь Фёдорычу ноту извинения послали.
Василием Фёдорычем все как-то дружно принялись называть Вильгельма, браня. От этого легчало.
От «Хоржеле́й», как все говорили в полку, – после Хоржеле, перейдя границу, с первых саженей неприятельской страны ожидали боя, орудийной или ружейной встречи. Но ни в тот день, ни в следующий, ни в черезследующий они не услышали ни выстрела, не увидели ни солдата немецкого, ни гражданского жителя, ни живности никакой. Где протянуты были проволочные заграждения по полю и покинуты, где окопы начаты на окраине деревни и недокопаны, теперь их закидывали для пропуска пулемётной команды на двуколках и прочих конных, а то в самой деревне через улицу сложена баррикада из возов, из мебели, и всё брошено. («Плохи же у немцев дела!» – первый раз повеселел постоянно унылый, ноющий подпоручик Козеко.) В следующей деревне нашли и прикатили велосипед – и вся рота стянулась его смотреть, многие солдаты отроду и не видели такой диковины. Один унтер показывал, как на нём ездят, а толпа шумела, подбодряла.
Распалённым, безсонным, одурённым головам русских воинов странней всего и была: Германия, да ещё пустая!
Германия оказалась настолько необычная, непохожая страна, как Ярослав не мог себе представить по иллюстрированным изданиям. Не только странные крутые крыши в половину высоты дома, сразу очужавшие весь вид, – но деревни из кирпичных двухэтажных домов! но каменные хлевы! но бетонированные колодцы! но электрическое освещение (оно и в Ростове-то лишь на нескольких улицах)! но электричество, проведенное в хозяйство! но телефоны в крестьянских домах! но в знойный день – чистота от навозного запаха и мух! Нигде ничего недоделанного, просыпанного, кой-как брошенного – не ко встрече же русских наводили прусские крестьяне парадный порядок! Толковали бородачи в их роте и дивились: как же немцы хозяйство так уряжают, что следов работы никаких не видать, только всё уже готовое стоит? как они в такой чистоте поворачиваться могут, тут же кафтана бросить негде? И как при таком богатстве мог покуситься Вильгельм на русскую нашу дрань?.. Польшу прошли – страна привычная, распущенная, но с немецкой границы словно струной по земле ударило: и посевы, и дороги, и постройки – всё другое, как не с земли.
Почтительный страх вызывало одно только это устройство нерусское. А то, что оно было опустошено, грозно брошено мёртвой добычей, вызывало жуть: будто наши войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой притаившийся дом, и не могла их за то не ждать расплата.
Но где и было бы чем разживиться – проходящим солдатам не выпадало времени шарить по домам. И котомок не хватило бы – уносить добычу. И, на смерть идучи, не наносишься.
Первые жители, которые не ушли, были не немцы, а немецкие поляки, кое-как изъяснявшиеся ломано. Но не доверие вызывали они, а подозрение, и приказано было взводу Козеки произвести на хуторе тщательный обыск. (Отправляясь на эту операцию, сказал Козеко Харитонову: «Кто-то хочет моей смерти. Там в подвале, может быть, взвод пруссаков засел».) Сопротивления не встретили, обыскивали тщательно и нашли: в доме трубу вроде валторны, в сенном сарае – опять велосипед, в бане – два русских ружейных патрона и сапоги со шпорами. Плохо оборачивалось дело поляков: склонялось к тому, что их могут расстрелять. Их отправляли в штаб полка под конвоем, одному было лет пятьдесят, двоим паренькам – по шестнадцать-семнадцать. Проводимые мимо батальона, они молили каждого офицера и унтера: «Подаруйте нам жице!.. Подаруйте нам жице!» Но унтер от Козеки, который их вёл, только покрикивал весело: «Шагай-шагай, Москва слезам не верит!» Солдаты стягивались смотреть: «А что? Вот такие и стреляют из засады. На лисапедах вон там, лесными дорожками, такие и разъезжают, про нас сообщают».
Но проходя мимо первых немецких трупов у дороги – запасники снимали шапки и крестились: «Упокой, Господи!»
Совсем без стрельбы уже не проходило дня. То пролетал над головами немецкий летательный аппарат, – а они летали часто, два раза в день, и все роты принимались усердно в него палить, однако не попадая. (Да ещё, заметил Ярослав, иные запасные палили, закрывая глаза.) То видели сами, как из фольварка убегали в лес трое в мирной одежде, стреляли по ним, одного подстрелили. То прискакал казак, что в четырёх верстах отсюда он был из лесу обстрелян кавалерийским разъездом, – и тотчас отрядили полуроту прочёсывать лес. Кляли солдаты того казака, и судьбу свою, ходили прочёсывали, никого не нашли.
Но Козеко одобрял: «Сейчас для нас главная опасность – это пуля сбоку». Двум подпоручикам не миновать было бесед: ещё от Белостока их свело назначение на соседних взводах в одной роте. С остальными офицерами был Козеко молчалив, батальонного боялся, ротного не любил, а Грохольца избегал как мог, тот высмеивать был горазд. Всю деятельность своего наблюдения и жажду высказывания вкладывал Козеко в дневник (по отсутствию бумаги – в офицерской полевой книжке), всякую свободную минуту вписывал туда по несколько свежих строк и обязательно время по часам. «Это просто подвиг! – ахал Грохолец. – Истории полка никто не пишет, вот кончится война – мы приказом заберём ваш дневник в штаб и переплетём в золото». «Никто не имеет права! – тревожился Козеко. – Это – дело моей совести. И моя собственность». «Нет, подпоручик, это казённая собственность! – вращал глазами Грохолец. – Бланки полевой книжки принадлежат штабу!»
Козеко был старше Ярослава по возрасту, он уже два года отслужил офицером до начала войны, – но не мог Ярослав принять его влияния.
– По-моему, на войне ни одного дня так жить нельзя. Мы должны стремиться к победе, а не проклинать войну! И как вообще может великий народ избежать больших войн?
– М-м-м, – тянул Козеко, как от зубной боли, и оглядывался, никто ли их не слышит, – как избежать! Да каждый ловчит! Милошевич вон в какую-то командировку устроился, а Никодимов – по закупке скота. Умный человек в батальоне не задержится, не безпокойтесь.
– Тогда я не понимаю, – волновался Ярослав, – зачем с такими взглядами становиться кадровым офицером?
Со сморщенно-несчастным сожалением Козеко вздыхал над дневником:
– Это – тайна… Вот когда будет у вас ненаглядное солнышко да любимое гнёздышко… Пусть это непатриотично, но я без жены жить не могу. И потому желаю мира. Я вам скажу: лучше быть не офицером, а конюхом, но подальше от этой войны.
Только добавлял тоски этот Козеко – то умыться ему негде, то немытыми руками кушать нельзя, то на ночь раздеться бы. И без того день ото дня мрачней и безнадёжней становилось в батальоне от безпрепятственного наступления. Всегда представлял Ярослав наступающее войско весёлым: мы вперёд идём, мы пленных берём, мы землю занимаем, значит мы сильней! Для наступления и создают армии, для наступления и воспитывают офицеров. Но удручало это двухнедельное наступление без единого боя, без единого немца, без единого раненого, а по ночам сопровождаемое то справа, то слева тускло-багровыми пятнами неопознанных пожаров. Куда подевались лёгкость и радость, которые не он же один, но, кажется, все они, кажется, и все солдаты испытывали в пути на фронт в побалтывании теплушки, обвеваемые встречным летним ветерком? Ещё Крамчаткин сохранял самоотверженный служацкий вид, не сутулился и так же глазами ел своего подпоручика, а Вьюшков и лицо воротил, и уже рассказов охотливых из него было не вытянуть. Не только уже песен никто не пел в батальоне, но даже громко крикнуть избегали бородачи, а лишь сказывали друг другу самое надобное, как бы Бога не гневя пустословием лишний раз.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































