Текст книги "Жизнь Алексея: Диалоги"
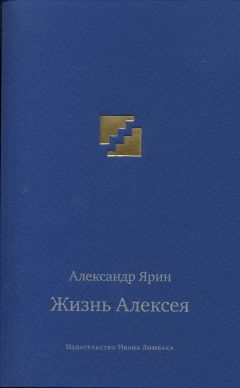
Автор книги: Александр Ярин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Философия
Алексей.
– Было мокро от незаметного дождя. Не знаю почему, она успела отойти от того места всего шагов на десять, не больше. Я в который раз шел за ней следом по уже темному переулку и не пытался ее догнать. Она чуть волочила правую ногу, а раньше я не замечал этого порока в ее походке, но, может быть, его и не было раньше. Я, не спуская глаз, следил за всеми ее движениями и незаметно для себя (а для нее тем более) начал передразнивать их точь-в-точь, – так что даже складки на нашей одежде плясали в такт. Каждые десять шагов переносили меня на ее место – в ту позу, которую она только что оставила. И чем я был точнее, тем глубже в меня проникало сходство. Это и придавало смысл игре, скрадывая расстояние между нами, уничтожая разницу.
Нельзя сказать, сколько времени прошло: ведь для тех, кто повторяет, время не движется. Вдруг откуда-то справа послышался низкий ветряной гул и треск. Сначала я увидел только отражение ее лодыжек в засветившихся лужах на дороге, потом, уже пройдя несколько шагов, горящий дом…
Заина медленно подошла к сырым кустам, за которыми горело, и остановилась у края какой-то каменной лавки или ступени. Еще немного, и я уже стоял позади, за ее плечом. Мы молча смотрели на пожар. Горел не дом, а деревянный сарай, принадлежавший вольноотпущеннику, имя которого – Климент или Клеобул – я знал, но теперь оно стерлось из моей памяти. Наши пожары внушают ужас, но этот был скрыт за уступом стены и не вызвал ничьей тревоги. Сарай горел решительно, как макет зодчего, с шумом втягивая в себя ночной воздух из окрестных переулков. Прогоревшие куски крыши время от времени валились вниз и взрывали раскаленную труху. Одна сухая чешуйка долетела до Заининого плеча, остальным помешала прохладная водяная морось, висевшая в воздухе (от нее горело лицо).
После слышанного там, внизу, мне всегда хотелось смотреть на вещи упрощенно. Переселиться в тот язык, где смотреть и видеть – одно и то же и глаголам не нужны предметы, потому что сыпать можно только песок, лить – только воду и видеть – только огонь.
И я долго, несколько минут, стоял и смотрел, как из разных мест черной обугленной свалки волнами выходит огонь и собирается наверху в одну прозрачную волну, как в огне нарастают и лопаются перепонки, надуваются пузыри, проседают ниши. Но прозрачные, излюбленные гностиками тельца, эти бесчисленные палочки, кольца, треугольники и крючки, из которых состоит пламя, не все долетали до нас; многие тысячи застревали по пути в пористом шаре нашего зрения. Поэтому картина, доступная нашему взгляду, была пустынна и сквозила черными дырами. Необычное, но знакомое ощущение: леопардовая шкура мертвых для зрения пятен поверх горящего пейзажа. Никогда не узнаешь, что скрыто внутри их неисследимо рыскающих контуров. Нам, простым смертным, и зрячим, чье зрение состоит в постоянном вываливании вперед из собственных глаз, такое видéние бывает редко, но для художников оно, несомненно, насущный хлеб.
Я вспоминаю заморское блюдо, разбитое мною на званом обеде у моего дяди. Ледяное поле, на котором можно было воевать… Тонкое стекло тогда входило в моду. Переплетенные ветви черных деревьев, слегка измазанные оливковым маслом, прячут фасад какого-то диковинного храма, довольно приземистый и длинный, но тем громадней угадываемый за ним сумрачно-спокойный объем. Приглядевшись, я заметил, что крошечные верхние окна выполнены одним прикосновением кисти и имеют вид круглых точек – не квадратов, а именно черных круглых капель, как бы вдавленных в прозрачный фон. Точно такие же капли, заменяющие то мелкий лист, то лепной завиток, то далекую птицу, были рассеяны по всему рисунку. Тут я подумал, что этот мир, так мастерски схожий с самим собою, не достигает собственной глубины. Черные пузыри, которыми он кипит, распирают его изнутри и спорят с ним: кому на чьем фоне быть? Непроглядные, глухие пятна, отрешенные от мира и равнодушные ко всему на свете, как юноши накануне войны или как деньги. Но стоит глазу наткнуться на них, как он тотчас же слепнет шакальей слепотой затылка, не различающей даже темноты. И рука, попадая в них, исчезает, как отрубленная. И еще я думал (с куском, обреченно застрявшим в горле): неужели всю жизнь придется хватать мясо только с кончиков лучей – копий света, а в темных фонтанах мира бесполезно и шарить: все равно пронесешь руку – сквозь? А тут еще это странное, непреодолимое желание – разбить…
И мы с Заиной, хуже слепых, чего-то ждали, повернув к теплу блестящие лица. Наши глаза, как из губки, жадно впитывали скудную влагу видимого и хронически не насыщались. Таков уж, видно, удел наших глаз: открытое им сильно проигрывает в глянцевитости в сравнении с лицом, на котором они посажены. Я неспроста вспомнил о слепых. После одного случая они чудились мне повсюду. В доме моего отца бывает много нищих, и мы всегда едим вместе с ними. Однажды за столом напротив себя я заметил слепца и с ним женщину-поводыря. Юний – он всегда оказывается рядом – даже миску к себе придвинул, настолько грязнее всех остальных были эти двое. Женщина… Быть может, в царстве слепых, раздутых голодом чудищ, откуда, верно, свалились эти люди, она была зрячая по закону, но в нашем мире ей самой впору было подыскать поводыря. Черные пустые мешки под глазами, заведенные зрачки… Но ее тиран был, конечно, еще слепее. Мне почему-то хотелось смотреть на его левый выпученный глаз, дико сверкавший на лоснящемся лице, второй-то был закрыт. Этот слепой успевал разом делать три дела: запихивал в рот край лепешки, перебранивался с соседями и костерил на чем свет стоит свою подругу. «Вот погоди, – кричал он визгливым голосом, – я еще ославлю тебя на весь свет, раз уж не могу задать тебе хорошую трепку!» «Чудак, – усмехнувшись, шепнул мне Юний, – чего же он ждет, начинал бы сразу». В это время я как раз жевал кусок мягкого овечьего сыра, теплого и влажного, и вдруг подумал: «Кто сказал тебе, что это сыр; может быть, это его глаз?» Тогда я не смог ответить себе на этот вопрос, не могу и теперь, когда прошло время.
…Я часто думаю о нищих и слепых, об их скитаниях и о том, каким они видят этот мир.
Церковные книги
Алексей, Евфимиан.
– Родись у меня брат, а у тебя сын, – любил бы ты его, как меня?
– Я и сейчас люблю его, как любил и тебя прежде твоего рождения.
– Если же он никогда не родится?
– Для меня между вами нет различия.
– Должен ли я после твоей смерти следовать твоим путем?
– Да, потому что это твой долг передо мной, ведь ты мой сын.
– За всю свою юность, проведенную в твоем доме, я изучил много наук, тебе же не уделял сыновнего внимания и не сумел узнать твою волю.
– Моя жизнь оказалась мала и ничтожна, я не успел во внутреннем, а внешнее дано мне даром. Я недостоин ступать по земле Господа моего. Но душа моя от того широко разверзлась.
– Скажи еще: если бы прежде срока умерла наша мать, это связало бы нас или, наоборот, оттолкнуло бы друг от друга?
– Не знаю. Знаю только, что смерть, как и жизнь, умеет рождать. С кончиною человека она всякий раз заново рождает весь мир, и если это случится, то в этом мире, сверкающем и прекрасном, каждый лист, каждая капля и камень станут тебе матерью. Мир сам станет матерью для нас. И мы не будем больше как отец и сын, но как братья… Не знаю.
– Я бы хотел в братья к тому, о ком сказано, что, взяв у отца свою сыновнюю долю, он ушел из дома.
– Отец противился в своей душе. Хотел не делить имение, но расстилать все шире.
– Сын бродил по имению отца, был малой, еле различимой точкой среди его полей, потом обратил поля в золото и положил за пояс.
Говорят одновременно, сплетая голоса и не отличая собственных слов от слов другого.
– Он жил давно.
– Пасти свиней на чужбине было ему позором.
– Голод сдавил ему живот, как железный пояс. Рожки и помои не могли насытить его.
– Тогда он вспомнил, что в доме отца после слуг на столах остается нетронутый хлеб.
– Голодный грешник сам себе как пустой дом.
– Он захотел служить своему отцу за плату.
– Это было давно.
– Он вернулся к отцу тенью, потому что голодный грешник ничего в себе не имеет.
– Куда ж ему было деваться?
– Грех лишал его силы терпеть пустое чрево, голод питал мысль о грехе.
– Потому сказано: «Пришед в себя…»
– Пришед в себя, ничего в себе не нашел и тогда вспомнил о хлебе, остающемся на столах.
– Он вновь ступил на двор отца, чтобы попросить о малом.
– А получил великое.
– Имение отца простиралось все еще далеко, потому что сказано: «отец его издалека увидел его»…
– Да, мой младший брат жил давно… Но, послушай, какая-то тяжесть, как предчувствие конца, начинает меня угнетать. По воздуху ли вошел в меня этот недуг, или он врожден и получен от тебя, не знаю. Особенно в разгар дня, когда за окнами не темнота, как сейчас, а бесцветный эфир, прозрачней самой пустоты, как лекарская микстура, ест глаза (ты знаешь, я боюсь сильного света), тогда это на меня находит. Мне чудится, что утра никогда не было, вечер никогда не настанет и что во всем великом городе у меня нет – и к лучшему – ни одного знакомого человека. Я подхожу к окну, упираюсь лбом в переплет и смотрю на пестрый город, расползшийся по холмам. Мне начинает казаться, что время остановилось. Я не верю, что на свете существуют ремесла и науки, лица, слова, смех и плач. Само воспоминание обо всем этом становится похожим на скабрезные шутки угодливых прихлебателей. Мне тогда как-то голо. Я смотрю на свои руки, ноги, живот, и мне кажется, что они не мои, а кого-то другого. Особенно почему-то руки. Тогда я часами сижу на стуле, шевелю конечностями и представляю, будто кто-то дергает их за ниточки. Мне не верится, что это мои ноги, сомнительно, что это мой живот, и – страшно, сейчас заору – не мои, не мои это руки! В такие минуты выкрадусь из тела, буду метаться, как обезумевшая мышь между подошвами молодых шалопаев, вставших крýгом. Или – веришь, отец? – как тот древний юноша, что по воле сделал себя левшой, могу сжечь ладонь на жаровне. Руки´ не жалко, ведь она чужая. Отец! Ты видишь, что и мое имущество не мое. Так неужели я родился в этом доме случайно и напрасно? И где я найду оправдание, чтобы жить дальше?
– Я не могу поддержать тебя ни своей мыслью, ни жизнью, ни своим телесным составом. Мы стоим рядом, вот твое тело, вот мое. Между нами только воздух, но я не в силах передать тебе что-либо сквозь эту незримую стену. Однако мы вместе ведем рассказ о твоем младшем брате, и слово-сын совсем не зависит от слова-отца, оно появляется невзначай, само собой и бредет куда ему вздумается. Рассказ плутает…
– …и горе вам, люди и вещи, стоящие на его пути, ибо он несет вам погибель?
– Твой младший брат обрел то, чего не искал. Богатая одежда на дне глубоких ларей дождалась своего часа, бычья смерть превратилась в веселый пир.
– И лучшее – перстень с отцовской руки, давший тяжесть персту, дабы указывать и запечатлевать.
– «Ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
– Не суждено ли мне оборвать тот рассказ, не закончив? Не его ли страшная тяжесть давит меня в эти минуты?
– Этот рассказ обрывается с каждым словом. Если ты не закончишь его своей жизнью, он не двинется с места. Твой брат сказал в нем последнее слово. Теперь очередь за тобой. Я жду. Лишь только ты скажешь свое – думаю, ветер ворвется в наш дом, распахнет все двери и неведомый горизонт сверкнет мне со всех сторон. Ветер вмиг сделает сад, город и дом задворками мира, манящего за порог!
– Я чувствую, будто невидимые цепи повисли на мне и ветер не может сорвать меня с места, потому что, сдвинувшись, я превращусь в малую точку, но пока держусь, я – везде.
– Из всех людей, что едят мой хлеб, больше всего меня влекут нищие, которые отбрасывают две тени. Для них из прожитого и будущего сияют два одинаково ярких солнца. Эти люди сами не знают, живы они или мертвы и в какую сторону им идти, так же и наш рассказ не должен ведать, движется он или стоит на месте.
– Я никуда не хочу из нашего сада. Где-то в его зарослях скрывается середина мира. Быть может, за голубятней у стены, вон в том дальнем глухом углу. Туда сквозь листву не проникают солнце и дождь. Я люблю сидеть там на деревянной скамье. Тогда мне кажется, что мой рассказ давно окончен.
– Как хорошо! Тогда ты совсем свободен и с легким сердцем можешь идти куда захочешь. Когда рассказ окончен, идется легко и весело. И если он вдруг оборвется – что ж, не твоя печаль. Ведь ты давно позаботился о конце, давно приберег его про запас в складках твоей одежды.
– Отец, нужны ли силы, чтобы идти?
– Нет, не нужны, но если они рвутся из тебя наружу, выпусти их, пусть вьются над дорогой, где ты идешь, и веселят тебе сердце.
– Не так ли, как те птицы – посмотри-ка наверх! – что кружатся сейчас над нашими головами?
– Видно, зовут тебя. Свои – своего.
– Там добрая половина твоих, отец.
Когда же этот святой Алексий возмужал, Евфимиан и жена его решили женить сына. Перебрав в памяти дочерей знатных семейств, они нашли одну девушку царской крови и рода, превосходящую всех красотой и богатством, и выбрали ее. И обвенчали их с честными иереями. И, введя новобрачных в свадебный покой, весь день до вечера провели в веселии. И вечером Евфимиан говорит сыну своему: «Войди, дитя, взгляни на невестку мою и супругу твою». И, вошед в брачный покой, юноша увидел ее сидящей в кресле. И он взял свой золотой перстень и поясную пряжку, завернутые в пурпурного цвета покров, и отдал ей, и сказал: «Прими это и береги, и Господь да будет между мной и тобой, пока на то воля Его», и сказал ей и другие сокровенные слова. И, выйдя из брачного покоя, удалился в свою спальню.
Алексей, жена Алексея.
– (Входит. Она сидит в кресле.) Я люблю тебя, хотя никогда прежде не видел.
– Я буду повиноваться тебе во всем, так как ты поймал и застал меня врасплох и поразил тем, что вошел, и я не в силах встать, чтобы приветствовать тебя.
– Твоей красоте не нужна похвала, потому что она сама хвалит мир и Всевышнего. Так ведь и свечой нельзя осветить солнце, ибо источаемый ею свет тонет в его лучах.
– Воистину, войдя, ты из девицы сотворил жену: девицей я впитывала свет, льющийся отовсюду, теперь сама источаю его.
– У меня нет меры, чтобы приложить к твоей красоте. Лоб твой низок, женственен и страшен, как у древней Кассандры, нежен и мягок, как у нее, но вместе бел, как оплавленный лед. Благородство лица узнают по щекам. У низкодушных они живут отдельной, слепой и каменной жизнью, чуждой заботам лица, и этим походят на волосы. Недаром и локоны льнут к щекам. Недаром и статуи наши саму субстанцию свою, округлость и непостыдство наготы заимствуют у щек. Щеки старцев умирают прежде лица и торжествуют победу над живым телом. Щеки глупой девы влекут в беспросветное царство жизни, не знающее ни бездн, ни границ. Твои же – как несокрушимый щит и как распахнутые ворота, как колесница царя и крылья голубя, как ограда для глаз и сами как зренье. Страшно коснуться до них и взглядом, потому что они подобны глазам.
– Ты господин, и тебе ни в чем не будет преграды. Войди же в ворота, ступи в колесницу, дотронься до неосязаемого.
– Я царский зять, ты – как дочь в доме синклитика. Весьма много положено к нашим ногам, и мы сами – у высокого подножья. Ты даришь по-царски, и я обещаю немало. Где возьмем закрома, куда бы ссыпáть дары?
– Поля наших отцов простираются далеко. Сады сбегают к Золотистой реке.
– Шум и музыка наших зрелищ достигают до неба. Красивая роспись покрывает потолки и стены. На все, что длится и простирается, я смотрю с изумлением. Мне непонятен дар тех, кто водит кистью или плектром, убедительно говорит в собрании или побеждает в беге. Слава их рождена движеньем. Как же человек может переходить от одного к другому: от места к месту, от звука к звуку, от этой мысли к новой? Что толкает его вперед? И зачем нам то, чего теперь нет? Зачем иное, когда есть – это? Ведь звук, который мы извлекли, не затихнет никогда. Мы, подержав, выпускаем время, проглатываем и выблевываем назад; повозившись, выбрасываем прочь, как обезьяна, не сладившая с орехом. Сам я не в силах сделать вперед ни шагу: это связывает меня по рукам и ногам. Никогда не надышусь воздухом этих мест, и не хватит веков прочесть первую букву в книге… И как оставлю здесь ту, что зовет меня своим мужем, а я ее – женой?
– Я люблю тебя за то, что никогда прежде не видела. Как бы я полюбила знаемое? И как бы вышла за камень, солнце или дворового верного пса? Мой возлюбленный совершенно не был прежде моей любви, он пришел ко мне из той жизни, что расстилается перед нами. Моя любовь летит вдогонку моей любви и любит в тебе мою любовь.
– Зачем же я? Чего твоя любовь ждет от меня?
– Я замираю, трепещу и жду, чтобы ты обратил ко мне священное ты нашей любви, чтобы ты – был, исполняясь крепости, и взял бы меня туда, туда, где ты – есть!
– Ты любишь и ждешь…
– Мы вечно ждем, любя. Любить и ждать у нас неотлучны. Когда возлюбленный далеко и мы в одиночестве лелеем его бесплотную память, любить и ждать бросаются в объятья друг друга. Но если он рядом, так близко, что позволено касаться его касаний и целовать поцелуи, то и тогда любить и ждать не расстаются, но делаются одно. И если мне осталось жить лишь одно мгновенье, ты возьмешь меня к себе и в нашем слепящем ты исчезнут моя постыдная слабость и твоя постылая сила. Оно будет нам навесом от дождя и укрытием от чужих взглядов, и будет площадью для народа, и мы повлечем его в гору и обратим ввысь, и так исполнится терпеливый труд нашей верной жизни.
– Но я не могу ни на шаг двинуться с места! Нам не связать между собой и двух мгновений. Река времени не течет. Мы незаконно наследуем нашим предкам, и завещания наши пишутся пустым пером. Прошлые века, теснясь, ждут своего спасения от каждого нового мига и всякий раз затевают ему пышную встречу. Мы бьем в тимпаны, дуем в рожки и шумно течем к городским воротам, но запыленный странник давно уже между нами: пройдя боковым переулком, неузнанно пристал к процессии и с недоумением следит взгляд толпы – в вечную пустоту пригородных полей, откуда никто не придет.
– Значит, горе тебе и мне! Если время – как рассыпанное зерно, и мир – как сеть рыболова, и каждый атом вселенной – как книжник, склоненный над вечной книгой, и если юноши перестанут играть в мяч, а старцы никогда не встретят себя юными, а и встретят, то, не узнав, пройдут мимо, и если из двух людей слепец тот, кто что-то видит, а видящий пустоту – зряч, тогда горе нам и позор! Потому что мы сгинем и сгнием на дне своего колодца, как мог бы сгинуть и тот, кого бросили в ров братья…
– Нет, но я хотел бы построить башню между ладонью гребца и весельной рукоятью и услышать пение внутри одного мига.
– Ты сделаешь то, к чему подвигнет тебя любовь. Потому что мудрость созерцает глубины, любовь же перемещает. Ею движутся воды и уста поэта, и она вращает шар неба.
– Так, но есть нечто, что совсем не простирается вширь, если звучит на устах, и не займет и мига, будучи записано на бумаге. Краткое слово все содержит в себе. (Снимает с себя перстень и пояс и, обернув материей, отдает ей. Она встает.) Возьми это и сохрани, и Господь да будет между мной и тобой, пока благодать его не устроит для нас что другое. (Шепчет ей на ухо сокровенное слово и уходит.)
Интермедия I
Рим. Входит император Гонорий с синклитом[1]1
В действительности резиденцией Гонория была Равенна, но он бывал и в Риме.
[Закрыть].
– …и дышат, будто загнанные псы,
Разинув пасть и вывалив язык,
Как головню из жаркой печи. Видом
Пугая лишь детей. Но лихоимец,
Развратник, вор, ослушник государя,
Нимало не смутясь, отгонит палкой
Такого гостя, разве иногда
Швырнет ему дымящийся желудок,
С издевкою примолвив: «Угощайся
Остатками того, что я украл
У твоего ж владыки». Тот и рад.
Иное дело в Риме. Здесь они,
Потупив нос, исполнясь бодрой злобы,
Ворча ужасно, кинуться готовы
На плечи всякому, кто злою волей
Иль невзначай преступит хоть на пядь
Границу должного… Теперь пора
Еще один указ спустить со своры.
Опять, посторонясь, дадим дорогу
Самой необходимости. Пиши:
«Своим высоким именем и властью,
Они же вкупе нам даны от Бога,
Отныне налагаем мы запрет
На варварский обычай наших предков
В амфитеатрах стравливать рабов.
Да истребится в памяти народа
Отныне даже имя гладиатор.
К тому нас побуждает дивный образ
Самой любовью движимой вселенной,
В которой твердо дольним миром правит
Смиренных граждан кроткий государь».
Великий кесарь, пастырей учитель[2]2
Император Константин.
[Закрыть],
Чьему таинственному сердцу было
Противно зрелище толпы бездарной,
Как та рабу, молящему о жизни,
В тупом восторге посылает смерть,
На учинителей кровавых игрищ
Излил свой гнев. Но псы его указов
Позаблудились в Аттике пустынной
И не смогли оплыть Пелопоннес.
Затем отец наш, славный Феодосий,
Рукой, усталой в битвах с языками,
Рассек державу надвое, чтоб снова
Суровым швом слатать, да крепче станет.
Наследники на троне Константина,
Терпя по воле отчей разлученье,
Мы с братом царствуем во всем согласно:
Как будто ветер носит между нами
Благие помыслы, и брат всегда,
Лишь собственному разуму послушный,
Навстречу нашим шлет свои решенья,
И диво! Те, встречаясь на границе,
Как в зеркале, друг друга узнают.
И всякий раз, торжественно отметив
Какой-либо из дней своим указом,
Мы верим, что двуострый меч сегодня
Неодолимою границей ляжет
Меж призрачным вчера и ясным завтра.
А чтобы не случилось по-иному,
В противность воле нашей, допиши:
«Нарушивший запрет на злое дело
Подвергнут будет самой худшей казни:
Его прибьют к кресту иль обезглавят,
Иль по приказу моего раба
Он сам в его глазах себя удавит
И будет брошен на съеденье львам».
– Отец и господин! Плохие вести.
И мало что плохие – так, осколки
Дурных вестей. Из них никак не сложишь
Двух связных слов. Руфин[3]3
Руководитель Аркадия.
[Закрыть] и Стилихон[4]4
Опекун Гонория, вандал.
[Закрыть]
Враждуют тайно. Впрочем, может быть,
Меж ними тайный сговор. Нам доносят,
Что твой вандал играет в жмурки с готом[5]5
Аларихом.
[Закрыть].
То выпустит его, то вновь захватит,
А то пируют вместе. Грабежи
Чинят повсюду. Злой евнýх Евтропий[6]6
Приближенный Аркадия.
[Закрыть]
Плодит себе подобных истуканов
Из золота – везде велит их ставить:
Тем, видно, тщится возместить потерю
Телесных уд. А между тем все больше
Стяжает власть. Кругом туман клубится;
Все под его покровом рвут ногтями
Империю на части, и никто
Не хочет знать о вашей дружбе с братом.
Да знает ли о ней и сам Аркадий?
– Ты прав насчет тумана. Мы отсюда с трудом различаем даже подножье нашего стула. Туман застилает нам зренье. Где наши указы? Канули в туман. Я никогда не узнáю об их судьбе. Где лица наших подданных? Растворены в тумане. Прошлое неразличимо, будущее – туман. И все же именно я правлю миром. Я – и никто другой. Я отдаю распоряжения, и вы уносите их в туман. Задыхаясь, вбегаете с вестями. (Оборачиваясь.) Запиши: отчего это все важные вести выкрикиваются с последним вздохом? Впредь всегда прислушиваться к тем, у кого пресекается дыханье. Не будь тумана, укрывающего эти покои от глаз толпы… Бесчинства творятся в дальних закоулках дворца, но и замыслы власти зреют под покровом тайны. Едва туман рассеется, орды сметут сей ковчег с лица земли.
– Domine, царствуй вечно. Мы, твои слуги, как рыбный улов, влекомый неводом времени, кто брюхом, кто хвостом, кто головой, кто хребтом подпираем ножки твоего стула, трона вечности. Нам сменяться, ему стоять. Вечность не устает созерцать рой мгновений, и потому узнай: царевич мавров Гильдон, по всему видно, льнет к Евтропию. И тем теснее льнет, что Карфаген недосягаем из восточной столицы.
– Должны ли мы считать изменой влечение африканского комита под эгиду нашего брата? Разве Евтропий уже не слуга Аркадию?
– Изменник, не совершивший измены, всё изменник. И не его заслуга, если, раскрыв объятья врагу своего господина, он с ужасом находит в них другую ипостась того же владыки. Теперь они чертят по карте – завтра на твоей земле проступят рубцы.
– Гильдон… Из наших верных слуг. Не он ли когда-то помог нашему отцу укротить бешеного Фирма, своего брата, когда тот поднял мавров на мятеж против Рима? Бросая взгляд на Африку, мы верили принцу, как доверяют прозрачному стеклу.
– Теперь его самого усмиряет другой брат, Масцезель. У старого Нубеля еще много есть сыновей, и, говорят, все на одно лицо, как оливки.
– К чему ты клонишь? Если их души так же сходствуют между собой…
– …значит, нам следует теперь же присмотреться к Масцезелю. Неужели станем ждать, пока он повторит путь брата? Государь, послушай совета: отдай его Стилихону. Тот сам найдет, как поступить с триумфатором[7]7
После победы над Гильдоном Масцезель по приказу Стилихона был сброшен с моста.
[Закрыть].
– Да, солнце в зените движется только на убыль. Кто, как я, достиг вершины славы и власти, тот в любой перемене видит измену. Повеет ли ветерок – надувает ему в уши об измене. Шелестят листья – составляют заговор. Ветви деревьев плетут интриги и козни. Младенцы тем, что рождаются, изменяют материнской утробе,
И старцы, стоя на краю могилы,
Предательством позорят бытие,
И каждый выдох губит дело вдоха.
Здесь, в вышине, нам хочется покоя.
Мы ценим тех из вас, чей взор недвижен,
Глаза пусты, нос тонок, губы сжаты,
Кто сам напоминает изваянье
Иль старую зачитанную книгу,
Что с полки сняв рассеянной рукою,
В тишине мне надо
Соединить разрозненные мысли.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Вот эти руки упускают. . .
Вот из-под этих ног земля уходит.
. . . . . . . .
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































