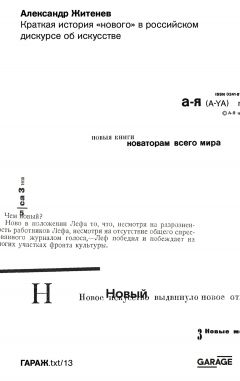
Автор книги: Александр Житенев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Выстроенность рассуждений о «новом» вокруг категорий, связанных с интенсивностью «гутирования» (Л. Бакст), делают любые другие измерения новизны второстепенными. Н. Врангель в статье о Вермеере пишет: «Нет ничего бессмысленнее, как выражение “старое и новое искусство”. ‹…› Есть искусство живое и мертвое, но это от времени не зависит»[75]75
Врангель Н. Вермеер Дельфтский // Аполлон. 1911. № 1. С. 5.
[Закрыть]. Тезис о преодолении времени художником появляется и в других публикациях, в частности, в статье Б. Эйхенбаума о Г. Державине: «Я вовсе не утверждаю, что поэзия вневременна, но внутреннее ее задание, по существу своему, сверхвременно, ибо только в обладании своим веком и, тем самым, в преодолении его – настоящий пафос поэта»[76]76
Эйхенбаум Б. Поэтика Державина // Аполлон. 1916. № 8. С. 25.
[Закрыть].
Таким образом, в «Аполлоне» «новое» принимается лишь до известной степени, и его абсолютизация представляется неуместной. Новизна «нового» – в том, что оно рассматривается в связи с эпохой рубежа, как один из ее «эсхатологических» знаков, предвещающих радикальные перемены в осмыслении мира и человека. «Новое» настоящего и «новое» будущего различаются как предвестие и осуществление, что сказывается на оценке новатора как предтечи, но не мессии. Доступное современной культуре «новое» связано не с изобретением, а с переозначиванием – это то, что вынесено за пределы культурного центра на периферию («экзотизм») или в прошлое («ретроспективизм»). В этом смысле «новое» не создается, а переоткрывается художниками-«кочевниками» и ценителями «курьезного». «Новое» в журнале имеет прежде всего феноменологическое измерение, новизна приема и стиля производна от «новых ощущений» и «нового видения». «Новое» служит утверждению авторской индивидуальности и рассматривается независимо от смены эстетических парадигм. В этом смысле «новое» не равно «последнему» в культуре и значимо только в контексте других оценочных критериев. Этот набор координат определяет ограниченную восприимчивость критиков журнала к новациям, делая их зависимыми от сравнительно небольшого набора эстетических априори. Хотя наибольшая степень новизны в контексте рубежной эпохи связывается не с культурой, а с «варварством», но обсуждение параметров этого «варварства» остается без комментариев.
Глава 2. «Новое» в журналах «Леф» и «Новый Леф»
Оформление дискурса о «новом» в теории русского авангарда пришлось на 1920-е годы. Журналами, особенно полно выразившими содержание эстетической рефлексии этого периода, стали «Леф» (1923–1925) и «Новый Леф» (1927–1928). История этих изданий вполне может быть описана как история редакционных столкновений и конфликтов с союзниками[77]77
Светликова И. «Новый Леф»: история и литературно-художественные концепции: дис. канд. искусствоведения. СПб., 2001. С. 78.
[Закрыть]. Однако непоследовательность теоретизирования правомерно прочитывать не как изъян, а как отражение универсальной для эпохи проективности сознания. При таком взгляде «русский модернизм оказывается не столько “модернизмом недоразвитости”, сколько специфическим вариантом радикального модернизма»[78]78
Ушакин С. «Не взлетевшие самолеты мечты»: о поколении формального метода // Формальный метод. Антология русского модернизма. Т. 1. Системы. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. С. 37.
[Закрыть].
Этот радикализм, как уже было сказано, служил задаче самолегитимации и сближения с властью: «Для мышления лефовцев характерны аналогии типа: футуристы-строители языка соединяются со строителями социализма, революционеры духа – с революционерами в политике. Благодаря подобным метафорам футурист превращается в “пролетария духа”, “психо-инженера”, в работника “фабрики оптимизма”. Левый фронт претендует на роль ‹…› самого последовательного и незаменимого союзника революции»[79]79
Гюнтер Х. ЛЕФ и советская культура // Соцреалистический канон. СПб.: Академический проект, 2000. С. 245.
[Закрыть].
Обращение к материалам избранных журналов позволяет сделать вывод о том, что самые важные параметры новизны связаны с представлениями о ее сущности, о месте «нового» в системе ценностей, его вариативности в границах актуальной художественной практики. Для авторов «Лефа» «новое» является центральной оценочной категорией, при этом новизна мыслится не как ситуативное качество, а как своего рода перманентное состояние, к которому нужно целенаправленно стремиться: «Футуризм не был бы самим собою, если бы он наконец успокоился на нескольких найденных шаблонах художественного производства и перестал быть революционным ферментом-бродилом, неустанно побуждающим к изобретательству, к поиску новых и новых форм»[80]80
Третьяков С. Откуда и куда? (Перспективы футуризма) // Леф. 1923. № 1. С. 193.
[Закрыть].
Рационалистический и проективный характер новизны задан поиском антропологического «совершенства», требующего постоянных усилий для завоевания: «Не создание новых картин, стихов и повестей, а производство нового человека с использованием искусства, как одного из орудий этого производства, было компасом футуризма от дней его младенчества»[81]81
Третьяков С. Откуда и куда? (Перспективы футуризма) // Леф. 1923. № 1. С. 195.
[Закрыть]. Утрата творческим субъектом способности к самообновлению перечеркивает все его достижения: «Футуристы! Ваши заслуги в искусстве велики; но не думайте прожить на проценты вчерашней революционности»[82]82
Кого предостерегает Леф? // Леф. 1923. № 1. С. 10.
[Закрыть].
Характерно, что точкой отсчета в развертывании дискурса «нового» оказывается не выявление неотчуждаемого «своего», а напротив – бегство от него. В числе важнейших категорий, характеризующих этот ход, – категория «эксцентрики». Она оказывается центральной в рассуждениях Ю. Тынянова о литературной эволюции: «Мы, как всякие современники, проводим знак равенства между “новым” и “хорошим”», но это «новое» «не планомерная эволюция, а скачок, не развитие, а смещение»[83]83
Тынянов Ю. О литературном факте // Леф. 1924. № 2. С. 107, 102.
[Закрыть]. «Суть новой формы» теоретик усматривает в «новом принципе использования конструкции, в новом использовании отношения конструктивного фактора и факторов подчиненных – материала», и принцип этот создается перемещением явлений из периферии в центр литературной системы и обратно, при котором «каждое произведение – это эксцентрик, где конструктивный фактор не растворяется в материале, не “соответствует” ему, а эксцентрически с ним связан, на нем выступает»[84]84
Тынянов Ю. О литературном факте // Леф. 1924. № 2. С. 107, 102.
[Закрыть].
Это по сути периферийное определение вырастает в своем значении в заметке В. Шкловского, который считает возможным назвать «эксцентрической» жизнь эпохи военного коммунизма, утратившую все приметы порядка и при этом подарившую переживание возможности всего: «Вещи изменили вкус, вид и назначение. ‹…› Это было время эксцентризма. Появились Фэксы с водевилем “Женитьба”, и публика играла в зале мячом, ожидая начала представления. ‹…› Чувство невесомости, возможность двигаться, отсутствие судьбы – и от этого творческая работоспособность. ‹…› Время поэтому было гениально. Этот гениальный порыв в будущее дарил свое изобретение всем! всем! как будто бы ускорилось само вращение земли»[85]85
Шкловский В. По поводу картины Эсфирь Шуб // Новый Леф. 1927. № 8–9. С. 53.
[Закрыть].
Эффект «невесомости» предполагает заключение в скобки любых конвенций, возможность возникновения литературных форм, не соотносимых ни с какими жанровыми моделями. Характерно, что «Окна РОСТА» интерпретируются В. Маяковским прежде всего как небывалая форма: «Окна РОСТА – фантастическая вещь. ‹…› Это телеграфные вести, моментально переделанные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные частушкой. ‹…› Это новая форма, введенная непосредственно жизнью»[86]86
Маяковский В. Только не воспоминания… // Новый Леф. 1927. № 8. С. 34.
[Закрыть].
Сама возможность появления такой формы делает вероятными любые трансформации литературности, заставляя художника улавливать сдвиги в формах бытования слова и создавать проективные модели творчества без всякой оглядки на прошлое. Так, полемизируя с «воронско-полонско-лежневскими критиками», В. Маяковский отказывается признавать, что «литература – то, что печатается книгой и читается в комнате», указывает, что революция «дала слышимое слово, слышимую поэзию», и видит ее неизбежное будущее в «радио», в «граммофонной пластинке», в практике «раб-читов»[87]87
Маяковский В. Расширение словесной базы // Новый Леф. 1927. № 10. С. 15–17.
[Закрыть].
«Ошеломляющая революция художественных приемов» радикальна потому, что притязает не на новизну отдельных изобретений, а, по выражению В. Перцова, на «новую постановку вопроса о формах и методах производства»[88]88
Перцов В. Современники: (Гастев, Хлебников) // Новый Леф. 1928. № 8-9. С. 76.
[Закрыть]. Это универсальный для журнала тезис, равно применимый к разным видам искусства. В статье А. Родченко «Пути современной фотографии» речь заходит о необходимости «революционизировать наше зрительное мышление», «приучить человека видеть с новых точек», научиться «видеть то, что смотрим»[89]89
Родченко А. Пути современной фотографии // Новый Леф. 1928. № 9. C. 38–39.
[Закрыть].
В других работах Родченко можно отметить еще две важные идеи, связанные с новизной. Так, отмечая стремительность изменений в науке и социуме, художник подчеркивает, что в этих условиях «новым» может быть не частное открытие, а только проблемное поле: «Современная наука и техника ищут не истин, а открывают области для работы в ней, изменяя каждый день достигнутое»[90]90
Родченко А. Против суммированного портрета за моментальный снимок // Новый Леф. 1928. № 4. С. 14.
[Закрыть]. Не менее важной является и мысль о том, что «новое» в искусстве – не завоевание индивида, но результат усилий коллектива; что возможна новизна без новатора: «Одно дело “искать пути” и совсем другое – “свои точки”. ‹…› Самыми интересными точками современности являются “сверху вниз” и “снизу вверх”, и над ними надо работать. Кто их выдумал, я не знаю ‹…›. Я хочу их утвердить, расширить и приучить к ним»[91]91
Родченко А. Крупная безграмотность или мелкая гадость? // Новый Леф. 1928. № 6. С. 43.
[Закрыть].
Сомнение в творческих возможностях замкнутого на себя индивидуалистического сознания – лейтмотив многих лефовских публикаций. В материале Н. Чужака о Максиме Горьком оторванность писателя от жизни объясняется представлением о ценности восходящего к «дворянским классикам» авторского субъективизма: «События, согласно этой эстетике, должны изрядно “отстояться” в “душе” и во “времени” художника, пока последний не пропустит их сквозь “призму” своего “сознания”. Сознание художника – это и есть высший закон»[92]92
Чужак Н. Опыт учебы на классике. // Новый Леф. 1928. № 7. С. 10.
[Закрыть]. У С. Третьякова установка на деиндивидуализацию новаторства выдержана еще более последовательно. В заметке «Чем живо кино» он отмечает: «Изменением киноформы ‹…› руководит не творческая воля художника, как бы изобретателен он ни был ‹…› а воля главного хозяина – общественного класса»[93]93
Третьяков С. Чем живо кино // Новый Леф. 1928. № 5. С. 24.
[Закрыть]. В статье «Продолжение следует» этот тезис соотносится с перспективой разделения творческого процесса между субъектами: «Коллективизация книжной работы кажется нам прогрессивным процессом. Мы мыслим себе работу литературных артелей, где функции расчленены на собирание материала, литературную обработку его и проверку работы вещи»[94]94
Третьяков С. Продолжение следует // Новый Леф. 1928. № 12. С. 1–2.
[Закрыть].
Присутствующие в статьях отзвуки признания ценности индивида в производстве нового связаны с лефовской интерпретацией непонятости. Разрыв между творческой практикой «Лефа» и возможностями аудитории – лейтмотив множества лефовских публикаций, и характерно, что этот факт оценивается как драматически окрашенный. Для С. Третьякова проблема – в косности сознания современников: «Обычно судьба лефовского изобретения переживает два этапа: сначала среда отвергает это изобретение ‹…› На втором этапе происходит включение ненавистного произведения в свой сектор искусства. Признание заумных стихов – стихами; кубистской композиции – картиной; конструктивной постановки – спектаклем. ‹…› Изобретение усвоено и растворено, но фигура изобретателя остается по-прежнему одиозной»[95]95
Третьяков С. Что нового // Новый Леф. 1928. № 9. С. 2–3.
[Закрыть].
Согласно В. Перцову, отчуждение от зрителя характерно для культурного производства как такового, что делает новизну бременем для всякого художника: «Изобретатель органически растет из производства, но его судьба заключается в том, что он становится в противоречие с этим производством. ‹…› Изобретатель-художник – это техник, который дает всегда не то, чего ждет от него рутина художественной культуры. В этом очень часто его личная трагедия, но в этом же всегда общественный смысл его работы»[96]96
Перцов В. Идеология и техника в искусстве // Новый Леф. 1927. № 5. С. 25–26.
[Закрыть].
Для любой концепции «нового» важны принципы, на которых выстраиваются стратегии легитимации новизны, восприятие своих и чужих достижений. В «Лефе» с оценкой новизны в исторической перспективе связано различие «нового» и «новенького». Об этом пишет О. Брик: «Слишком часто в истории человечества видели мы, как суетливая мода выдвигала новенькое, стремившееся как можно скорее превратить старое в руину ‹…› Я могу уверить всех и каждого, что действительно талантливые среди новаторов великолепно ‹…› сознают, как много чудесного и очаровательного заключается в старине ‹…› Футуристы завещали “Лефу” глубочайшее почтение к прошлому как к прошлому и непримиримую ненависть к этому же прошлому, когда оно пытается стать настоящим»[97]97
Брик О. Мы – футуристы // Новый Леф. 1927. № 8–9. С. 51–52.
[Закрыть]. Однако в полемической практике журнала эта позиция, как правило, уступала место активному противостоянию любым приметам «воинствующего пассеизма»: «Воинствующий пассеист под предлогом учебы тянет на кладбища к могилам классиков, забывая, что сегодня Пушкину уже 129 лет от роду и он нестерпимо беззуб, а в то же время пассеист умалчивает всячески, что Пушкин в свои дни был одним из самых ярых футуристов, деканонизатором, осквернителем могил и грубияном»[98]98
Третьяков С. С новым годом! C «Новым Лефом»! // Новый Леф. 1928. № 1. С. 1.
[Закрыть].
Противоречивость позиции «Лефа» объясняется противоречивостью самого намерения канонизировать «новое» как важнейший вектор художественной практики, т. е. сохранить «новое» новым и в то же время добиться его широкого общественного признания. В этой связи было необходимо сделать легитимной «футуристическую» новизну сразу в нескольких перспективах: в глазах власти, в глазах литературного сообщества, в глазах массовой аудитории. Апология «нового» в этой связи имела сразу несколько сценариев.
Аргументация к власти выстраивалась на релятивизации частных мнений, когда неприятие авангарда некоторыми марксистами рассматривалось как недоразумение. Речь, таким образом, шла не о выпаде против партийной линии, но об интерпретации критических мнений отдельных лиц как заблуждения. Об этом пишет В. Перцов в работе «Марксизм(ы) в литературоведении»: «Точно так же, как политический революционер может обладать реакционным художественным вкусом, так и марксист обществоведческого типа, владея наиболее передовым и революционным методом, может делать, не умея применить его к литературе, реакционное дело»[99]99
Перцов В. Марксизм(ы) в литературоведении // Новый Леф. 1928. № 7. С. 25.
[Закрыть].
Аргументация к массам выстраивалась по-другому. В самых разных материалах «Лефа» снова и снова варьировалась мысль о необходимости поиска диалога между художником и аудиторией, который предполагал бы как «учебу» масс, так и самоограничение художника. Об ограничивающей «педагогике» пишет И. Гроссман-Рощин: «Футуризм должен заняться серьезно и тщательно – не боюсь этого слова – проблемой педагогики. ‹…› Не знаю “как”, но во что бы то ни стало нужно найти своеобразные методы приобщения широких слоев»[100]100
Гроссман-Рощин И. О природе действенного слова // Леф. 1924. № 2. С. 100.
[Закрыть]. Об этом же в контексте деятельной пропаганды чтения говорит и В. Маяковский: «Искусство не рождается массовым, оно массовым становится в результате суммы усилий. ‹…› Понятность книги надо уметь организовывать»[101]101
Маяковский В. Вас не понимают рабочие и крестьяне // Новый Леф. 1928. № 1. С. 38–39.
[Закрыть]. Вероятный успех такого «продвижения» связывается С. Третьяковым с расширением эстетической компетентности, с преодолением привычки воспринимать искусство в категориях досуга: «Если массы не понимают, потому что им трудно понять, то для этого существует учеба. ‹…› Беда в том, что массам всей обстановкой буржуазного быта внушено, что задача искусства – заполнять досугом ‹…› без затраты труда…»[102]102
Третьяков С. Трибуна Лефа // Леф. 1923. № 3. С. 160–161.
[Закрыть].
Аргументация к профессиональному сообществу связана с апологией «изобретательства», но это парадоксальная апология: она легитимирует новизну за счет ее объяснения, соотнесения с общеизвестным и «старым». Предельным воплощением этой закономерности оказывается интерпретация «заумных форм» как «социально значимых вещей». В понимании С. Третьякова заумные произведения – не «эстетически самодовлеющая демонстрация», а способ «сделать повседневную речь предельно гибкой»; в этом смысле «футуристы добиваются, чтобы массы стали полными хозяевами своего языка и могли бы, сообразно задачам пользования им, находить те формы, которые являются для каждого данного случая наиболее целесообразными»[103]103
Третьяков С. Трибуна Лефа // Леф. 1923. № 3. С. 164.
[Закрыть]. Б. Арватов отмечает, что «“заумь” – постоянное явление в практической речи, в быту», где с ней связан целый ряд социальных смыслов; но главное в другом: заумь – вовсе не форма без функции, ее функция – в тематизации поэзии как «лаборатории речетворчества»; «историческое значение “заумников” заключается именно в том, что впервые эта всегдашняя роль поэзии оказалась вскрытой самою формою творчества»[104]104
Арватов Б. Речетворчество: (По поводу «заумной» поэзии) // Леф. 1923. № 2. С. 80, 87.
[Закрыть]. Но рационализация зауми означает упрощение новизны, сводит ее к побочному эффекту «инженерной культуры языка»[105]105
Арватов Б. Речетворчество: (По поводу «заумной» поэзии) // Леф. 1923. № 2. С. 80, 87.
[Закрыть].
В исторической перспективе все эти варианты оправдания новизны оказались неубедительными. Характерна скептическая оценка «самохвалов» Л. Гинзбург: «Несчастье “Лефа” в том, что он непрестанно держит речь, обращается; притом по преимуществу к тем, кто не может его понять или не хочет слушать»[106]106
Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 38.
[Закрыть]. Это «несчастье», без сомнения, было очевидно и самим апологетам «нового». Красноречивее других оценка Н. Чужака в последнем номере «Нового Лефа»: «Бедные внебрачные дети современности, сделавшие подлинную революцию в искусстве и – смиренно выжидающие времени… усыновления!»[107]107
Чужак Н. Левее Лефа // Новый Леф. 1928. № 12. С. 27.
[Закрыть]. В этой связи особый интерес представляет трактовка лефовцами «неудачи» и «ошибки».
Ошибка осознается как естественная издержка творческого поиска, как условие всякого «изобретательства». Об этом пишет Ю. Тынянов: «Собственно говоря, – каждое уродство, каждая “ошибка”, каждая “неправильность” нормативной поэтики есть – в потенции – новый конструктивный принцип»[108]108
Тынянов Ю. О литературном факте // Леф. 1924. № 2. С. 109.
[Закрыть]. Это же отмечает и В. Шкловский: «Мы знаем очень много вещей, которые при появлении сознавались как неудача и только потом осмысливались как новая форма»[109]109
Брик О., Перцов В., Шкловский В. Ринг Лефа // Новый Леф. 1928. № 4. С. 34.
[Закрыть].
Новизна и неудача в лефовском понимании были взаимосвязаны, что объяснялось пониманием продуктивности творческого заблуждения: «Если ‹…› у футуристов было немало и неудачных опытов, то они же первые никогда за них не цеплялись, поскольку им эта неудачность делалась ясна, и обычно обнаруживали эту неудачность сами, упорно критикуя самих себя»[110]110
Третьяков С. Трибуна Лефа // Леф. 1923. № 3. С. 156.
[Закрыть]. Характерно, что рассуждения о «новом» появляются на страницах «Лефа» и «Нового Лефа» не только в контексте дискурса ошибки, но и в контексте утопического дискурса.
В статье И. Гроссмана-Рощина развернута настоящая апология эстетического утопизма: «В производственном искусстве обязательно должен быть и есть элемент утопизма. Знаю, что многие пугаются, как черт ладана, этого слова. ‹…› Производственное искусство должно, в отличие от непосредственно утилитарного, выражать момент желательного совершенства, до которого данная степень материального производства еще не дошла, но к которой оно стремится»[111]111
Гроссман-Рощин И. О природе действенного слова // Леф. 1924. № 2. С. 95.
[Закрыть]. Поясняя свою идею жизнестроения, Н. Чужак подчеркивает: «Не только осязаемая вещь, но и идея, вещь в модели – есть содержание искусства дня. Отсюда – принятие всякого рода экспериментального искусства…»[112]112
Чужак Н. Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня) // Леф. 1923. № 1. С. 38.
[Закрыть].
Внимание к моделирующему характеру творчества позволяет увидеть искусство в движущейся оценочной перспективе. Именно в этом контексте появляется рассуждение Ю. Тынянова об оценочных точках зрения: «Тот бесплодный литературный критик, который теперь осмеивает явления раннего футуризма и заумь, одерживает дешевую победу: оценивать динамический факт с точки зрения статической – то же, что оценить качества ядра вне вопроса о полете. “Ядро” может быть очень хорошим на вид и не лететь, т. е. не быть ядром, и может быть “неуклюжим” и “безобразным”, но лететь хорошо, т. е. быть ядром»[113]113
Тынянов Ю. О литературном факте // Леф. 1924. № 2. С. 106.
[Закрыть].
Рассматривая лефовское понимание характера художественной креативности, немаловажно отметить, что в «Лефе» и «Новом Лефе» новизна связывается с активным освоением границы эстетического и внеэстетического, со стремлением заменить «пассивное» познание мира его деятельным преобразованием.
Самая большая «новость о “новом” искусстве», в интерпретации Н. Чужака, – это «жизнестроение», «идея непосредственного производства вещи через искусство»[114]114
Чужак Н. Под знаком жизнестроения. С. 31, 29.
[Закрыть]. В «Графике современного Лефа» В. Перцова «новаторский нюх» выражается в попытке сблизить «художественную и инженерную линии современной культуры»: «Метод Лефа стоит на границе между эстетическим воздействием и утилитарной жизненной практикой. Это пограничное положение Лефа между “искусством” и “жизнью” предопределяет самую сущность движения»[115]115
Перцов В. График современного Лефа // Новый Леф. 1927. № 1. С. 15.
[Закрыть]. В «Записной книжке Лефа» оппозиция старое/новое связывается В. Шкловским с релятивизацией оппозиции эстетическое/внеэстетическое: «Мы проповедуем ненужность многих форм художественной литературы и опровергаем противоставление художественной литературе нехудожественной. Мы считаем, что старые формы художественной литературы не годны для оформления нового материала и что вообще установка сегодняшнего дня на материал, на сообщение»[116]116
Записная книжка Лефа // Новый Леф. 1928. № 4. С. 25.
[Закрыть].
Размывание границ литературы и жизни изменяет само понимание проблемы: если ранее речь шла о противопоставлении «старой» форме «нового» содержания, то теперь «новое» рассматривается в системе «форма – материал – целевая установка», и самые важные новации связываются прежде всего с «установкой»: «Лозунг примата содержания обычно сводится к новой теме, к новому материалу при условии сохранения старых методов оформления ‹…› Сторонники примата формы говорят: новое время требует новых приемов обработки материала. ‹…› И материал и форма должны быть подчинены общественной целеустремленности фильмы»[117]117
Третьяков С. Чем живо кино // Новый Леф. 1928. № 5. С. 26–28.
[Закрыть].
В материалах «Лефа» характер этой рефлексивной предпосылки творчества – дискуссионный вопрос. В понимании В. Шкловского «установка» – это проблема полагания границ искусства: «Определенный прием, введенный, как не эстетический, может эстетизироваться, т. е. изменить свою функцию. ‹…› Вопрос Лефа – это вопрос определенной установки в искусстве»[118]118
Шкловский В. Документальный Толстой // Новый Леф. 1928. № 10. С. 34–35.
[Закрыть]. С точки зрения С. Третьякова – это проблема выбора прагматической цели: «Мы, лефы, за целевую литературу, строящуюся применительно к отчетливо поставленному социальному заданию»[119]119
Третьяков С. Наши товарищи! // Новый Леф. 1928. № 10. С. 2.
[Закрыть].
С особой остротой эта коллизия установки/задания проявилась в споре о литературе факта. Оставляя в стороне все интеллектуальные сюжеты этой дискуссии, отметим только контексты, в которых литература факта прямо соотносится с проблематикой новизны. В «Писательской памятке» Н. Чужака литература факта интерпретируется как средоточие лефовского «изобретательства»: «Новая литература – это и есть литература утверждения факта»[120]120
Чужак Н. Писательская памятка // Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа. М.: Захаров, 2000. С. 15.
[Закрыть]. Ее важнейшие приметы – отказ от привычных «китов художества» в виде обобщения и типизации. Место «искусственного» сюжета занимает сюжет «невыдуманный», и эффект новизны связывается с открытием «скрытосцепляющихся фактов»[121]121
Чужак Н. Писательская памятка // Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа. М.: Захаров, 2000. С. 22.
[Закрыть]. Для Чужака работа с таким материалом сродни прозрению: «Не в обиду будь писателю сказано, он обнюхивает мир, как впервые прозревший кутенок»[122]122
Чужак Н. Писательская памятка // Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа. М.: Захаров, 2000. С. 24.
[Закрыть]. В. Шкловский, к которому относится эта метафора, связывает «разроманивание материала» с «нахождением основной точки зрения, сдвигающей материал и дающей возможность читателю заново его перестраивать»[123]123
Шкловский В. К технике внесюжетной прозы // Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа. М.: Захаров, 2000. C. 234.
[Закрыть]. Эта же логика ассоциирования «нового» с особым зрением появляется и у П. Незнамова: «Увидеть и рассмотреть обыкновенное ‹…› очень трудно. ‹…› На такие вещи нужно воспитывать не только глаз, но и волю видеть…»[124]124
Незнамов П. На новоселье // Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа. М.: Захаров, 2000. C. 263.
[Закрыть].
Критерий подлинности «нового» – глубина производимого социального эффекта: «Не в авторе суть, а в той полезной работе, которую проделывает его произведение»[125]125
Т. Г. Трибуна и кулуары // Новый Леф. 1928. № 6. С. 40.
[Закрыть]. Опознавательные признаки новизны в «Лефе» оказываются производными от эффектов этой «работы» и охарактеризованы они в журнале в основном на внелитературном материале.
О. Брик, говоря о джаз-банде как «совершенно новой музыкальной культуре», видит типологический признак новации в эффекте вовлеченности, в «ощутимости»: «Считается, что лучшие произведения искусства это те, которые требуют ‹…› для своего восприятия сосредоточенного, ничем не отвлекаемого внимания. Это убеждение относится не только к музыке; оно существует и по отношению ко всем прочим отраслям искусства. ‹…› Джаз-банд не приспособлен к изолированному восприятию; его надо не слушать, а ощущать»[126]126
Записная книжка Лефа // Новый Леф. 1927. № 6. С. 10–11.
[Закрыть].
Еще одна примета новизны – «портативность» искусства. Выступая с апологией «легкого жанра», О. Брик замечает: «Что такое куплетист? Это актер, который умеет хорошо преподносить текст, причем для того, чтобы эти тексты преподносить, ему никакого специального помещения не требуется: он может это делать везде и всюду ‹…› Отсюда огромная подвижность эстрадного репертуара, огромная его портативность»[127]127
Брик О. За легкий жанр // Новый Леф. 1928. № 2. С. 36.
[Закрыть].
В. Кашницкий в работе о «музыке факта», описывая «новые приемы музыкальной работы», видит их общность в необходимости усилия при восприятии, в «активном подходе к слушанию» – это еще один признак «нового»: «Нам нужно заменить свободу эмоций ‹…› диктатурой интеллекта, требующего от слушателя напряженной ориентировочной работы. ‹…› Трезвая музыка, приучающая к настороженности, к неверию, к ловкости мозга – наш новый союзник в борьбе за реальный воздух, которым не дышать нельзя»[128]128
Кашницкий В. Умная музыка (к постановке вопроса) // Новый Леф. 1928. № 10. С. 38–39.
[Закрыть].
В теории «Лефа» самый сильный ресурс самолегитимации – это революция. Это первособытие, оправдывающее современность в ее социальной, культурной и эстетической проективности, главный источник «нового». В юбилейном редакционном материале «Десять» связь между лефовской практикой и революцией обозначена как программная и неразрывная: «Десять лет мы делаем Октябрь. Десять лет Октябрь делает нас»[129]129
Леф. Десять // Новый Леф. 1927. № 8–9. С. 1.
[Закрыть]. В рассуждениях О. Брика эта связь – условие сохранения эстетической новизны и связанной с ней «культурной гегемонии» в мире: «Успех наших книг, наших театров, наших художников за границей, успех “Броненосца Потемкина” подтверждает, что ‹…› сделанное самостоятельно, по-своему, своими методами ‹…› имеет огромный успех и принимается как новое слово»[130]130
Брик О. За новаторство! // Новый Леф. 1927. № 1. С. 25–26.
[Закрыть]. Закономерно, что в целом ряде публикаций революция осознается не как вчерашний день, а как перманентное настоящее художественного сознания.
В статье О. Брика «За политику!» речь идет о «необходимой ежедневной революционности», о том, что «революция это не только уличное дело, что это и домашнее дело, что каждый день и каждый шаг в частной жизни человека даже может быть расценен с точки зрения его революционности»[131]131
Брик О. За политику! // Новый Леф. 1927. № 1. С. 22–23.
[Закрыть]. В заметке С. Третьякова «Бьем тревогу!» необходимость такой «ежедневной революционности» объясняется «падением интереса к изобретательству» и стремлением деятелей культуры следовать за «эстетической инерцией массы»[132]132
Третьяков С. Бьем тревогу // Новый Леф. 1927. № 2. С. 4–5.
[Закрыть]. Общий вектор рассуждений задан стремлением к максимально аутентичной репрезентации революции: «Мы, лефовцы, полагаем, что Октябрьская революция настолько крупный исторический факт, что никакая игра этим фактом немыслима»[133]133
Брик О., Перцов В., Шкловский В. Ринг Лефа. С. 28.
[Закрыть]. Эта идея проходит красной нитью через обсуждение кинолент и книг на революционную тему, через разговор о фотографических свидетельствах.
Особый интерес в этой связи представляют рассуждения о том, как актуализировать революционные ценности в нереволюционную эпоху. С. Третьяков в статье «Как десятилетить», отмечая практику восприятия октябрьских торжеств как «бутафории», противополагает ей намерение так выстроить праздник, чтобы «каждый вышедший на улицы» мог почувствовать себя «хозяином советского строительства»[134]134
Третьяков С. Как десятилетить // Новый Леф. 1927. № 4. С. 36.
[Закрыть]. Условием этого должна была стать наглядная связь всех элементов культурного строительства. В. Жемчужный, поясняя принципы организации демонстрации, указывает, что сейчас это автокоммуникативный по своей сути «смотр достижений»: «Показать демонстрацию самим демонстрантам, – вот задача, которая при верном ее решении даст новый смысл демонстрации»[135]135
Жемчужный В. Демонстрация в октябре // Новый Леф. 1927. № 7. С. 47.
[Закрыть].
Важнейшая проблема, поднимаемая авторами «Лефа», – непреодолимость прошлого, которое сохраняет свое значение вопреки любым социальным переменам. Структура, воплощающая в себе косность как таковую – «быт»: «Бытом, сиречь пошлостью ‹…› назовем мы строй чувствований и действий, которые автоматизировались в своей повторяемости применительно к определенному социально-экономическому базису, которые вошли в привычку»[136]136
Третьяков С. Откуда и куда? (Перспективы футуризма) // Леф. 1923. № 1. С. 200.
[Закрыть]. Борьба с бытом размещает революцию не только позади, но и впереди: ее творческий импульс еще не исчерпан и предполагает продолжение и в социальном строительстве, и в эстетической практике: «Революция формы – это не революция одной только литературной “техники”. Отнюдь. ‹…› Революция литературной формы, как и культурная революция, есть революция сознания прежде всего. Это – борьба за право выражения революционного сознания революционными средствами. ‹…› Революция эта – очень серьезно впереди»[137]137
Чужак Н. Литература жизнестроения: (Теория в практике) // Новый Леф. 1928. № 10. С. 19.
[Закрыть].
«Впереди» – в силу торжества косных литературных образцов, которые легко усваиваются новой аудиторией, когда, по выражению В. Шкловского, «мертвый катается на живом»[138]138
Шкловский В. Сергей Эйзенштейн и «неигровая фильма» // Новый Леф. 1927. № 4. С. 35.
[Закрыть]. «Впереди» – в силу того, что самоценное формотворчество оказывается всего лишь имитацией новизны: «Борьба за форму сведена к борьбе за стилевой признак. Новые изобретения в области формы есть уже не новые орудия культурной продвижки, а лишь новый орнамент»[139]139
Третьяков С. Бьем тревогу. С. 3.
[Закрыть]. «Культ литературных предков»[140]140
Перцов В. Культ предков и литературная современность // Новый Леф. 1928. № 1. С. 9.
[Закрыть] и «пассеистический футуризм»[141]141
Тренин В. Тревожный сигнал друзьям // Новый Леф. 1928. № 8. С. 31.
[Закрыть] оказываются явлениями, в равной мере чуждыми лефовской новизне.
Ориентир, который неизменно сохраняет для авторов «Лефа» особое значение, – «ковка нового человека», связанная с «проповедью нового мироощущения» как «суммы эмоциональных (чувственных) оценок»[142]142
Третьяков С. Откуда и куда? (Перспективы футуризма) // Леф. 1923. № 1. С. 195.
[Закрыть]. Важнейшая черта этого нового мировоззрения – открытость сознания, интерес к неизведанному: «Перевести все, что от искусства, на выдумку и на тренировку, видеть новое даже в обыкновенном и привычном. А то у нас в новом норовят увидеть старое. Трудно найти и увидеть в самом обыкновенном необыкновенное. А в этом вся сила»[143]143
Записная книжка Лефа // Новый Леф. 1927. № 6. С. 3.
[Закрыть]. Работа на укрепление этой «силы» ведется в разных направлениях. Речь идет о создании «сложного инвентаря» фактов[144]144
Третьяков С. Живой «живой» человек // Новый Леф. 1928. № 7. С. 45.
[Закрыть], о «фиксации факта, отложенной по временной координате»[145]145
С. Т. Литературное многополие // Новый Леф. 1928. № 12. С. 44.
[Закрыть], об «жестокой азартной игре фактами»[146]146
Третьяков С. Продолжение следует // Новый Леф. 1928. № 12. С. 4.
[Закрыть]. Ее неотъемлемая часть – «ленинская» практика «подвешивания» смыслов, когда писатель «устанавливает каждый раз между словом и предметом новое отношение, не называя вещи и не закрепляя новое название»[147]147
Шкловский В. Ленин как деканонизатор // Леф. 1924. № 1. С. 56.
[Закрыть].
Если обобщить вышесказанное, лефовское «новое» – это «новое» перманентной креативности, его главное качество – постоянная самопроблематизация, перечеркивание сегодняшнего результата во имя завтрашнего. Его связь с революцией сущностна – но не потому, что в лефовский проект заложена идея «жизнестроения», а потому, что главное в нем – состояние «всевозможности», полета, подвешивания всех связей и смыслов. Лефовское «новое» – это «новое» завтрашнего дня, оно проективно и футуристично. В нем есть неучитываемый планированием хаотический элемент. Поэтому для авторов «Лефа» очевидным образом связаны «новое» и «ошибка», «новое» и «утопия». «Новое» как «динамический факт» заставляет видеть вещь не в ее данности, а в потенции развития, во множестве вероятных состояний.
Уязвимость такого иррационального «нового» обусловливает необходимость его оправдания разными методами – от вызывающе-наступательного, ставящего под вопрос компетентность оппонента, до дипломатично-уклончивого, допускающего сведение «нового» к известному. Вероятная ошибочность «нового» в лефовской концепции уравновешивается рационализацией творчества, в котором «новое» связывается с волей субъекта – креативного («установка») или социального («заказ»). И в том и в другом случае это субъект «эксцентрический», лишенный устойчивости, готовый разделить ответственность за «новое» с другими и сделать его производство коллективным и «конвейерным» – с разделением сфер труда. Тотальность «нового», которое охватывает и самого человека, и мир вещей, связана с попыткой активного вторжения искусства во внеэстетические сферы. Идеалом оказывается подсказанное жизнью «новое», лишенное культурных референций. В его поиске «Леф» нередко старается обозначить атрибуты «нового» и сиюминутно важного: это принципиально открытый перечень свойств – «ощутимость», «портативность», «настороженность» и т. д.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































