Текст книги "Напрасные совершенства и другие виньетки"
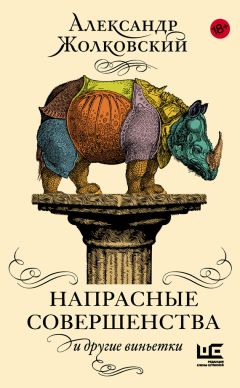
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Эросипед
Одним из устойчивых ранних впечатлений была фигура велосипедистки, проносившейся по пустынным улицам послевоенной Москвы, в частности в районе, где я жил. Это была стройная черноволосая девушка, одетая в соответствующий спортивный, вероятно, импортный костюм, с интеллигентным, несколько смуглым лицом и живыми глазами навыкате, как я теперь понимаю, еврейка (в лице которой, опять-таки задним числом, мне видится сходство с мамой). Я ни разу не молвил с ней ни слова, хотя потом мы пересекались в Доме ученых и, кажется, в Консерватории. Я запомнил ее мчащейся по Кропоткинской (ныне опять Пречистенке) на своем полугоночном велосипеде. Не знаю, почему я решил, что она дочка академика, и даже мысленно определил, безо всяких к тому оснований, какого именно. Тут действовала скорее логика сна и мифообразования, нежели здравого смысла. Никакого продолжения у этого сюжета не было – он остался лишь общим прологом к дальнейшему.
В мою собственную жизнь велосипед вошел (если не считать трехколесного, видного на довоенных снимках) летом 1951 года, перед восьмым классом и четырнадцатилетием. С тех пор с ним было связано так много, что всю мою биографию легко представить в велосипедном разрезе. Я ездил на велосипеде по Москве и Подмосковью, из Москвы в Ярославль и обратно, по Вене, Амстердаму, Итаке, Нью-Йорку, Принстону, Монтерею, Лос-Анджелесу, вдоль Санта-Моникского залива, по одному островку в Бретани, на котором запрещен автомобильный транспорт, и снова по Москве. Ездил днем и ночью, по делам, на заседания, в магазины, ради спорта и в романических целях. Я падал на велосипеде с моста в воду, пару раз был сбит машиной, однажды в пьяном виде в новогоднюю ночь 1965 года поскользнулся на велосипеде на рыхлом снегу около Маяковки и сломал ключицу, а несколько лет назад в Москве упал с тяжелым грузом книг и повредил руку. Велосипеды у меня крали (как-то раз я и сам купил подозрительно дешевый, видимо, краденый, и его потом тоже уперли), они ломались, сменялись – русские, японские, европейские, американские, дорожные, спортивные, горные; не было, пожалуй, только тандема.
Дачная езда на велосипеде (синем, дорожном, марки ЗИС) ознаменовала некоторое мое повзросление, но должна была укладываться в жесткие рамки родительских требований. Возвращаться, в том числе со свидания, надо было к определенному, довольно раннему часу. Мотивировались эти строгости, разумеется, волнениями родителей за меня. Главнобеспокоящимся была мама; впрочем, папа, более либеральный, но и более педантичный, держал ту же линию. Однажды у нас с ним произошел характерный конфликт на этой почве.
Мы жили на даче в Челюскинской, я вечером поехал кататься, пообещав вернуться в условленное время. Но в самой дальней точке маршрута, по другую сторону железной дороги, у меня что-то сломалось, я долго возился, наконец кое-как починил и, в конце концов, с большим опозданием в полной темноте добрался до дачи. Папа стал неприятным тоном меня отчитывать – за нарушение слова и причиненное беспокойство. Несправедливость этого выговора меня возмутила – может быть, потому, что обнажила садистскую подоплеку всех подобных строгостей. Я ответил, что не вижу оснований для недовольства, наоборот, все получилось правильно. Он беспокоился, как бы со мной чего не случилось, – так вот именно это и произошло, со мной именно случилось, и таким образом его беспокойство и ожидание не пропали даром. Какое-то либерализующее действие эта аргументация тогда возымела, но и в шестидесятилетнем с лишним возрасте, до самой его смерти (2000), я продолжал держать перед ним нескончаемый экзамен по пунктуальности – межконтинентальных звонков и московских возвращений в квартиру, будь то пешеходных, велосипедных или таксомоторных.
А вот сравнительно недавняя история. Написав полупародийный разбор одной эротической пословицы, я послал его своему нью-йоркскому коллеге М. Тот прочел и, смеясь, сказал, что статья напоминает ему меня самого. Я смущенно спросил, чем же именно – имеет ли он в виду что-то из сексуальной сферы. Нет, сказал он, не из сексуальной, а из велосипедной: она написана так, как я ездил у них на велике весной 1993 года.
Вспомнить о своем личном рекорде было приятно. Я тогда прилетел в Нью-Йорк поработать с М. над нашей совместной книгой. У них была двухкомнатная квартирка в Гринвич-Виллидж. Мы работали целыми днями, а ночевал я то у них, то у других знакомых, на противоположном конце Манхэттена, около Колумбийского университета. Курсировал между двумя квартирами на велосипеде – это больше сотни кварталов.
Когда в работе с М. наступал перерыв, я брал стоявший в передней велосипед и пытался объехать на нем журнальный столик в гостиной. Сначала я не успевал развернуться, задевал за мебель и с позором соскакивал посреди комнаты. Но терпенье и труд все перетрут – наступил день, когда я стал свободно въезжать в гостиную, огибать столик, выруливать обратно в переднюю и даже заворачивать в спальню!
М. сочетает добродушие со злоязычием. Как-то раз, когда я стал восхищаться его умением отыскивать в букинистических магазинах редкие книги, да еще и по дешевке, он сказал, что у каждого свои пристрастия-дарования, вот, например, у меня – к велосипеду. Поэтому не исключено, что и уподобление моих дискурсивных пируэтов велосипедным задумано было как ядовитая ирония. Но я принял его как комплимент. Тем более что, на мой взгляд, велосипед – с его рамой и твердо надутыми шинами, с посадкой в седле, руками на руле, ножной моторикой и общей телесной эквилибристикой, действительно очень сексуален. Написать про эрос на хорошем велосипедном уровне – не хухры-мухры.
Очерки бурсы
Школу полагается ненавидеть; у меня этого не было. Я посещал ее охотно и благодарен ей за немногие прочные знания. Проблематичность школьного опыта дошла до меня не сразу.
МальчикиВ средних классах литературу преподавал высокий, плотный, в потертом щегольском костюме Алексей Дмитриевич Коршунов. Его приветливое, но какое-то голое лицо с большой румяной бородавкой стоит у меня перед глазами. На его уроках требовалось выйти к столу и, руки по швам, бодро рапортовать об образе Онегина или идейном содержании “Муму”.
В этом стандартизованном порядке не все, однако, было так уж стандартно. Ал. Дм. становился позади отвечавшего и своим праздничным фальцетом объявлял:
– Сейчас мальчик такой-то расскажет нам образ Онегина. Станьте прямо, мальчик такой-то. – Он брал ученика за плечи, расправлял их, проводил вниз по его рукам, разворачивал его к классу. – Вот так. Ну, теперь отвечайте образ Онегина.

Школа № 50, 9-й «Б» (1953). Сидят (слева направо) Миша Ройтштейн, Володя Джинчарадзе, Лавренов, Андрюша Ильенко. Сзади стоят Жолковский, Гололобов, Ковтун (?), сидит Эдик Абрамов
О нем, кажется, ходили соответствующие слухи, но в мое сознание они как-то не проникали. Его любимцем был Володя Джинчарадзе, рослый, красивый, старательный. Вызывая Володю, Ал. Дм. исполнял ритуал объятий, замаскированных под уроки выправки, с особой нежностью.
– Сейчас мальчик Джинчарадзе, – Ал. Дм. смаковал каждый из четырех слогов этой шикарной фамилии, – прочитает нам наизусть стихотворение Лермонтова “Смерть поэта”. Оглаживая и поворачивая Володю, он добавлял: – Вот какой у нас отличный ученик, мальчик Володя Джинчарадзе.
Я был более бесспорным отличником, но на подобное special treatment претендовать не мог. До восьмого класса я был щупл и непрезентабелен. “У тебя только и есть, что чистенькое личико”, – вздыхала мама. Впрочем, никаким драматическим унижениям я не подвергался (если не считать позорного поражения в драке – “стыкнемся?!” – с одним из слабейших одноклассников), тем более что имел покровителя в лице пышущего энергией Миши Ройтштейна.
На переменах Миша взахлеб пересказывал мне очередные главы из “Трех мушкетеров” и бесконечных лет спустя. Самые яркие места он воспроизводил дословно:
– “О, женщины! Кто поймет их?! Вот женщина хочет мужчину, и вот она уже не хочет его!! – вскричал Портос и поскакал прочь”. – Но это не исчерпывало Мишиного напора, и он то и дело хватал меня за грудки со словами: – Ты понял это, маленький уродец? Ведь ты же знаешь, что я все равно тебя убью?!
Соперничество с Володей Джинчарадзе продолжалось до окончания школы, но было напрочь лишено сюжетной остроты. (В итоге оба кончили с золотыми медалями.) Настоящим вызовом моему лидерству стало появление в классе ученика по фамилии Шелепень. Он был детдомовцем из Белоруссии, жил у дальних родственников и носил всегда одну и ту же серо-зеленую сиротскую одежду с большим красным галстуком поверх курточки. Он шепелявил, походил на Буратино, но назвать его маленьким уродцем язык ни у кого бы не повернулся – жестокость далась бы слишком дешево.
Шелепень тянулся изо всех сил, получал пятерку за пятеркой, я же с аристократической небрежностью позволял себе и четверки. Мама не могла этого слышать. У нее были твердые взгляды на все, в частности на элитарность.
– Ты из профессорской семьи, у тебя отдельная комната и стол для занятий, и ты просто не имеешь права учиться хуже того, у кого нет таких условий.
Беспризорный Шелепень в дальнейшем опять куда-то переехал, и соревнование прекратилось. Но мамины прецепты остались при мне.
Вечно женскоеШкола была мужская – образование оставалось раздельным, хотя где-то существовали и смешанные школы. (Когда пришло время записывать меня в школу, мама спросила, в какую я хочу: где одни мальчики или где мальчики и девочки? Где одни девочки, отвечал я.) В старших классах начались совместные вечера с женскими школами, но и в ранние годы интерес к сексу задавался не одним только монастырским гомоэротизмом Алексея Дмитриевича. Волнующее das ewig Weibliche (Вечная Женственность) присутствовало; его воплощением была преподавательница начальной школы Анастасия Ивановна.
Она вела не наш, а один из соседних классов, но своей учительницы я не помню, помню только ее. Она была полновата, с большими глазами, дугообразно выщипанными бровями, пробором посередине и симметрично уложенными косами; ее лицо напоминало бабочку. У нее был, как я теперь понимаю, слащавый мещанский выговор. Говорила она размеренно, видимо, стараясь казаться изящнее и интеллигентнее, чем была. Ее с удовольствием слушались.
Она жила в здании школы, у нее был муж-офицер, но школьный фольклор упорно связывал ее то с одним, то с другим из преподавателей, одно время – с приблатненным, похожим на мартышку физкультурником. Кто-то из нас прослышал, что по утренней походке женщины можно определить, чем она занималась ночью, и иногда мы, с риском быть застигнутыми завучем вне класса, дежурили после звонка у лестницы, чтобы подсмотреть, как будет ставить ноги идущая на первый урок Анастасия.
Старшие ребята позволяли себе и более прямые, разумеется, чисто словесные, посягновения. “На Асеньке я бы попрыгал”, – авторитетно заявлял многократный второгодник Валера Золотарев. Мне такое в голову не приходило, но облик Анастасии Ивановны ушел на дно моего подсознания, откуда определил, полагаю, не один любовный выбор. Задним числом я бы возложил на нее ответственность за мои скифские вкусы, как на маму – за семитские.
Уроки ОктябряВерховную власть представлял директор школы Федор Иванович Шибанов, по прозвищу Колобок. Он был лыс, кругл, невысок ростом, и хотя страх быть вызванным к директору традиционно висел над нами, я не припомню особых строгостей с его стороны.
Помню другое. Если заболевал кто-нибудь из учителей и его некому было заменить, на помощь приходил Колобок. Делал он это ровно одним способом. Сославшись на свое былое амплуа историка, он рассказывал, как “на VI съезде партии, летом 1917 года, когда встал вопрос о переходе от мирного периода развития революции к немирному, товарищ Сталин задал троцкисту Преображенскому вопрос…” Каверзный вопрос товарища Сталина выветрился из моей памяти, хотя слушал я каждый раз с удвоенным интересом, потому что товарищ Сталин был жив и боготворим, а сын троцкиста Преображенского под другой фамилией проживал в нашем доме.
Олицетворял власть директор, но настоящий страх внушал не он, а завуч, молчаливая седая женщина в очках, по имени, кажется, Зинаида, отчества не помню. Вообще, я ничего о ней долгое время не помнил, пока где-то в 1970-е годы не прочел книгу корреспондента “Нью-Йорк Таймс” в Москве Хедрика Смита “The Russians”. В этом поразительно адекватном этнографическом компендиуме нашей туземной жизни целый раздел был посвящен советской школьной системе – на основании опыта собственных детей, специально отданных Смитом в разные московские школы. Мне открылась мрачная картина унифицирующего угнетения юных душ, в которой я не мог не узнать своего вытесненного прошлого. Я вдруг вспомнил два сна, мучавших меня на протяжении многих лет, а потом успешно забытых.
В одном я якобы проболел больше месяца, страшно отстал по алгебре, грядет контрольная, я к ней не готов и просыпаюсь в холодном поту. В другом, времен начальной школы, я должен был после летних каникул явиться в школьную библиотеку и признаться в потере двух книг, взятых на лето, но страх, что библиотекарша отправит меня к завучу, заставлял бесконечно откладывать явку с повинной.
В результате я не помню ни имени-отчества математички, ни отчества завуча, ни какого-нибудь их словечка, ни чьего-нибудь словечка о них, как ничего не помню и об учительнице четырех начальных классов.
Маму помню ясно – тут Фрейд бессилен.
Саша Самбор
Мне все хочется вспомнить Сашу и хоть как-то зафиксировать его в слове. Не знаю, что мешает. Может быть, то, что подводит хронология, кажущаяся обязательной? Помню я, в общем, немного, но и это немногое мне трудно расположить во времени. Впрочем, как нас убедили Фрейд, Леви-Стросс и Якобсон, ни подсознание, ни мифология, ни поэзия хронологией не озабочиваются, подвешивая все в некой парадигматической одновременности.
Конечно, кое-что датировке поддается.
Мы с Сашей однолетки и учились в одной и той же школе № 50, в параллельных классах, которых к концу осталось два: класс гениев “а”, его, и класс “б”, мой.
Даже среди гениев он выделялся. В частности – породой: стройный, с ясным лбом, откинутыми назад темными густыми волосами, изящным прямым, может, слегка курносым носом. Он был веснушчат, но и это его не портило. Фотографий его у меня нет и никогда не было. (При попытках мысленной наводки на резкость я вижу его лицо проступающим сквозь черты теннисиста Томми Хааса – если поубавить смазливости.)
Одно время в школе передавался его разговор с директором, Колобком.
– Самбор, ты не русский?
– Русский.
– Почему же у тебя фамилия такая?
– А потому что у меня отец француз.
Вот тут опять не уверен. Может быть, не француз, а поляк. Дело в том, что, как это часто бывало в те годы, сталинские, да еще и послевоенные, никакого отца, поляка ли, француза ли, в натуре не наблюдалось – Сашу растила одинокая, очень колоритная мама, преподававшая французский язык. Впрочем, она и польским, кажется, владела, к тому же Самбор – город подо Львовом, в бывшей Польше, ныне Украине, так что не знаю. Не исключено, что фамилия была еврейская (по названию города – как Берлин, Лемберг, Падва), и тогда понятен директорский наезд, особенно если приурочить его к 1949 году или к зиме 1952–1953 годов.
Мы общались, но не тесно. Не помню, бывал ли я у него дома, хотя где он жил, помню прекрасно – над молочным магазином (бывш. Чичкина или Бландова) на углу Кропоткинской (теперь опять Пречистенки) и Мансуровского. Это был второй этаж, и ночью Саша иногда вылезал, а потом влезал через окно, выходившее в переулок. Колоритная носатая мама одевалась необычно, помню на голове у нее некий сложный берет или даже нечто многоугольное; впрочем, в те годы, поздние сороковые, одевались кто как мог. (У моей мамы на старых снимках тоже очень странные шляпы.)
Держался Саша приветливо, но как-то скорее замкнуто (отчужденно? потерянно?). У него всегда были другие дела. Он был очень спортивен, среди прочего занимался горными лыжами (но уже в школе или только позже, не помню).
Потом мы окончили школу и видеться практически перестали. Я поступил на филфак МГУ, а он во что-то более карьерное – то ли МГИМО, то ли Военный институт иностранных языков. Полиглотство было у него в крови, а почему он в 1954-м выбрал такой вуз, можно лишь догадываться. Возможно, из любви не только к языкам, но и к дальним странствиям, каковые впоследствии не преминули материализоваться.
Дальше хронология сбивается. Соотнести по времени несколько запомнившихся эпизодов просто не могу.
Когда я, ради сомали, поступил на полставки на Радио (1964), оказалось, что Саша там уже работает, и мы пару раз пересеклись у лифта.
Потом в какой-то момент оказалось, что он, как и я, но не помню, кто раньше, кто позже, подписал письмо протеста (я в 1967-м) и что ему грозит увольнение.
Кажется, его не столько уволили, сколько вдруг забрали в армию, чту они, возможно, имели право сделать в любой момент, если по специальности он был военным переводчиком.
В армии он служил по языковой части, и вот опять не уверен, сначала ли в Одессе, а потом в просоветской Гвинее или наоборот. Может быть, в Гвинею (Мали?) он был отправлен (распределен?) ранее, до осложнений с властью, а в Одессу именно сослан потом – за подписантство или какую-то другую идеологическую провинность.
В Африке он остался верен себе и выучил местный язык – малинкег, учебник которого, отпечатанный на дешевой колониальной бумаге, по возвращении подарил и мне, но я, довольствуясь сомали, вгрызаться не стал.
А в Одессе он с моей (в опальном ореоле диссидента?) подачи подружился с компанией моих знакомых и, насколько понимаю, завел дежурный роман с тамошней прелестницей-интеллектуалкой Ксаной (от чего я в свое время уклонился, но это особая история).
Впрочем, по воспоминаниям некоторых из общих знакомых, пребывание в Одессе могло быть не долгой ссылкой, а короткой карательной командировкой (году в 1964-м) то ли на курсы усовершенствования, то ли, скорее, для переводческого обслуживания приезжих кадров – кубинцев и гвинейцев. И вроде бы в Одессе он с удовольствием вспоминал о своей загранке, бывшей, значит, уже в прошлом.
В какой-то момент – не решаюсь поместить его до или после политических событий, не исключено, что после подписантства, в 1970-е, – мы снова сблизились. Да, наверное, уже после того, как я женился на Тане (1973), потому что заходить он стал, похоже, не столько ради меня, сколько ради нее. Таня, кстати, была горнолыжницей, и интерес мог начаться с этого. Так или иначе, он стал заходить и даже один раз увязался с нами за город, причем мы катались на беговых, а он мучительно тащился на горных, что крайне трудно и к тому же, кажется, вредно для ног. Потом его увлечение как-то сразу прошло, и он опять исчез с моего горизонта.
Но может быть и так, что засматривался он не на вторую мою жену, а на первую, Иру, и тогда загородный анабазис надо отнести на десяток лет раньше (мы с Ирой разошлись в 1965-м).
Потом мне рассказали (или он сам рассказал?), что, катаясь на Кавказе, он сильно поломался, чуть ли не повредил позвоночник, так что горные лыжи больше ему не светят, и он страшно это переживает.
И последнее – тут сомнений в порядке событий быть не может, хотя датировка остается смутной: на пьянке в общежитии МГУ на Ленгорах (или в собственной квартире – он был женат, и, кажется, не очень счастливо: жена была сильно старше, с дочкой лет пятнадцати, и острили, что ему надо было дождаться ее) он решил щегольнуть проходом по внешнему карнизу из одной комнаты в другую (был такой спорт), сорвался и разбился насмерть. Подозревали самоубийство.
Когда это произошло? Году в 1970-м? В 1975-м?
Но одна дата известна мне совершенно точно. Саша Самбор родился 8 сентября 1937 года, в ту же ночь, в том же родильном доме, на том же столе, что и я. Там наши мамы познакомились, и эта тень двойничества всегда нас немного осеняла. Но вот уже десятки лет, как его нет в живых, а я продолжаю притворяться непогибшим, то более, то менее удачно, в частности путем вампирических воспоминаний о покойных.
“А” и “Б”
Поступив на филфак (1954), я обнаружил среди студентов своей английской группы соученика по школе, Витю С. По школе, но не по классу: он учился в классе “а”, заповеднике гениев, а я – в плебейском “б”, где к гениям отношение было подозрительное. Как-то раз наша классная руководительница тоном выговора заметила мне, что по своему складу я больше подхожу к “а”, и она может позаботиться о моем туда переводе, понимай – изгнании. Дело это, однако, дальше не пошло, и я окончил школу, хотя и с золотой медалью, но с неизбывной печатью класса “б”.
Началось все это тем летним днем 1944 года, когда мама повела отдавать меня в школу. Поступавших в первый класс было много – более двухсот человек, которых, наскоро прикинув уровень их умственного развития, распределяли по классам, от “а” до “д”. Завуч спросила маму, считает ли ребенок до ста. Мама, поколебавшись, ответила утвердительно, полагая, что со сложением и вычитанием в пределах ста я как-нибудь справлюсь; насчет умножения и деления полной уверенности у нее не было. Завуч, имевшая в виду всего лишь умение продекламировать числовой ряд: “один, два, три… девяносто девять, сто”, покачав головой, зачислила меня в 1-й “д”, и вся моя школьная жизнь прошла среди хулиганов и двоечников, которые, впрочем, неуклонно отсеивались, так что к выпускному финишу пришло два класса по тридцать человек – 10-й “а” и 10-й “б”.
Общность школьного происхождения сближала нас с Витей, и на факультете мы первое время держались вместе. Мужское население филфака немногочисленно, зато каждый считает себя гением и культивирует свою оригинальность. Вите это давалось без труда. У него были большие, красивые, но разные глаза – один коричневый, другой зеленый. Уже в школе он носил костюм и галстук. Он курил трубку и умел пить коньяк (его отец был директором – метрдотелем? – ресторана). Он непринужденно перемежал свою речь словами “душа моя” и “голуба”. К урокам он не готовился, лекции пропускал, был невозмутим и молчалив, а когда высказывался, то ронял что-нибудь уайльдовское. Как-то позднее, курсе на втором или третьем, он сообщил мне, что только что разошелся со своей подружкой, и на мой вопрос, где же она, произнес: “Оне пошли бросаться под машины”.
На филфаке было принято, что кафедры вывешивали темы предлагаемых курсовых работ у входа на третий этаж (мы учились в старом университетском здании, Моховая, 11). Стены напротив лестницы, сами двери этажа и стены коридора за дверьми были покрыты листами бумаги с отпечатанными на машинке названиями тем. Меня, зеленого первокурсника, эти списки и страшили, и влекли – я читал в них вызов своему честолюбию.
– Витя, – сказал я, – давай пойдем на кафедру, выберем темы…
– Зачем, душа моя?
– Как зачем? Чтобы попробовать свои силы в науке, добиться результатов, завоевать уважение…
– Это тебе, душа моя, чтобы уважать себя, нужно писать курсовую, а я себя, голуба, и так уважаю.
Ни на какую кафедру мы тогда не пошли, без курсовых же, разумеется, не обошлось. Впрочем, филологом Витя не стал (это особая история), психологом же оказался неплохим. До сих пор я все что-то пишу, стараясь заслужить собственное уважение, но с переменным успехом, ибо ходить “на кафедру” так и не научился и по-прежнему обретаюсь в разного рода учреждениях класса “б”, – хотя вроде бы больше подхожу к “а”.
Против инварианта не попрешь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































