Текст книги "Напрасные совершенства и другие виньетки"
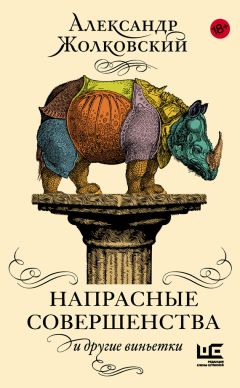
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Портрет неизвестной
Мы виделись ровно один раз – и один раз коротко говорили по телефону. Это было очень давно, полвека назад. Время не щадит ни лиц, ни имен, хотя кое-что иногда – чрез звуки лиры и трубы – остается.
Имени ее я не помню, а фамилии не знал и тогда. Она жила где-то в арбатских переулках, но адреса я не помню тем более. Так что, если бы мне вдруг захотелось во искупление давней вины что-нибудь ей завещать, на исполнителей моей последней воли легла бы непростая задача по ее отысканию. Впрочем, вины там было немного, а то и вовсе не было. Найти же наследницу можно было бы разве что через Окуньковых – при условии, что и она, и они меня переживут.
Ситуация – как в анекдоте про пассажира, который пошел в вагон-ресторан, поел и выпил, а потом сообразил, что не знает даже номера своего вагона, не говоря о купе. Проводник спрашивает, помнит ли он хоть что-нибудь, какие-нибудь приметы. Как же, говорит пассажир, помню. Там перед окном был очень симпатичный пейзаж – березки, озеро. Ну, вагонов в поезде обозримое число, так что у него все шансы воссоединиться со своим купе и багажом. И он ясно держит в памяти прелестное озеро – а я? Почти ничего.
Что же я все-таки столько лет помню? Какой-то абрис, туманный силуэт в зеленых тонах при вечернем освещении и, конечно, punch line, ту словесную пуанту, ради которой и берусь за перо (за клаву, как выразилась одна оригиналка уже в текущем столетии). Вербальные осколки прошлого в моем филологическом мозгу застревают прочно. Не могу, например, забыть, что сказал мне соученик по группе бального танца при Доме ученых Боря Лакомский (с ударением на “о”). Ему, как и всем нам, было четырнадцать, но он был уже жутко взрослый, в костюме, при галстуке, темноволосый красавец с уверенными манерами. Я что-то нескладно пошутил по поводу него и его партнерши, на что он со светской улыбкой повернулся ко мне и произнес: “ОБЪЯСНИТЕС”, – без мягкого знака на конце, как какой-нибудь де Барант. А телеграмма: “ПОМНЮ И ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ЭТУ НОЧЬ БЛАГОДАРЮ ВАС ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ НИНА”, полученная после совершенно, прямо скажем, бездарной ночи?! Или аттестация, заочно выданная мне бабушкой одной подруги: “ВАМПИРЧИК”?!
Встретились мы случайно, у Окуньковых. Женя Окуньков и его жена Галя Ветрова (обе фамилии, невероятно, но настоящие – вот и зацепка для юристов-наследственников) были моими коктебельскими соседями в сентябре 1963 года. Дом мы, всем на зависть, снимали “у Кати”, в северной части поселка, прямо над пляжем. Женя был страстный рыболов и на целый день с другим таким же любителем уходил в море. Однажды вместо него Женя взял меня – в качестве гребца и помощника по части наживки. Охотно клевавшую таранку он потом вялил, развесив на солнце и ветру во дворе, и, вяленую, в большом количестве повез в Москву, где вскоре устроил вечеринку в ее честь.
Народу было много, мне абсолютно незнакомого и в основном простого, с которым я толком общаться не умею, а потому поскорее напиваюсь. (Из другой вечеринки, в компании моего школьного друга Миши Ройтштейна, всплывает фраза: “АЛИК, КАКОЙ ТЫ ПОНЯТНЫЙ, КОГДА ПЬЯНЫЙ!”) Водка хорошо шла под таранку, я набрался как следует (чем может объясняться моя позорная забывчивость), почувствовал себя наконец в своей тарелке, огляделся и увидал ее.
Не то чтобы не запомнилось совсем ничего. Она была полновата, со светлыми, немного медными волосами, сверкающим счастливым лицом, и мы сразу как-то потянулись друг к другу. На ней было зеленое платье с золотистыми накладными полосками или вышивкой, очень ей к лицу, которого, однако, не помню. Но помню, что платье настолько ей шло, что именно им я вдохновлялся, когда пытался потом написать статью о “Мастерице виноватых взоров”, где утверждал, что за мастерицей, взорами и держательницей плеч угадывается мастерски вышитый узор одежды. Это приношение ее памяти осталось неоконченным. И с тех ли пор я полюбил зеленый цвет или уже любил заранее, не уверен.
Кажется, мы танцевали. Постепенно выяснилось, что она замужем, но пришла одна, что живет она, как и я, где-то по соседству и… что она беременна, чуть ли не на сносях! Только тут я понял, почему на нас так странно поглядывали хозяева и другие гости.
Будучи беременна, она, естественно, не пила, и, значит, ее расположение ко мне было тем более подлинным. А может, как это бывает с беременными женщинами, ей вдруг капризно захотелось чего-то другого, острого, соленого, сладкого, эдакого, и тут подвернулся я.
Ей надо было быть дома не поздно, и я пошел ее проводить. В полутемных переулках по дороге мы целовались. Она дала мне свой телефон. Мы попрощались у ее парадного, я обещал позвонить, записал еще и номер дома и подъезда и, совершенно завороженный, пошел домой – Метростроевская была недалеко.
Позвонил я не сразу. Отчасти потому, что, отрезвев, немного призадумался, отчасти потому, что и сам был женат, хотя чем дальше, тем все меньше и меньше. Но в какой-то момент все-таки набрал номер.
Трубку взяла она. Я представился, спросил, помнит ли она меня и удобно ли ей говорить. Говорить оказалось удобно, и в трубке раздался умоляющий вопль:
– ПОЩАДИТЕ МЕНЯ! Я ждала и боялась вашего звонка. Я не знаю, что это было. НО ПРОШУ ВАС, ПОЩАДИТЕ МЕНЯ!..
Это было не слабо. Такого мне слышать не приходилось ни до, ни после, ни по телефону, ни лично. Одной репликой, как прикосновением волшебной палочки, я был мгновенно превращен из участника легкомысленной интрижки в романтического героя, Сильвио, Печорина, графа Монте-Кристо.
Я пощадил – что мне еще оставалось? Телефон и адрес выбросил, имя и лицо забыл, но ауру той встречи и мольбу о пощаде смаковал долго. В частности, когда разрабатывал идею о “превосходительном покое” у Пушкина. И когда несколько лет назад уже пытался записать эту историю, но не пошло, и вместо нее получился разбор бунинского рассказа о вожделении к беременной (“Ахмат”).
…Все в жертву памяти твоей – и незрелый набросок, и две неплохие статьи. А телеграф и юрконторы загружать ни к чему.
Чудеса кибернетики
В эпоху бури и натиска конца 1950-х – начала 1960-х годов от кибернетики ждали всех возможных и невозможных чудес. Повинны в этом были не столько математики, сколько журналистская и гуманитарная общественность, раздувавшая вокруг кибернетики научно-фантастический бум.
Как-то раз на публичном семинаре одному из отцов-покровителей математической лингвистики, члену-корреспонденту Академии наук А. А. Маркову (сыну великого Маркова – “сыну цепей”), задали вопрос о возможности передачи мыслей на расстояние. Марков, высокий, седой, с холеным лицом и язвительными складками у рта, весь просиял и, расхаживая по сцене своей нескладной (хромающей?) походкой, стал говорить в характерном для математиков празднично-издевательском ключе:
– Ну что же, если у вас появилась некоторая мысль и вы хотели бы передать ее на определенное расстояние, то я бы рекомендовал поступить следующим образом. Надо взять лист бумаги, изложить на нем имеющуюся мысль и доставить этот лист в заданную точку. Если адресат правильно поймет прочитанное, то можно будет утверждать, что передача данной мысли на указанное расстояние состоялась.
Сырье für uns
Как-то Юра, с пренебрежением относившийся к моде вообще и собственному туалету в частности, решил укрепить свой гардероб покупкой двух приличных костюмов. За советом он обратился ко мне. Единственное, что я мог сказать ему с определенностью, это что товар должен быть импортный. Через несколько дней, объездив ряд магазинов, он говорит:
– Ну что ж, я могу считать, что приобрел некоторый опыт. Я уже умею отличить советскую продукцию от импортной. Советский товар, он, что ли, сравнительно недалеко ушел от сырья, в нем сырье, так сказать, доступно непосредственному наблюдению, в нем сырье как-то прямо видно, сырье видно.
Автоматы и жизнь
Так назывался исторический доклад академика Колмогорова в начале 1960-х годов, открывший наконец широкую дорогу кибернетике. Но мы истории не пишем…
У моего знаменитого соавтора Мельчука было тяжелое детство – советская власть, война, мачеха и вообще еврейское счастье. Игорь “управлялся”. Свою сестру и себя он одно время кормил, за еду отлавливая мух в столовке, где не хватало липучек. Как и во всем, он достиг в этом машинного совершенства и мог поймать муху одной левой не глядя.
К моменту моей второй женитьбы (1973) наша совместная работа над моделированием семантики была в разгаре. В качестве младшей коллеги Таня относилась к Мельчуку с пиететом и предвкушала домашнее знакомство (мы работали в основном у меня). А в качестве энергичной хозяйки она приняла практические меры – обила дверь отошедшего к ней кабинета войлоком и кожей, чтобы “громкий, но противный” голос Мельчука доносился туда приглушенным. Таня была, конечно, в курсе мельчуковской мифологии, включая охоту на мух.
Как-то раз, проходя через гостиную, где мы работали, Таня привычно оглядела ее в поисках непорядка, обнаружила его и брезгливо констатировала: “Муха!”
– Слава богу, муху есть кому отловить, – сказал я, гордясь причастностью к гению, великому и в малом.
Игорь на секунду поднял глаза, хватательно выбросил левую руку и… ничего не поймал. Таня посмотрела на меня с недоумением. Игорь, не глядя, повторил свой пасс – и опять безрезультатно.
– Как же это? – растерянно сказала Таня. Культ рушился на глазах.
– Игорь, ты что? – забеспокоился я. – Ты что меня подводишь?! Я, может, под твою славу женился…
Он оторвал наконец взгляд от бумаги, всмотрелся, приготовил было руку, но потом безразлично отмахнулся и опять вернулся к работе.
– А-а, это моль…
– Так тем более, она же медленнее.
– Вот именно. А у меня автомат.
Видно, этой моли суждено было еще пожить. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись, очарованье…
…Интересно, сохранилась ли у теперешних владельцев квартиры противомельчуковская обивка? А также буква “И” перед унитазом, выложенная белым кафелем по черному в честь Игоря – любителя уборнографического юмора? Если нет, пусть вызовом глобальной автоматизации останется это memento о медленной моли.
Сколько человеку нужно
Мы были бедны, но с идеями.
Как-то в буфете он спросил, есть ли у меня мелкие купюры – крупную неохота разменивать. Запоминая зеленевшую в его кулаке трешку, я заплатил пятеркой.
Вскоре я съездил в Ленинград – развеяться.
– Много потратил?
Наклевывалась завязка. Я подыграл:
– Много.
– Сколько?
– Не знаю.
– ?!
– Взял, сколько было, положил в карман (я показал как – он проследил глазами) и потратил. Не считая.
– Вот это здорово!
Загул был чисто словесный, зато зависть в голосе звенела самая настоящая.
Through a glass, darkly
Дом, в котором я прожил четыре десятка лет своей советской жизни (Метростроевская, теперь снова Остоженка, 41), был одним из первых кооперативных. Построенный в конце 1920-х годов Русско-Германским обществом, он имел три подъезда с бетонными козырьками и массивными черными деревянными дверьми, образующими небольшой застекленный тамбур (сегодня они сохранились лишь наполовину – внешние двери заменены глухими железными). Я жил в первом парадном, расположенном в глубине двора, в низинке, и потому с каменным крыльцом в три ступени. Второму парадному хватило пары ступенек, а третье, смотревшее на сквер и улицу, обходилось без крыльца. В холодное время года консьержка сидела во втором парадном, первое и третье запирались, и их жильцы шли к себе по подземным коридорам, мимо технических помещений – соответственно прачечной и котельной.

Остоженка (б. Метростроевская) 41, 1-е парадное (современный вид)
Как-то в далекой молодости, возвращаясь октябрьским вечером домой и поднявшись из коридора, сквозь стекла своего парадного я увидел, что на скамейке напротив сидят. Было темно, лампочка над крыльцом не горела, но угадывалось, что это парень с девушкой. Они сидели неподвижно, в тяжелых пальто и, видимо, тихо беседовали. Он что-то держал в руках, девушка, не меняя позы, иногда поглядывала в эту сторону.
Мне их было не слышно, им меня не видно, я стоял и смотрел, любопытствуя. Молодого человека я узнал. Он учился в нашей школе, мы не были знакомы, но я встречал его и где-то еще. Это был здоровый парень, прямой как палка, розовощекий, всегда пестро одетый, с близко поставленными глазами-пуговками и низким лбом, в который вклинивалась щетка густых черных волос. Но сейчас ничего этого нельзя было различить – поздний вечер, осень, двойные стекла, серое на сером.
Вглядевшись получше, я понял, что двумя руками он держит предмет неслышного мне разговора – высвобожденный из ширинки член, длинный, тяжелый, находящийся в состоянии полуэрекции. Завораживающая в своей медитативной невозмутимости сцена длилась и длилась, мгновение было остановлено.
Я испытал смешанные чувства удивления, зависти, сочувствия, мелькнула даже мысль предложить им свою квартиру. Оторвав наконец от них взгляд, я поднялся к себе, потом не вытерпел и вышел посмотреть еще раз, но никого уже не было.
Заголовок – из 1-го Послания к Коринфянам (13:12). По-русски он звучал бы совсем тоскливо: “Сквозь тусклое стекло”.
Что делать
В заочной аспирантуре Института восточных языков при МГУ (1963–1967) я проходил только один курс – семинар по основам марксизма-ленинизма. Избранный мной язык сомали преподавать было некому, и его изучение было пущено на самотек, но о том, чтобы обойтись без марксизма в то время, да еще в институте, готовившем выездных переводчиков и шпионов, нельзя было и помыслить. Впрочем, преподавался этот предмет спустя рукава. Семинар вел не старый, но уже облысевший от философских занятий бледный еврей (фамилии не помню). Одного взгляда на меня ему было достаточно, чтобы полностью освободить меня от посещения – с единственным условием: в конце семестра (года?) я должен был подать реферат на какую-нибудь философскую тему, связанную с моей, аспиранта-заочника, непосредственной научной практикой.
Я никогда не разделял принятого среди моих друзей-филологов мнения, будто марксизм, ввиду своей ненаучности, логической противоречивости и лживой догматичности, не поддается изучению. Я полагал и полагаю, что, будучи тщательно разработанным словесным построением, своего рода атеистической мифологией, то есть, выражаясь по-тартуски, вторичной моделирующей системой, марксизм, в том числе официальный советский, являет законный объект для филологического освоения. Я всегда имел по марксизму отличные оценки и благодарен советской системе образования за заложенные таким образом основы, по сей день позволяющие мне поддерживать непринужденные беседы с американскими коллегами на темы деконструкции и иных постмодерных веяний гуманитарной мысли.
В качестве профессионального материала для реферата я избрал широко дебатировавшуюся в наших структурных кругах теорию лингвистической относительности, известную также под названием гипотезы Сепира – Уорфа. В советском языкознании она постоянно подвергалась критике за релятивизм, подрыв категории объективной истины, а то и сомнительное, американско-империалистическое, происхождение ее авторов, конкретные отдельные заслуги которых в описании индейских языков, впрочем, признавались – со сдержанным одобрением. В реферате наверняка можно было ограничиться констатацией такого положения дел, слегка пожурив буржуазных специалистов Эдварда Сепира и Бенджамина Уорфа за философскую недостаточность. Но интеллектуальное честолюбие и тайный диссидентский запал толкали меня на большее.
Начал я с постановки проблемы: как получается, что выдающиеся умы человечества, совершающие фундаментальные открытия в различных областях знания, – Павлов, Эйнштейн, Бор, Сепир и другие – оказываются неспособны постичь очевидные философские истины марксистского учения, которое, по словам Ленина, “всесильно, ибо оно верно”? Так сказать, чего им неясно, если башка у них вроде неплохо варит? За ответом я предлагал обратиться к классической работе Ленина “Что делать?”.
Центральный тезис книги состоит в том, что коммунистическая идеология не может быть выработана пролетариатом самостоятельно, стихийно, путем естественного развития из задач экономической борьбы (как то утверждают западные социал-демократы либерального толка и их российские последователи). Она должна быть внесена в сознание рабочего класса извне, силами передовых идеологов-марксистов, отражающих подлинные, но, увы, не всегда отчетливо осознаваемые интересы этого класса. Для чего и требуется создание партии нового типа – партии профессиональных революционеров.
Далее мат ставился в три хода. Если пролетариат, то есть класс, в котором общественные формы его существования (массовый индустриальный труд, отчужденность от собственности и т. д.) закладывают начатки коммунистического сознания, а перспектива прихода к власти в результате социалистической революции развивает непосредственную заинтересованность в такой идеологии, – если даже пролетариат оказывается ей стихийно чужд, то чего же ждать от буржуазных ученых, привыкших к индивидуалистическим формам труда и накопления и не принадлежащих к будущему классу-гегемону?! Поскольку, таким образом, рассчитывать на переход Эйнштейна, Сепира и других релятивистов на марксистские рельсы философски некорректно, постольку в порядок дня ставится принудительное, а в случае необходимости и насильственное, внедрение в их головы марксистской методологии. С помощью ряда лингвистических примеров из языка хопи (исследованного Уорфом) и из области машинного перевода с английского на русский (разрабатывавшегося автором реферата) наглядно демонстрировался переход от ошибочной, релятивистской трактовки языковых явлений к единственно верной, марксистской.
Все это было написано единым духом, без помарок и принесло мне желанный зачет и понимающую улыбку преподавателя. К сожалению, текст реферата у меня не сохранился. Я одолжил его кому-то из младших коллег по Лаборатории машинного перевода, тот переписал его и подал от своего имени, но оригинал не вернул, а передал дальше. Что было делать? Я утешался тем, что мой вклад в марксизм пошел по рукам – внедрился в народное сознание.
“Машки”
В середине 1970-х годов я работал в “Информэлектро”, где присутственный режим был сравнительно вольный, но время от времени отдел кадров проводил проверки, о которых, как правило, становилось известно заранее, и тогда требовалась всеобщая явка к 8 утра. Я человек дисциплинированный и большой проблемы в этом не видел; я просто брал с собой в портфеле, а то и в двух, все нужные для моих посторонних занятий поэтикой материалы и мирно корпел над ними в пустой институтской читальне.
Все-таки ранний подъем и психологический стресс, не говоря об утренней давке в метро, видимо, сказались, ибо в одно прекрасное утро я выскочил на платформу на “Красных воротах” только с одним портфелем в руках – привычный самоконтроль (руки не должны быть пустыми) сработал по минимуму. Я, конечно, сразу же обнаружил нехватку, обратился к работникам метро, они связались с машинистом, поезд был осмотрен по прибытии на конечную станцию (а потом еще раз мной, когда опять проезжал “Красные ворота”), но безрезультатно.
Потеря была нешуточная – в портфеле были записные книжки, документы (в том числе институтский пропуск), почти законченная рукопись, которую я собирался отдать в перепечатку (для чего в течение некоторого времени запасался номерами машинисток), иностранные и библиотечные книги, в общем, много чего. К счастью, моя агония продолжалась недолго. Вскоре позвонила Танина мама – сказать, что ей звонил какой-то странный человек, представился нашедшим мой портфель, и она дала ему мои телефоны. А вскоре позвонил и он сам.
– Саша? Наше вам с кисточкой. Вы потеряли, мы нашли. Ваше счастье, а то, знаешь, потерял – пиши пропало.
– Большое спасибо. Как мы встретимся?
– Давай приезжай, только с тебя, конечно, причитается. И ты, это, один приезжай, без милиции, понимаешь. Если не один будешь, мы к тебе не выйдем.
– Все понятно. Как к вам доехать и как мы узнаем друг друга?
Он объяснил мне дорогу куда-то на самую окраину и сказал, где его ждать. А узнает он меня спокойненько по фотографии на пропуске. В целом радуясь, но несколько тревожась относительно суммы выкупа, я захватил две двадцатипятирублевки, поймал такси и поехал. Как только я, расплатившись, вылез из машины и начал осматриваться, ко мне подошел простецкого вида работяга-забулдыга. В руках он держал мой пропуск и записную книжку, явно наслаждаясь раскладом, при котором он выступал в качестве инстанции, проверяющей документы, а я в роли опознаваемой сомнительной личности. Портфеля при нем не было.
– Да, сперва мы тебя никак не могли разыскать. Твоего-то телефона в книжке нет. Тогда мы стали твоим блядям звонить, а они, суки, не признаются.
– Каким блядям? О чем вы говорите?
– Ну как же? Вот, – он протянул мне мою записную книжку, – пожалуйста, черным по белому: машки. И телефонов штук пять. А они все как одна отказываются, говорят, мы его не знаем.
Я заглянул в книжку. На букву “М”, под беглым карандашным “Маш-ки”, значились телефоны машинисток, добытые по расспросам знакомых и еще не пущенные в ход. Своего собеседника я посвящать в эти тонкости не стал. Он же воодушевленно рассказывал, как, звоня по всем телефонам подряд, они в конце концов вышли на Ксению Владимировну.
– Так где же портфель?
– Ща пойдем, только сперва надо, это, в магазин зайти.
Я понял намек и приготовился раскошелиться. Мой спутник недолго осматривал витрину и заказал три бутылки портвейна. Это стоило рублей пять-шесть, но так как я уже вынул четвертную, я со словами “для дома, для семьи” спешно накупил каких-то дорогих бутылок и шоколадных наборов и погрузил их в сумку. Работяга рассовал по карманам портвейн, и мы двинулись.
Он привел меня к стационарному вагончику, в каких живут ремонтные рабочие. Нас встретили веселыми возгласами. Внутри вагончик был обклеен глянцевыми вырезками с полуобнаженными девицами. Меня пригласили принять участие в распитии принесенного, но я отказался, сославшись на занятость. Они не настаивали. Мне был выдан портфель, велено убедиться в сохранности содержимого и посоветовано в дальнейшем не быть таким распиздяем. Я отбыл, не веря своему счастью и не переставая дивиться скромности запросов простого советского человека (слова “совок” тогда еще не было). Так я воссоединился с утраченной было собственностью, но зато остро ощутил безнадежность своего отрыва от народа – отрыва пока что метафорического, но которому через несколько лет предстояло овеществиться в виде эмиграции.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































