Читать книгу "Большая Лубянка. Прогулки по старой Москве"
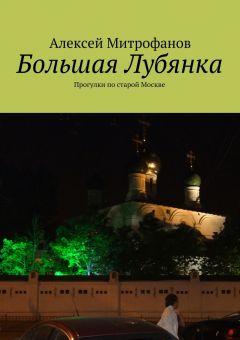
Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Суд был громким и шумным, виновным же признали архитектора А. С. Каминского (известнейший адвокат Федор Плевако, нанятый Каминским, не смог ничего поделать). Было установлено, что он переложил надзор за стройкой на кого-то из своих помощников, а тот, недолго думая, на малограмотных десятников.
Каминского приговорили к церковному покаянию и трехмесячному заключению, которое сначала заменили на арест на гауптвахте, а затем вообще – на домашний арест. Возможно, что одной из основных причин смягчения наказания было родство Каминского с известным галеристом Павлом Третьяковым (зодчий был женат на его дочери). Павел Михайлович, хотя и был человеком глубоко порядочным и справедливым, за родных стоял горой. Не исключено, что он задействовал свои весьма разнообразные знакомства для смягчения участи милого зятя.
* * *
Наступила революция, и жизнь Кузнецкого изменилась. Из улицы знаковой, культовой она превратилась в обычную, каковых в Москве сотни. Разве что Маяковский однажды упомянул ее в стихотворении «Стабилизация быта»:
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий»
и в «Известия».
Но упомянул как часть маршрута, и не более того.
Пляшущий дипломат
Здание Первого Российского страхового общества (Большая Лубянка, 5) построено в 1906 году по проекту архитекторов Л. Бенуа и А. Гунста.
Сейчас уже практически никто не помнит, что когда-то в этом доме располагалось страховое общество. Которое, кстати сказать, вошло в историю художественной жизни города Москвы. В частности, в 1907 году в этом доме устроили персональную выставку художника Нестерова. Михаил Васильевич писал о ней: «Выставка «для избранных» открылась 14-го. Было немного, но купили в этот день более чем на 1000 р. На другой день (15-го) была выставка открыта для публики, которая идет довольно охотно, за шесть дней перебывало до 1500 человек, почти вдвое более того, что за первые дни было в Питере… Продано по сей день двенадцать вещей – на 5 000 р. В общем перевалило за 20 000 рублей. Из восьмидесяти четырех вещей осталось на руках шесть, а впереди еще три недели. Газеты хвалят: «Московские ведомости» посвятили фельетон черносотенных похвал. «Русское слово» (левое) большую статью, и довольно недурную.
Ходит на выставку много молодежи… студентов, курсисток и т. п. Черносотенцы читают о «Св. Руси» «рефераты».
Третьяковская галерея выставку прошла молчанием (есть слухи, что из-за «Дмитрия Царевича» перегрызлись Серов с Остроуховым)».
То есть попечитель Третьяковки и член ее совета.
Что сказать? Художественная жизнь в те времена била ключом.
Кроме того, в здании на Лубянке находилась так называемая «Фототипия Фишера» – фотоателье одного из самых знаменитых московских пионеров фотографии, «фотографа Императорского Университета и Театров» Карла Фишера. Помимо фотографии он занимался изданием открыток, и на этом поприще Карл Фишер в некотором роде оскандалился – выпустил к юбилею победы над Наполеоном серию открыток с репродукциями Верещагина, при этом репродукций было больше, чем самих картин, двадцать одна вместо двадцати.
«Лишняя» открытка называлась «Наполеон I при реке Березине». Спустя пятьдесят лет нашелся и оригинал – незавершенная картина (видимо, открытка была здорово отретуширована мастерами Фишера), стилистически несколько отличавшаяся от других работ маэстро Верещагина, однако со странным автографом на обороте: «Сим удостоверяю, что картина эта была писана мужем моим художником Василием Васильевичем Верещагиным».
Более тщательной проверкой исследователи пренебрегли, и история с открыткой осталась одной из московских загадок.
* * *
В этом же доме проживал известный гравер Иван Павлов, прославивший себя изображениями уголков старой Москвы. Делал он их, можно сказать, не от хорошей жизни. Михаил Осоргин так описывал ситуацию с теми гравюрами: «Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами. Догадливый художник-гравер Иван Павлов спешно зарисовывал и резал на дереве исчезавшую красу деревянных домиков. Сегодня рисовал, а в ночь назавтра приходили тени в валенках, трусливые и дерзкие, и, зорко осмотревшись по сторонам и прислушавшись, отрывали доски, начав с забора. Увозили на санках – только бы не наскочить на милицию.
За тенью тень, в шапках с наушниками или повязанные шарфом, в рукавицах с продранными пальцами, работали что есть силы, кто посмелее – захватив и топор. Въедались глубже, разобрав лестницу, сняв с петель дверь. Как муравьи, уносили все, щепочка по щепочке, планка по планке, царапая примятый снег и себя торчащими коваными гвоздями.
Шла по улице дверь, прижимаясь к заборам.
На двух плечах молча плыла балка.
Согнувшись, тащили: бабушка – щепной мусор, здоровый человек – половицу.
И к утру на месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичная труба с лежанкой среди снега, перемешанного со штукатуркой. Исчез деревянный домик. Зато в соседних каменных домах столбиком стоит над крышами благодетельный дымок, – греются люди, варят что-нибудь».
* * *
Вскоре после революции 1917 года здесь расположился Наркоминдел – так до 1946 года называли Министерство иностранных дел СССР. Именно в этом качестве дом вошел в память москвичей. Поговаривали, что нарком Чичерин, получая из Кремля очередной документ с правкой Сталина, созывал в кабинет приближенных и показывал им документ со словами:
– Посмотрите, что нам прислали из шашлычной.
Правда то или нет – неизвестно. Однако же факт, что Чичерин – племянник знаменитого философа, дальний родственник Пушкина и выпускник Петербургского университета очень раздражался, когда его тексты правил Сталин – человек безродный и не получивший толком даже среднего образования.
* * *
А перед входом – памятник Воровскому, одному из первых послереволюционных дипломатов и полномочному представителю РСФСР и УССР в Италии, убитому в Лозанне в 1923 году. Это одна из величайших московских загадок. Памятник поражает москвичей, а также многочисленных приезжих граждан своей более чем невероятной позой.
Описать ее нельзя – такое надо видеть. Полуприсевший на ногах, скрючившийся в пояснице, расставивший в сторону руки, растопыривший пальцы, задравший кверху голову… Нет, все равно описать невозможно. Бесполезны попытки. Одно можно сказать – поза у Воровского ни в коей мере не дипломатическая.
Что случилось? Почему памятник вышел именно таким?
История ответа не дает. Существует всего-навсего несколько версий, шуток и легенд. Вот самая серьезная из них. В скульптурной мастерской было жарко, и поэтому восковая модель значительно осела. Но сроки поджимали, восстанавливать ее не было времени, и памятник сделали «сутулым».
Кто-то уверяет, что, по замыслу автора памятника, дипломат изображен в момент убийства. Кто-то доказывает, что под конец жизни он страдал недугом, искажающим его фигуру, нечто сродни параличу. Некоторые искусствоведы уверяют, что мы видим первый, неудачный, а потому последний памятник-карикатуру. И так далее.
Доходило до того, что памятнику дали кличку «танцующий твист», хотя никакого твиста в это время еще не существовало.
Возможно, что в действительности все обстояло много проще. Не было ни дерзких замыслов карикатуры, ни жары в скульптурной мастерской, ни прочих козней. Просто автор памятника, М. И. Кац не был профессиональным скульптором. Он всего-навсего любительствовал, но, поскольку был одним из лучших друзей Вацлава Воровского, именно ему и поручили выполнить монумент.
Статую торжественно открыли в 1924 году на месте свежеразрушенной Введенской церкви. Наркоминдел Г. В. Чичерин, выступивший на церемонии открытия, сказал: «Этот памятник – продукт самих сотрудников Наркоминдела, увековечивающих память одного из лучших работников нашего комиссариата, советского правительства и нашей партии… Трудящиеся массы Москвы показывают всему миру, что его трагическая гибель была не напрасна, что живет дело, за которое пал товарищ Воровский».
Церемония закончилась «Интернационалом» и парадом «трудящихся Москвы».
Странную позу Вацлава Воровского будто и не заметили.
Простая гимназия
Дом спортивного общества «Динамо» (Большая Лубянка, 12) построен в 1931 году по проекту архитектора И. Фомина.
Напротив, на месте нынешнего здания под номером 12, располагалась одна из московских казенных гимназий. Она носила третий номер и была одной из самых неприметных в городе. Не славилась ни либеральным духом, ни, напротив, чересчур консервативным. Этакий типовой середнячок. Тем интереснее ее история – типичная для большинства гимназий города Москвы, да и России вообще.
Третья московская реальная мужская гимназия была учреждена в 1839 году. Некоторое время помещалась в съемном доме на Солянке, в старом переулке под названием Свиньинский. А в 1843 году арендовали дом на Большей Лубянке, который вскоре удалось выкупить.
Кстати, сам дом был «с историей». Ранее в нем проживал Дмитрий Михайлович Пожарский, знаменитый российский герой времен смуты. Правда, биограф Пожарского П. Максимович писал: «Дом его был на Лубянской улице, в приходе Введений в храм Пресвятой Девы, там, где ныне подворье Макарьевского Желтоводского монастыря и два ближайшие, прикосновенные к оному большие дома, ведущие на Мясницкую».
Но, во всяком случае, преподаватели гимназии не сомневались: именно в этих стенах жил известный русский патриот. Собственно, прав и биограф, и преподаватели. Двор князя Пожарского был обширен и занимал территорию современных владений 12 и 14.
Один из воспитанников, будущий журналист И. Шнейдер вспоминал: «Московская кондитерская фабрика Эйнем выпускала шоколад, в обертку которого вкладывался кусок блестящего картона с многокрасочной репродукцией из серии «Старая Москва». На одной из них был изображен Кузнецкий мост в начале XVII столетия: среди зеленых лужков течет тихая Неглинка. Через нее перекинут деревянный мост, около которого приткнулись две убогие кузницы с пылающими горнами. От моста в гору убегает проселок, облепленный с двух сторон избами и деревянными постройками. И только на самом верху, с левой стороны одиноко высится желтое каменное здание с куполом и флагом над ним. Это дом князя Пожарского. Он простоял столетия, много раз перестраивался, потерял все прежние очертания и сохранил лишь полуподвальный этаж с большими нависшими сводами. В годы моего детства это был большой двухэтажный дом, принадлежавший казенной 3-й гимназии. В таком виде он простоял до революции…
Вся внеклассная жизнь 3-й гимназии кипела «под сводами». Этот термин вошел в быт гимназии, и под сводами» проходила часть дня всех учеников, от приготовишек до восьмиклассников. Туда после звонка, возвещавшего об окончании урока, неслись по железным лестницам с нарастающим гулом и гамом детские и юношеские фигурки в серых форменных костюмах, перетянутых черными поясами с начищенными металлическими пряжками и надписью «М3Г». «Под сводами» проводились большие и малые перемены между уроками, отдельные длинные коридоры там были отведены под гардероб, где рядами висели серые гимназические шинели с серебряными пуговицами и синими петлицами, обшитыми белым кантом. Там же была тайная курилка, и там же за бывшей длинной партой, покрытой чистыми простынями, в большую перемену торговал булочник от Филиппова.
С 3-го класса мы зубрили латынь, с первых классов начинали «русскую историю», переходя потом из года в год на «древнюю», «среднюю» и «новую». Из-за этого в детских головах оседала какая-то историческая каша, так как в первые годы учения мы были убеждены, что сначала была Древняя Русь, затем Греция, Рим, а потом уже Средние века и все остальное. Только позднее все утрясалось в наших вихрастых головах, и мы не удивлялись больше тому, что Иван III слал послов в Европу, которая тогда ведь, как нам казалось, еще не начинала своего существования.
Среди классных надзирателей, ходивших в темно-синих форменных сюртуках с золотыми пуговицами и золотыми же поперечными погонами, был худой и высокий, немного кривоногий, чахоточный и добрый человек с козлиной бородкой, которого мы беззлобно звали за глаза «Козлом». Поймав нас в чем-нибудь, он больно ухватывал костлявыми пальцами руку провинившегося, шипел, делал страшное лицо и таращил большие голубые глаза с кровяными прожилками, а мы улыбались, да и сам он не выдерживал долго своего грозного, как ему казалось, облика. Он прощал нам все».
И все это – как будто осененное славой Пожарского.
* * *
В соответствии с правительственными распоряжениями в Третьей гимназии предусмотрели и так называемые «реальные курсы» – то есть, помимо знаний исключительно теоретических (мертвые языки, история, и прочая, и прочая, и прочая), тут существовали дисциплины и сугубо прикладные – бухгалтерия, механика, коммерческое законоведение. Стране были нужны специалисты.
Дошло до того, что в году в Третьей гимназии был отменен такой, казалось бы, незыблемый предмет, как греческий язык. Вместо него появилось обучение порядку фронтовой службы. Один из выпускников, Г. Б. Ордынский вспоминал: «Для этой цели при гимназии состоял особый унтер-офицер, которому, вместе с надзором за домом и служителями, поручено было обучение фронтовой службе. Ему было назначено 120 рублей серебром в год жалованья. Небольшой садик перед домом гимназии (успевший теперь опять подрасти) обращен был в плац, на котором и производилось фронтовое учение. Я в шутку приводил известные стихи из комедии Грибоедова „…Есть проект…“ и прибавлял к этому, что недаром древние называли поэтов – vates, пророками».
Со временем «военная нагрузка» лишь усилилась. Ратные дисциплины (строевой устав пехотной службы, ротный устав, батальонный устав) постепенно вытеснили русский язык, латынь, немецкий и французский, а также географию, всеобщую историю – словом, все то, что ранее казалось неотъемлемой частью классических гимназий. Поднялся, разумеется, статус военных педагогов. П. Виноградов, автор «Исторического очерка пятидесятилетия Московской III гимназии», сообщал: «Для преподавания наук приглашен был офицер с жалованием по 70 рублей в месяц. (Сначала учил штабс-капитан, потом капитан.) Несмотря на то, что воспитанникам, с успехом прошедшим курс военных наук, предоставлялось право на скорое (через год, а дворянам даже через полгода) производство в офицерский чин, науки эти не привлекали молодых людей: удовлетворительно аттестованы были только два ученика. В феврале 1856 года директор испросил разрешение, ввиду приближающихся экзаменов, обучать военным наукам только желающих. Лишь только это разрешение было дано, тотчас не оказалось ни одного желающего, так что, когда 11 августа 1856 года, после заключения мира, преподавание военных наук в гимназиях и университетах было отменено, в III гимназии de facto его уже не существовало».
Так закончился один из многочисленных экспериментов, поставленных над нашей много чего пережившей за свою историю образовательной системой.
Несмотря на все подобные перипетии, кое для кого эта гимназия была мечтой. В частности, брат Антона Павловича Чехова, Михаил писал в своих воспоминаниях: «Вопрос об продолжении образования моего и сестры с первых же дней нашего поселения в Москве стал для нас довольно остро. Я приехал в Москву уже перешедшим во второй класс, а сестра Маша – в третий. 16 августа началось уже учение, а мы сидели дома, потому что нечем было платить за наше учение. Требовалось за каждого из нас сразу по 25 рублей, а достать их по тогдашним временам не представлялось никакой возможности.
Прошли август и сентябрь, наступили ранние в тот год холода, а мы с сестрой все еще сидели дома. Наконец, это стало казаться опасным. Поговаривали об отдаче меня мальчиком в амбар купца Гаврилова, описанный у Чехова в его повести «Три года»; в амбаре служил племянник моего отца, которому не трудно было составить протекцию, но это приводило меня в ужас. Кончилось тем, что, не сказав никому ни слова, я сам побежал в 3-ю гимназию на Лубянке. Там мне отказали в приеме».
Правда, в тот же день Михаил Павлович пристроился в другое учреждение – в гимназию на Разгуляе. Но факт отказа на Лубянке запомнился ему до конца дней.
* * *
И все-таки в Третьей гимназии, случалось, обучались знаменитости. К примеру, эсер Черепанов, один из организаторов теракта, потрясшего наш город в 1919 году: в Леонтьевском переулке, во время заседания Московского комитета РКП (б) в окно была брошена бомба, взрыв которой погубил двенадцать человек. Поэт В. Ходасевич, тоже обучавшийся в Третьей гимназии, описывал впоследствии эсера Черепанова, да и себя, да и саму гимназию: «Читая… о взрыве в Леонтьевском переулке, я, однако же, был воистину потрясен внезапным открытием: оказалось, что таинственный эсер Черепанов и просто Черепанов Донька, бывший товарищ мой по гимназии, – одно и то же лицо. До тех пор подобное предположение настолько не приходило мне в голову, что, читая в газетах о Черепанове, я ни разу даже не вспомнил о человеке, с которым восемь лет просидел если не на одной скамье, то в одном классе. Изумление мое было так велико, эти два образа до такой степени не сливались, что, несмотря на редкое имя (Черепанова звали Донат Андреевич), – я поверил не сразу…
В московскую 3-ю гимназию… поступили мы с Черепановым в 1896 году. Учился он средне, скорее плохо, чем хорошо, хотя на два года в одном классе ни разу не оставался. Оттого, что я был слаб здоровьем и дома надо мною, что называется, тряслись, я в младших классах был паинькой, очень хорошо учился и дружбу водил с такими же благовоспитанными мальчиками, читателями книг и собирателями бабочек. Черепанов принадлежал к той части класса, которая книг не читала, бабочек не собирала, ходила в сапогах с голенищами (я носил башмаки на пуговицах), ругалась крепкими словами и вообще удивляла меня бытовыми навыками, о которых раньше я не имел понятия. Как сейчас помню я день, когда Черепанов (это было уже классе в четвертом) явился в гимназию с огромным, классическим синяком вокруг запухшего левого глаза, со щеками, по которым шли сверху донизу ярко-красные царапины, и с такими же царапинами на руках. Наш классный наставник, Митрофан Дмитриевич Языков, ахнул, его увидя. На вопрос, что же случилось, Черепанов ответил:
– Опять с кухаркой подрался, Митрофан Дмитриевич.
Чувствовалось, что бой был не первый и не последний, притом – всерьез и на основах внутреннего равенства…
Приблизительно класса с пятого произошла в Черепанове перемена: из замарашки и драчуна он сделался франтом, а затем очень вскоре очутился в кругу молодых людей, к числу которых я прямо не принадлежал, но которых наблюдал очень близко и за которыми – что греха таить – в некотором роде тянулся».
Речь шла о «золотой молодежи», изящно прожигавшей свою жизнь.
Тот же мемуарист оставил красочное описание жизни московских гимназистов-модников за пределами своих учебных заведений на рубеже позапрошлого и прошлого столетий: «Гимназисты… иной раз умели… перещеголять самих лицеистов. Ездить на трамвае, или на конке (тогда еще конки существовали), или на простых извозчиках считалось позором: надобно было брать лихачей. Парадные мундиры считались дурным тоном и пережитком. Зато шили себе поразительные куртки с высокими воротниками, в талию, с боковою застежкою на крючках. Стягивались они широченными ремнями непременно с кожаной пряжкой, а не с форменной бляхой. Брюки делались до того узкие, что длинноносые лакированные штиблеты в них не проходили: надобно было сперва натянуть брюки, потом надевать башками (очередность, которая сегодня ровным счетом никого не удивит, и даже странно, что когда-то было по-другому – АМ). Натягивались они до такой степени, что суконные штрипки не выдерживали: некие братья В-ны ввели в моду штрипки из металлических цепочек. От тугой натяжки брюки суконные вытягивались на коленях – мы стали их шить, как студенты, по диагонали. Черепанов ввел новшество, о котором тотчас заговорили и которое тотчас же переняли: он стал и куртки шить из такой же диагонали. Фуражки делались такие тесные, что могли держаться только на боку, но зато с огромными полями. Малейший ветер уносил их с голов – приходилось пришивать резинку, которая пропускалась по подбородку. Подкладка в фуражке полагалась черная муаровая с большой золотой буквой на левой стороне. Делались, впрочем, подкладки и красные, и голубые, но это уже куда ниже сортом. Вечерами по нашим шинелям городовые нас принимали за офицеров и вытягивались, козыряя, – а потом, поняв ошибку, отплевывались. Ходить в калошах было неприлично. Зимою носили мы серые боты, но лучше было иметь ботинки на байке и ходить без калош. При ходьбе надо было особым образом подшаркивать и волочить ноги меланхолически… Гимназическое начальство на все эти повадки смотрело косо и по мере сил пыталось их преследовать, но мы обретали право свое в борьбе, которую вели даже с некоторым спортивным азартом и соревнованием».
Впрочем, досуги, проходящие за стенами гимназии подчас переплетались с жизнью гимназической и принимали формы очень даже безобразные. Тот же Ходасевич, в частности, описывал одну историю, трагическую и пронзительную: «У нас был учитель: Александр Петрович Ланговой, человек лет тридцати, со средствами, элегантный, не в пример большинству педагогов державшийся вполне светски. Преподавал он греческий язык. Его несчастьем было то, что и нравы у него были слишком уж греческие. Возможно, что незаметное и скучное поприще гимназического учителя избрал он именно по этой причине. Осенью 1901 года, когда мы были в шестом классе, мать восьмиклассника Ж. подала на него жалобу, обвиняя в деяниях, предусмотренных 996 статьей тогдашнего Уложения о наказаниях. Ланговому грозила каторга, но, говорят, и он, в свою очередь, пригрозил, что на суде сделает разоблачение касательно одной особы из высших московских сфер. Дело до суда не довели, а сослали Лангового в административном порядке в Семипалатинск, откуда впоследствии он вернулся и даже занимал какую-то должность в Государственной думе.
На уроках была у него манера подсаживаться на парты к ученикам, обнимать их, что-то нашептывать. Значение всего этого понял я лишь тогда, когда скандал разразился. Обнаружилось, что и в нашем классе у Лангового были любимцы, которых он приглашал к себе на дом. В их числе оказался П., один из… моих приятелей, красивый и умный мальчик, из хорошей, но небогатой семьи, которая все ждала какого-нибудь наследства. Ланговой толкнул П. на прискорбный путь. Вскоре П. стал гулять по Кузнецкому мосту в обществе хромоногого толстяка Х-ва, пожилого господина, постоянно окруженного смазливыми гимназистами, которых он баловал. За Х-вым последовали другие поклонники. В университетскую пору П. сделался одним из виднейших представителей золотой молодежи…
В 1908 году, после каких-то потрясений (он даже покушался на самоубийство), П. захотел изменить образ жизни. Он женился на очень красивой девушке, дочери некого Д., мелкого дельца и в некотором роде домовладельца: ему принадлежал публичный дом в одном из переулков, сбегавших от Сретенки к Цветному бульвару. Тем не менее первое время все шло хорошо, но потом все как-то вдруг соскочило с рельс. И П., и его жена уж очень любили веселую, а главное – шикарную жизнь, на которую средств не было. Появились на сцене разные персонажи: с одной стороны – модный тенор, с другой – стареющая кафешантанная дива с громким титулом королевы бриллиантов и отвратительный грязный старик восточного типа с лысиною, покрытой волосатыми шишками.
Наконец супруги разъехались. Однажды в «Стрельне» они очутились за соседними столиками: она – с богатым меховщиком, он – в другой компании. Собутыльник П., который был уже пьян, стал подтрунивать, указывая ему на жену. П. подошел к ней, вынул револьвер и выстрелил. Она умерла в автомобиле по дороге в больницу. Это было в конце 1911 года.
П-ва судили, процесс был громкий – на всю Россию. Перед судом прошла густая вереница свидетелей – представителей веселящейся Москвы. Тут были фланеры с Петровки, эстетствующие купчики, сомнительные игроки. Один пшют на вопрос председателя «Чем занимаетесь?» – отвечал: «Бываю». – «То есть это что значит? Где бываете?» – «А везде: на скачках, на бегах, в скэттинг-ринге». П-ва защищал присяжный поверенный Измайлов. Со стороны гражданского иска согласился выступить мой брат, хотя я и советовал не делать этого, говоря, что тут настоящее место на скамье подсудимых – свидетелям, а не обвиняемому, выбитому из колеи в слишком ранней юности.
Надо отдать справедливость присяжным заседателям: они это почувствовали и оправдали П. Сенат дважды кассировал дело – и П. еще дважды вышел из здания суда оправданным, но не счастливым».
Вот такие закулисные подробности из жизни «серенькой» Третьей гимназии.
* * *
В начале двадцатого века в той гимназии принялись издавать журнал «Порыв», ясное дело, революционный. В него писал стихи сам Маяковский, правда, тогда еще не знаменитый поэт, а всего лишь тринадцатилетний парнишка. Маяковского зазвал в журнал его приятель, обучавшийся в гимназии, – Сергей Медведев. Владимир Владимирович вспоминал о том опыте: «Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик „Порыв“. Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим „социалистическим достоинством“, бросил вовсе».
Кто бы знал, что именно поэзия, и в том числе лирическая, в конце концов прославит Маяковского на всю планету.
* * *
Кстати, несмотря на революционный пыл лубянских гимназистов, их иной раз использовали для решения задач правительственного значения, и притом довольно специфических. Уже упомянутый Илья Шнейдер писал о событии, случившемся на следующий день после убийства в Кремле великого князя Сергея Александровича: «Наутро в гимназии произошло нечто удивительное: моему классу и другому, еще более младшему, объявили, что занятий не будет, велели всем надеть шинели и выстроиться парами. Затем нам роздали маленькие деревянные лопатки, какими едят мороженое, и повели в Кремль.
Там, поодаль от площади Чудова монастыря, где Каляев бросил бомбу под карету великого князя… мы, согласно полученной инструкции, копали лопатками снег, сохранивший в Кремле свою белизну, и искали разлетевшиеся во все стороны кусочки тела государева дяди. Я нашел один такой кусочек, и потом мне объяснили, что это часть кисти, примыкающая к большому пальцу, та, которую хироманты называют «холмом Венеры».
Тогда говорили, что куски мозга нашли на крыше Окружного суда».
Странное, в общем-то, занятие для юных гимназистов.
* * *
А рядом с гимназией был расположен храм Иоанна Предтечи. Историк А. Ф. Малиновский описывал его так: «Церковь невысокая, простой готической архитектуры, одноглавая; колокольня такая ж, с осьмиугольным верхним ярусом. По надписи на образе Спаса Нерукотворенного, где означен 1337 год, относят первое построение сего храма ко временам великого князя Иоанна Даниловича. Храмовый образ Крестителя подновлен в 1695 году иконописцами священником Иоанном Димитриевым и дьяконом Сергеевым. Евангелие печатанное, 1681 года, внесено вкладчиком стольником Михайлою Никитичем Головиным на поминовение родителей его. Сохранившиеся надгробные надписи означают, что при сей церкви было фамильное кладбище князей Львовых».
Но отыскивать кусочки губернатора было, пожалуй, для гимназистов интереснее, чем отстаивать вечерни в этой славной церкви.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































