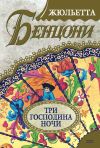Читать книгу "Граф Калиостро"

Автор книги: Алексей Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Алексей Толстой
Граф Калиостро
I
В Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых полосами хлебов и берёзовыми лесками, на высоком берегу реки стояла усадьба Белый Ключ, старинная вотчина князей Тулуповых. Дедовский деревянный дом, расположенный в овражке, был заколочен и запущен. Новый дом с колоннами, в греческом стиле, обращен на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двумя крыльями в парк, где были и озёрца, и островки, и фонтаны.
Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнуться на каменную женщину со стрелой, или на урну с надписью на цоколе: «Присядь под нею и подумай – сколь быстротечно время», или на печальные руины, оплетённые плющом. Дом и парк были окончены постройкою лет пять тому назад, когда владелица Белого Ключа, вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулупова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству перешло к её троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшеву, служившему в то время в Петербурге, в Лейб-компании.
Алексей Алексеевич оставил военную службу и поселился, тихо и уединённо, в Белом Ключе, вместе со своей тёткой, тоже Федяшевой. Нрава он был тихого и мечтательного и ещё очень молод, – ему исполнилось девятнадцать лет. Военную службу он оставил с радостью, так как от шума дворцовых приёмов, полковых попоек, от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у него болел висок и бывало колотьё в сердце.
С тихой радостью Алексей Алексеевич предался уединению среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом смотреть на полевые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под душистой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера, и сам смотрел из окна на живописную эту картину. В зимние вечера он усердно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна раскладывала пасьянс; ветер завывал на высоких чердаках дома; по коридору, скрипя половицами, проходил старичок-истопник и мешал печи.
Так жили они мирно и без волнения. Но скоро Федосья Ивановна стала замечать, что с Алексисом, – так она звала Алексея Алексеевича, – творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рассеянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, что: «Не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями да и жениться, не век же, в самом деле, на меня, старого гриба, смотреть, так ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться…» Куда тут! Алексис даже ногой топнул:
– Довольно, тётушка!.. Нет у меня охоты и не будет погрязнуть в скуке житейской: весь день носить халат да играть в тресет с гостями… На ком же прикажете мне жениться, вот бы хотел послушать?
– У Шахматова князя пять дочерей, – сказала тётушка, – все девы отменные. Да у князя у Патрикеева четырнадцать дочерей… Да у Свиньиных – Сашенька, Машенька, Варенька…
– Ах, тётушка, тётушка, отменными качествами обладают перечисленные вами девицы, но лишь подумать, – вот душа моя запылала страстью, мы соединяемся, и что же: особа, которой перчатка или подвязка должна приводить меня в трепет, особа эта бегает с ключами в амбар, хлопочет в кладовых, а то закажет лапшу и при мне её будет кушать…
– Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алексис?… Да и хотя бы лапшу, – что в ней плохого?…
– Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою печаль, тётушка… Но женщины, способной на это, нет на земле…
Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным взором на стену, где висел большой, во весь рост, портрет красавицы, Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем, со вздохом запахнув китайского рисунка шёлковый халат, набил табаком трубку, сел в кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма.
Но, видимо, он о чём-то проговорился, и тётушка что-то поняла, потому что, с удивлением поглядывая на племянника, она проговорила:
– Если ты человек, – люби человека, а не мечту какую-то бессонную, прости господи…
Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со скукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий телёнок и сосал у другого телёнка ухо. Двор полого спускался к речке, на берегу её в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега; один поднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в этот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и дрожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из берёзового леска, ехал верхом мужик; вот он спустился к броду, – лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить; потом он, распугав гусей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то дворовой девке, тащившей охапку соломы, засмеялся, но, заметив в окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был нарочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за почтой. Он привёз Федосье Ивановне письмо, а барину – пачку книг.
Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич принялся просматривать книги. Внимание его привлекла, в двадцать восьмом выпуске «Экономического магазина», статья о причинах ипохондрии. «Первый несчастный источник ипохондрии есть жестокое и продолжительное любострастие и такие страсти, которые содержат дух в непрерывном печальном положении; человек, обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не чает, ищет уединения, погружается отчасу в глубочайшую печаль, покуда, наконец, нервы желудка и кишек его не придут в изнеможение…»
Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. Итак, его ожидает ипохондрия: страсти, сжигающей его душу, нет выхода.
II
Полгода тому назад Алексей Алексеевич, заканчивая отделку некоторых комнат, посетил в поисках за вещами старый дом. Как сейчас он вспоминает эту минуту. Солнце садилось в морозный закат. По холодеющим полям уже закурилась позёмка. Древняя ворона, каркая, снялась с убранной инеем берёзы и осыпала снегом Алексея Алексеевича, идущего в лисьем тулупчике по дорожке, только что расчищенной в снегу вдоль берега.
На речке, присев у проруби, деревенская девушка черпала воду; подняла вёдра на коромысло и пошла, оглядываясь на барина, круглолицая и чернобровая. На деревне между сугробами зажигался кое-где свет по замёрзшим окошечкам; слышался скрип ворот да ясные в морозном вечере голоса. Унылая и мирная картина.
Алексей Алексеевич, взойдя на крыльцо старого дома, велел отбить дверь и вошёл в комнаты. Здесь всё было покрыто пылью, ветхо и полуразрушено. Казачок, идущий впереди, освещал фонарём то позолоту на стене, то сваленные в углу обломки мебели. Большая крыса перебежала комнату. Всё ценное, очевидно, было унесено из дома. Алексей Алексеевич уже хотел вернуться, но заглянул в низкое, пустое зальце и на стене увидел висевший косо, большой, во весь рост, портрет молодой женщины. Казачок поднял фонарь. Полотно было подёрнуто пылью, но краски свежи, и Алексей Алексеевич разглядел дивной красоты лицо, гладко причёсанные, пудреные волосы, высокие дуги бровей, маленький и страстный рот с приподнятыми уголками и светлое платье, открывавшее до половины девственную грудь. Рука, спокойно лежащая ниже груди, держала указательным и большим пальцем розу.
Алексей Алексеевич догадался, что это портрет покойной княгини Прасковьи Павловны Тулуповой, его троюродной сестры, которую он видал только будучи ребёнком. Портрет сейчас же был унесён в дом и повешен в библиотеке.
Много дней Алексей Алексеевич видел перед собою этот портрет. Читая ли книгу, – он очень любил описания путешествий по диким странам, – или делая заметки в тетради, куря трубку, или просто бродя в бисерных туфлях по навощённому паркету, – Алексей Алексеевич подолгу останавливал взгляд на дивном портрете. Он понемногу наградил это изображение всеми прекрасными качествами доброты, ума и страстности. Он про себя стал называть Прасковью Павловну подругой одиноких часов и вдохновительницей своих мечтаний.
Однажды он увидел её во сне такою же, как на портрете, – неподвижной и надменной, лишь роза в её руке была живой, и он тянулся, чтобы вынуть цветок из пальцев, и не мог. Алексей Алексеевич проснулся с тревожно бьющимся сердцем и горячей головой. С этой ночи он не мог без волнения смотреть на портрет. Образ Прасковьи Павловны овладел его воображением.
III
Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с очками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, сказала:
– Павел Петрович мне пишет…
– Какой Павел Петрович, тётушка?
– Да ты что, Алексис, батюшка мой? Павел Петрович Федяшев, секунд-майор… Так он пишет разные разности, а вот – для тебя: «…Много у нас в Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или, как его называют, – Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, изничтожил внутри его пузырёк воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из медальона тень её покойного мужа, и он с ней говорил и брал её за руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась… Словом, всех чудес не перечесть… Императрица даже склонилась, чтобы призвать его во дворец, но тут случилось препотешное приключение: князь Потёмкин воспылал свирепой страстью к жене графа Феникса, родом чешке, – сам я её не видел, но, рассказывают, – красотка. Потёмкин передавал графу много денег, и ковров, и вещиц; увидав же, что деньгами от него не откупишься, – замыслил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день граф Феникс вместе с женой скрылся из Петербурга в неизвестном направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет…»
Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием и перечёл его сам. Лёгкий румянец выступил у него на скулах.
– Все эти чудеса – проявление непонятной магнетической силы, – сказал он, – если бы мне встретиться с этим человеком… О, если бы только встретиться… – Он заходил по комнате, издавая восклицания. – Я бы нашёл слова умолить его… Пусть бы он произвёл на мне этот опыт… Пусть воплотит всю мечту мою… Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как туман. Не пожалею о ней…
Федосья Ивановна со страхом круглыми, выцветшими глазами глядела на племянника. И действительно, было чего испугаться: Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел в окно на подошедших двух девок с лукошками грибов, не видя ни грибов, ни девок, ни поля, по которому по меже между хлебов закрутился высокий столб пыли и побрёл, вертясь и пугая птиц на придорожной берёзе.
IV
Наутро Алексей Алексеевич проснулся с сильной головной болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели неподвижно на деревьях, – всё застыло, и цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали куры; на скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на северо-востоке, у земли, был тёмный, глухой и жестокий.
В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексеевич оставил его беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась от ломотья в висках, пошёл в библиотеку и раскрыл книгу, но скоро заскучал над нею, взялся было за перо, но, кроме росчерков своего имени, написать ничего не мог.
Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны, но и портрет, как и всё вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице её сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарыдает, если ещё продолжится это состояние необыкновенной отчётливости и грубости всего окружающего. Душа его изнывала от тоски.
Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стёкла и раздались испуганные голоса. Алексей Алексеевич подошёл к окну. Огромная и густая, как ночное небо, туча низко, над самыми полями, ползла на усадьбу. Вода в реке посинела, стала мрачной. Замотались, смялись и легли камыши. Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо, раскидал ветви, погнал по двору кур, распушивших хвосты, закачал деревянный забор, задрал юбку на голову бабе и со всей силой налетел на дом, ворвался в окно, завыл в трубе. В туче появился свет и пробежал извилистыми, ослепляющими корнями от неба до земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами. Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружина в часах на камине.
Алексей Алексеевич стоял у окна, ветер рвал его длинные волосы и развевал полы халата. Вбежавшая тётушка схватила его за руку и оттащила от окна и что-то закричала, но второй более ужасный удар грома заглушил её слова.
Через минуту упали тяжёлые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и запенился о стёкла закрытого окна. Стало совсем темно.
– Алексис, – тётушка всё ещё тяжело дышала, набравшись страха, – говорю тебе: гости к нам приехали.
– Гости? Кто такие?
– Сама не знаю. Карета у них поломалась, и грозы боятся, просятся переночевать.
– Просить, конечно.
– Да уж я распорядилась. Они мокрое снимают. А ты сам-то пошёл бы оделся.
Алексей Алексеевич спохватился и пошёл из библиотеки, но в дверь в это время вскочила Фимка, комнатная девка, простоволосая, в облипшем сарафане:
– Матушка барыня, приезжие-то, провалиться мне, – один из них чёрный, как дьявол.
V
Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь свечи. Настала тишина. Растворили окна и двери в сад, и там в темноте падал несильный, тёплый и отвесный дождь, тихо шумя о листья.
Алексей Алексеевич в шёлковом кафтане, в камзоле, тканном по палевому полю незабудками, при шпаге, завитой и напудренный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужайке, в тех местах, где падал свет, казалась седой. Пахло сыростью и цветами.
Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна правого крыла дома, полукругом уходящего за липы. Там в окнах на спущенных белых занавесях появлялись тени: то мужская, в огромном парике, то женская – изящная, то высокая тень в тюрбане – слуги.
Это и были приезжие. Они давно уже и переоделись, и отдохнули и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алексей Алексеевич отступил от двери в комнату. Вошёл большого роста, совершенно чёрный человек, с глазами, как яичные белки. Он был в длинном малиновом кафтане, перепоясанном шалью, и другая шаль была обмотана у него вокруг головы. Почтительно, но достойно поклонившись, он сказал по-французски, ломанно:
– Господин приветствует вас, сударь, и просит передать, что с отменным удовольствием принимает приглашение отужинать с вами.
Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко подойдя к нему:
– Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему барину?
Слуга со вздохом наклонил голову:
– Не знаю.
– То есть как не знаешь?
– Его имя скрыто от меня.
– Э, братец, да ты, я вижу, плут. Ну, а тебя, по крайней мере, как зовут?
– Маргадон.
– Ты что же, эфиоп?
– Я был рождён в Нубии, – ответил Маргадон, спокойно сверху вниз глядя на Алексея Алексеевича, – при фараоне Аменховирисе взят в плен и продан моему господину.
Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови:
– Что ты мне рассказываешь?… Сколько же тебе лет?
– Более трёх тысяч…
– А вот я скажу твоему барину, чтобы тебя высекли покрепче, – воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румянцем. – Пошёл вон!
Маргадон поклонился так же почтительно и вышел. Алексей Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равновесие, затем подумал и рассмеялся.
Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклоны и представления.
Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огромный, с локонами, парик, какие носили в начале столетия, был неряшливо напудрен. Синий, жёсткого шёлка кафтан расшит золотыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых песцах. Золотом же были вышиты чёрные чулки. На пряжках бархатных башмаков сверкали брильянты, и на каждом пальце коротких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня.
Хриповатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, отойдя на шаг от дамы представил ей Алексея Алексеевича:
– Графиня, – наш хозяин! Сударь, – моя жена!
После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задирая голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданного знакомства. Он предложил ей руку и повёл к столу.
Графиня отвечала односложно и казалась утомлённой и печальной. Но всё же она была необыкновенно хороша собой. Светлые волосы её были причёсаны гладко и просто. Лицо её, скорее лицо ребёнка, чем женщины, казалось прозрачным, – так была нежна и чиста кожа; ресницы скромно опущены над синими глазами, изящный рот немного приоткрыт, – должно быть, она с наслаждением вдыхала свежесть, идущую из сада.
У стола, уставленного холодными и горячими закусками, гостей встретила Федосья Ивановна. По-французски она изъяснялась плохо, приезжие совсем не говорили по-русски, поэтому занимать их пришлось одному Алексею Алексеевичу. Выяснилось, что они едут из Петербурга в Варшаву на долгих, и в дороге уже вторую неделю.
– Прошу великодушно простить меня, – сказал Алексей Алексеевич, – знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя.
– Граф Феникс, – отвечал приезжий, жадно белыми крепкими зубами вонзаясь в курячью носу.
Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке стакан и побелел, стал белее салфетки.
VI
– Так вы и есть знаменитый Калиостро? – спросил Алексей Алексеевич. – О чудесах ваших говорит весь свет.
Феникс поднял косматые, с проседью, брови, налил вина в стакан и опрокинул его в горло не глотая.
– Да, я Калиостро, – сказал он, с удовольствием причмокнув большими губами, – весь мир говорит о моих чудесах. Но происходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знание стихий природы, а именно: огня, воды, земли и воздуха; субстанций природы; то есть твёрдого, жидкого, мягкого и летучего; сил природы: притяжения, отталкивания, движения и покоя; элементов природы, коих тридцать шесть, и, наконец, энергий природы: электрической, магнетической, световой и чувственной. Всё сие подчинено трём началам: знанию, логике и воле, кои заключены вот здесь, – при этом он ударил себя по лбу. Затем положил салфетку и, вынув из камзольного кармана золотую зубочистку, принялся решительно ковырять в зубах.
Алексей Алексеевич глядел на него, как кролик. Ужин кончился, и гости перешли в библиотеку, где, прогоняя вечернюю сырость, пылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не понявшая из разговора, осталась хлопотать в столовой.
Калиостро сел в сафьяновое кресло и, нюхая табак, говорил о том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Графиня опустилась на стульчик близ огня и глядела на пламя, задумавшись. Её руки, скрещенные на коленях, тонули в голубоватом шелку платья.
– Мой друг, доктор философии, умерший в Нюрнберге, в тысяча четыреста… вот проклятая память, – пробормотал Калиостро, стуча пальцами по табакерке, – мой друг, доктор Бомбаст Теофраст Парацельзиус, не раз говаривал мне: жуй, жуй, жуй, – сие есть первая заповедь мудрого: жуй…
Алексей Алексеевич дико взглянул на графа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительность сами собой совместились, слились в его представлении, лишь слегка закружилась голова, но и это сейчас же прошло.
– Я также не раз слыхал, ваше сиятельство, – проговорил Алексей Алексеевич, – что хорошее пищеварение вселяет весёлые мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохондрию. Но есть и другие причины…
– Несомненно, – сказал Калиостро, опуская брови.
– Осмелюсь взять хотя бы в пример себя… Расстройство моих чувств началось вот от этого портрета…
Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза.
Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, написанного во Франции (об этом он узнал от тётушки), и то, как нашёл его в старом дому, и, наконец, все свои чувства и несбыточные желания, какие привели его к ипохондрии.
Во время разговора он взглядывал несколько раз на графиню. Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексеевич, поднявшись с кресла и указывая на портрет, воскликнул:
– Ещё сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мне встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, оживить портрет, а там, – хотя бы это стоило мне жизни…
При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас, она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь.
– Материализация чувственных идей, – проговорил Калиостро, зевая и прикрывая рот рукой, сверкающей перстнями, – одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки… Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочёты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная её непригодность к жизни… Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!