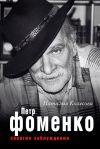Текст книги "Яблоко от яблони"
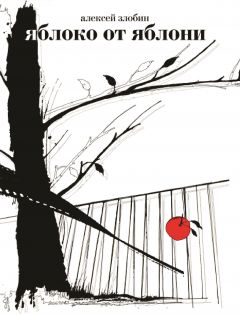
Автор книги: Алексей Злобин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Так и сейчас: слушают его, смеются, ласкают вниманием, восторгаются. Но никто даже случайно не смотрит в сторону Эллы. За сочувствие не погладят по головке. И Худрук от вины все бодрее и добрее, и обаятельней, и остроумней, и действительно уже весело, и все хохочут. А Элла плачет. Так неуместно. Надо бы не выдавать обиды, но, видимо, трудно.
Как «отучиться страдать»?
Он не будет ставить Бергмана. Сказал, что разочаровался во мне, в Бергмане, в пьесе. Поручил искать современную русскую историю на четверых и при этом всучил «Изгнанников» Джойса. Там две героини и восьмилетний мальчик. А в театре на сегодня – ни одной героини, не говоря уже о мальчиках.
19 октября. В этот день каждый год ездили в Царское. Поклон вам всем, друзья мои – филологи и режиссеры. Пишу вам из ссылки…
Сейчас будет прогон первого акта.
Теряю ощущение реальности. Заболеваю психически, теряю свободу.
Больной сон в минувшую ночь. Стою во дворе своего дома. Рушится стена. Дом-скелет. Выходит отец, а я ведь помню, что он не ходит. Стоит и смотрит на меня: «Лёша, мама умерла». Как тревожно. Я ни на минуту не забываю, чем жертвую, находясь здесь. Неужели все это напрасно?!
Пошел на вокзал узнать, когда поезд домой. Боюсь лететь самолетом. Боюсь не вернуться.
Когда я хвостом стал ходить за Худруком, смеяться каждой его шутке, хвалить спектакли, вкрадчиво и молча смотреть в глаза, он сменил гнев на милость. Он пресекает любую попытку общения с кем бы то ни было. Даже Митю попытался очернить. Сказал, что ходят слухи, будто Даша, юная героиня в Бергмане, – моя любовница, и что слухи эти – от Мити. Если есть эти слухи – он же сам их и распустил. Все, кто ушел от него, прокляты и оболганы. С кем бы я ни общался, со всеми стал подозрителен и осторожен – не настучат ли. Вслух говорит, что он гений. Сказал, что вся труппа настроена ко мне враждебно. Он подавляет, я чувствую себя бездарным. Когда сегодня одна актриса сказала, что труппа была мною очарована, что все поверили мне и захотели работать, что я столько раскрыл им и столько дал, показалось, что говорит она о каком-то другом человеке.
Вспоминаю свои репетиции и разбор пьесы, понимаю, что многое было определено и найдено удачно.
– Ищи пьесу на четверых! Бергмана не будет.
Я предложил одно, другое, третье – он все запретил. Его же предложения заведомо обречены. Он не ставит классику, потому что классику трудно извратить, но на второстепенных пьесах доказывает свою изобретательность и гениальность.
Я лишился чувства первоощущения и свободной оценки. Это – потеря самостоятельности.
Я теряю чувство юмора – это впадение в зависимость. Ведь чувство юмора – чувство дистанции.
Я не могу ни строчки сочинить, высказать мнение. Не могу писать писем.
Бей тиранов в самом себе. Во многом я заслужил это. Сколько лет уже черпаю отрицательный опыт:
вот так – нельзя и:
помни о людях.
После четвертой премьеры «Мертвой обезьяны» Худрук пригласил актеров на фуршет.
– Лёша, извини, но мы узким кругом, – и через паузу, во всеуслышание, – можешь позвонить домой из моего кабинета.
Звоню домой:
– Привет, мама…
– Лёша, ты убьешь нас! Двенадцать дней не звонил!
– Не волнуйся, все хорошо.
– Тебя прищучили?
– Тут всех прищучили.
– Бери билет и возвращайся, немедленно!

На те же грабли. Письмо Ирине Евдокимовой

– Алло, Алексей Евгеньевич?
– Слушаю.
– Из Тильзита беспокоят, предлагаем приехать на постановку.
– А что ставить?
– Все, что угодно, только учтите: на все про все у нас семьсот долларов.
– Это гонорар? Маловато…
– Это не гонорар – это весь постановочный бюджет. Но репертуар горит, зрители не ходят, нужна премьера, спасайте!
Абсурдней предложения представить нельзя. Я согласился.
На солнечном февральском перроне Ирина сказала:
– Все будет хорошо.
– Надеюсь, не как в прошлый раз.
– А как в прошлый раз?
Провинциалы любят уголовщину, уж это известно. Больше… делать-то нечего.
А. Н. Островский. Волки и овцы
7 февраля 2003 г.
Ирина,
о чем мы говорили? О первой постановке. А дело было так.
Я сдал Уильямса и предстояло ехать на диплом. Прежде было распределение, но в наши счастливые годы – шиш с маслом, ищите и выкручивайтесь сами. А бывало, профессор Музиль позвонит в любой театр, с ним на том конце навытяжку беседуют:
– Да, Сан Саныч, весь внимание!
– К тебе приедет мой ученик ставить диплом, так уж будь добр, голубчик, чтобы он этот диплом поставил, хорошо?
– Разумеется, не сомневайтесь.
Нам повезло меньше.
Я после Уильямса летел курьерским на всех парах, и видел счастливое режиссерское будущее, и ни в чем не сомневался, и очень хотелось, чтобы скорее. А куда податься?
Отец тогда болел, да он и не стал бы никаких протекций устраивать – не те принципы. Но была у него масса учеников, один из них посоветовал: «Лёша, звони такому-то Худруку, он отцу твоему по гроб жизни обязан».
Папа не без юмора рассказывал о своем ученике, который теперь создал мощный театр в Энске и всякий раз звонит и шлет открытки с поздравлениями:
– Он дико Музилю не понравился, цыган какой-то, а мне понравился. Но профессором был Музиль, и срезал этого мальчонку на первом же туре. А вечером я взял Пьерку (эрдель наш) и пошел по набережной Мойки на прогулку. Вдруг слышу, у схода к воде кто-то плачет. Смотрю – юноша раздевается, собирается топиться. Вы что, говорю, молодой человек, надумали, здесь же мелко и не романтично, не пойти ли вам на Неву? Он ко мне поворачивается – а это утренний мальчик, которого Музиль зарезал: «Идите в табор коровам хвосты крутить, в искусстве вам делать нечего!» Он, как выяснилось, был седьмым сыном в крестьянской семье и действительно все детство за коровами ходил.
– Вылезайте немедленно, идемте чай пить!
На следующее утро отец поймал Музиля в коридоре ЛГИТМиКа и настоял вторично прослушать несчастного. Музиль дал этюд на освоение предметов: несколько вещей в определенной последовательности должны послужить переломными звеньями сюжета. Смотрели его последним, комиссия устала, Музиль был раздражен и делал это исключительно по настоянию и из уважения к Евгению Павловичу. Вышел мальчик и сразу же запутался.
Музиль полугневно взглянул на отца:
– Ну, Женя, видите!
Отец и бровью не повел, но громко и уверенно выкрикнул:
– Стоп, еще раз! Начните с подсвечника, без подготовки – вперед!
Несчастный очнулся, начал импровизировать и блестяще сыграл этюд.
Пять лет он учился, пять лет Музиль его гнобил (сердцу не прикажешь), а отец защищал. Выпустился он блестяще, поехал на Волгу и в двадцать девять стал худруком. Театру присвоили звание Академического, спектакли гремели на всю страну: он первый ставил Булгакова, Цветаеву, неизвестных и полузапрещенных зарубежных авторов. Он был бешеным, с необыкновенно богатой фантазией, с немыслимой сценографической храбростью и удивительным магнетизмом.
Когда я прилетел в Энск, в аэропорту меня встречали с табличкой: «Евгеньевич Злобин» – имя Худрук не запомнил, отчества не забывал никогда. Меня отвезли в гостиницу, в бессонной ночи я в сотый раз жег глаза об инсценировку по «Улыбкам летней ночи» Бергмана. Утром заехал Худрук, отправились в театр. Весь театр выкрашен черной краской, актеры еще не вернулись из отпуска, работали только буфет и Худрук. Роскошный обед, кофе в кабинете, сигареты, сигареты, сигареты – мы не выходили из театра три дня. Он много рассказывал об отце – с благодарностью, и с ненавистью – о Музиле. Я влюбился в этого человека, я был последним светлым пятнышком в его переломанной ужасающим характером жизни.
Через три дня он сделал очень неожиданное предложение, а я допустил ошибку, не позвонив отцу прежде, чем принял решение.
Я бесконечно доверял Худруку, я был неопытен. Еще вспомнил, как Фоменко на первой читке «Рогоносца» в «Сатириконе» сказал: «Эту пьесу Кромелинка ставили всего дважды: Мейерхольд в Москве и один Худрук на Волге – перед обоими снимаю шляпу».
Я был влюблен, да простится мне, и он был искренен, да простится ему. Я согласился отдать ему свою инсценировку. А уже потом позвонил отцу. Вывесили приказ, с югов съехалась труппа, Худрук представил меня и блестяще прочитал пьесу. Потом дал предварительный разбор – ничего общего с моими представлениями, но я уже был «второй», не мне решать.
Параллельно приглашенный из Москвы режиссер ставил пьесу Коуарда «Неугомонный дух». Кто знал тогда, что это будет последняя худруковская постановка в этом театре.
Я начал работать, а он уехал в Киев ставить «Зойкину квартиру». Мы созванивались ежедневно, я подробно рассказывал о репетициях, он что-то советовал, работа шла.
Меня поселили в угловой темной квартире во втором этаже дома неподалеку от вокзала. Пришел Митя, однокашник, которого я устроил в театр, – мой единственный дружок и собеседник. Но потом он предпочитал зазывать в гости меня. Еще была девушка Даша. Мы с Митей выбрали ее среди студентов театрального училища на роль молодой жены старого адвоката. Сложилась такая тройка птенцов – тихие чаепития, прогулки после репетиций.
В отсутствие Худрука шесть актеров, не дожидаясь его возвращения, ушли из театра. Среди них и ведущие, они не были у меня заняты, но общий фон труппы сильно изменился – театр решительно потерял в качестве. Все это мне стало понятно позже. А пока я не мог вообразить, как можно уйти из такого театра, как можно уйти от Худрука?
Еще я очень подружился с замечательно красивой и доброй народной артисткой Валентиной Александровной Федотовой. Она поджидала меня после утренних репетиций, расспрашивала о Питере, об отце, приносила яблоки и помидоры со своего огорода, допоздна засиживалась со мной после вечерних репетиций. Я не любил возвращаться в свою конуру и был очень благодарен ей за заботу. Однажды она сказала:
– Алёша! Уезжайте отсюда поскорее, он вас сожрет, он – убийца. Зачем вам этот некрополь, мы все здесь уже похоронены, а у вас все впереди…
– Но почему?
– Уезжайте, поверьте мне.
Я ей не поверил. И еще:
– Никогда не пейте с Премьером, и вообще, не подходите к нему, не общайтесь.
– Поздно, мы уже с ним выпивали.
Премьер репетировал роль адвоката Эгермана. Это был ведущий артист театра. Однажды на спектакле оборвалась лонжа, он сорвался с шестиметровой высоты – сломал ноги, год не мог вылечить, запил, раны не затягивались – инвалидность и профнепригодность. Он хромал, ходил с палочкой, но репетировал блестяще. Я не знал, что он был любовником Худрука, что был развращен им и сломлен, зависим, доведен до алкоголизма. Я не знал, что когда Григорий Тропинин, профессор училища, ведущий актер театра, свалился с инфарктом, то Худрук с Премьером ночью под окнами больницы, попивая водочку, громко желали Тропинину скорейшей смерти. Я не знал, что замечательная, тонкая, нервная актриса Синицына в истериках билась головой об лестницу, когда Худрук в антракте бенефиса уволил ее из театра. Она месяц приходила в себя в нервной клинике и потом уехала в Израиль. Я не знал многого и не понимал, что страшного в том, что однажды ночью ко мне в кабинет пришел Премьер с водкой и мы выпивали. А Худрук узнал об этом сразу по приезде. Ему донес… Премьер.
Шли репетиции, артисты баловали меня вниманием и искренней благодарностью. У Худрука в Киеве поспела «Зойкина квартира». За ним из театра послали машину – не хотел тратить деньги из гонорара на обратную дорогу. На банкете Худрук не пил, но просил меня выпивать со всеми, кто желал его поздравить. Позже я узнал – он был зашитым алкоголиком. Последнее воспоминание о Киеве – быстро поплывшее звездное небо, и я падаю на крыльцо служебного входа. Меня положили на сцене, укрыли кулисой, а через два часа погрузили в машину – возвращаемся.
По приезде – снова банкет: открытие сезона. Актеры собрались в буфете, Худрук не пил. Артист Честнов поднял тост:
– Дорогой наш Художественный руководитель, я хочу сказать вам, и, думаю, многие меня поддержат, огромное спасибо за то солнышко, которое вы нам подарили. Спасибо вам за Лёшу!
И вот тут я все понял, вернее, почувствовал, взглянув на перекошенное лицо Худрука: все бури хмуро пронеслись предвестьем новых – настоящих. Зачем Честнов это сказал? Я не знал, но он-то знал! Наутро Худрук объявил читку Бергмана. И начал громить со второй строчки, напрочь, в пух и прах.
– Не отчаивайся, – сказал он, когда разошлись обалдевшие от погрома артисты, – со всяким бывает – ты ошибся.
Да, я ошибся. Через два дня, перед репетицией «Неугомонного духа» (режиссера из Москвы он выгнал, Бергмана остановил, меня назначил ассистентом на совершенно ненужную и чужую мне работу) я посмотрел в зеркало и увидел – лицо черное! Просто черное измученное лицо. Хватит, сегодня же уезжаю!
В тот день пришло письмо от отца. Он в инсульте одним пальцем настучал на машинке слова поддержки с довольно точным пониманием ситуации, – я же ничего родителям не говорил, терпел, мне было стыдно, думал: «Сам виноват». И решил остаться, дотянуть хотя бы до этой злосчастной премьеры «Неугомонного духа».
А Худрук мстил оставшимся артистам за ушедших. Он орал на женщин, материл:
– Ну что, дура, ноги раскорячила – по сцене ходить не умеешь! Сядь в кресло и отвернись – видеть тебя не хочу.
Я сидел рядом и молча умирал, изредка курил.
– В зале может курить только режиссер!
– Хорошо, я выйду в коридор.
Вышел. За кулисами плакала обруганная актриса.
– Люба, успокойтесь. Послушайте: в этой сцене вы хотите примирения. Как бы вы ни скандалили с партнером, ни корили его за измену и пьянство – вы хотите примирения, понимаете?
– Да, да, – рыдала она, – и, кажется, поняла.
– Интересно, что это у тебя вдруг стало получаться? Послушала молодого режиссера – и поперло?! Если вы, Алексей Евгеньевич, еще раз пойдете в коридор курить, то можете сразу ехать домой.
– Я понял, спасибо.
В перерыве в буфете я спросил Худрука:
– Бергман будет репетироваться?
– Нет, я не буду ставить Бергмана, хочешь – ставь сам.
– Как это, ставь сам? Я месяц разрабатывал ваше решение, что я теперь скажу артистам – забудьте месяц работы?
– Дело твое. А Бергман – говно. Я посмотрел вчера по видео «Шепоты и крики» – говно Бергман.
«Шепоты и крики» – гениальный фильм. Бергман так увидел женщину, с такой любовью… Впрочем, именно в любви все дело.
– Что ж, по-вашему, и Брук – говно?
– И Брук говно, и Стреллер говно, и Бергман твой говно, и ты – говно! – Худрук вышел из буфета, хлопнув дверью.
Что ж, лучшего комплимента в своей жизни я не получал.
А в театре разрасталась беда: юная Даша влюбилась в Премьера. Посмотрела его на сцене в монологе из «Бесов» и – тю-тю. Прежде мы всегда уходили втроем из театра – я, Митя и Даша. А тут она стоит на служебке, и глаза у нее белые, шальные. И я понял, почувствовал – что волочь ее за косу на холодный воздух бессмысленно.
До премьеры «Неугомонного духа» оставалось три дня. Я позвонил домой: «Бросай все и приезжай!» – сказала мама.
Я занял у Мити денег и взял билет на день премьеры. Но кое-что еще хотелось успеть.
Это был день рождения Венички Ерофеева, я пошел помянуть его в ближайший шалман. Там торчал Премьер и глушил водку. Я присоседился. Некоторое время выпивали молча, не глядя в глаза друг другу. Он не выдержал:
– Алексей Евгеньевич, зачем вы…
– Что?
– Зачем вы со мной выпиваете?
– А почему бы нам с тобой не выпить?
– Ведь настучат, – он оглянулся по сторонам.
Я тоже оглянулся – никого, кроме нас, в шалмане не было.
– Пусть стучат. Давай еще по одной!
– Меня в машине Худрук ждет.
– Пойди скажи, что ты останешься.
И он пошел и сказал, а я ждал в скверике у театра. Видел, как от служебного входа отъехала машина, как хромающий Премьер остановился под фонарем и махнул мне рукой.
– Загудим, а? Но прежде я отлить хочу, пойдем.
И он, схватив меня за руку, потащил через вахту в театр. Вахтер тут же поднял трубку и стал звонить – понятно кому. А радостный Премьер поднялся на третий этаж, подошел к оббитой кожей двери Худрука, расстегнул штаны и стал мочиться, ухмыляясь мигавшему красному индикатору камеры видеонаблюдения.
Потом мы поехали на рынок за цветами, он собирался навестить Дашу, думал, я не пойду с ним. А я пошел.
Она открыла, вся в голубеньком, причесанная, улыбка скисла в секунду.
– Привет, Даша.
– Привет, Ле… Алексей Евгеньевич…
– Ну что – будем на пороге стоять?
Пили водку, пели под гитару. Я ушел. А на следующий день он сдал Дашу Худруку. Видимо, боялся, что я настучу. Или просто, по подлости натуры, хотел поразвлечь приятеля. И Дашу, конечно, погнали из театра. Вечером премьера, банкет. Пили все, я тоже, и после пошел в чей-то дом и снова пил – завтра предстояло уезжать.
Кто-то из артистов провожал меня под утро. Шел легкий снег, начиналась зима, заканчивалась моя ссылка. Я лег спать в рассветных сумерках и замер.
Проснулся от стука в дверь. А ведь и не знал, что звонок не работает. Стучат.
Это была Даша.
– Ты видел – на окне цветок расцвел, роза белая…
– Я и не знал, что там цветок, и не поливал никогда. Значит, жизнь налаживается, дом вздохнул.
Вздохнула и Даша. Она искала какие-то слова, ей было тяжело, хотелось, чтобы кто-то был виноват в ее горе. Я знал, что я соучастник, но мне было покойно и тепло – горячий кофе, утро, рядом женщина, пусть и несчастная.
– Зачем ты с ним пришел?
Я молчу. Она же знает, что от ответа ничего не изменится. Смотрю на нее:
– Даш, а ты – крещеная?
– Нет.
– Выйди в кухню, я оденусь.
В храме косматый поп кропил прихожан. Заканчивалась служба. Я подошел к свечнице:
– Крестины сколько стоят?
– Десять рублей.
– Вот пять, остальное – на Страшном суде.
В купели плавали кусочки воска с чьими-то волосами от пострига, поп неразборчиво лепетал, Даша дрожала. Зная службу, я не понимал ни слова, так он бубнил.
– А что теперь? – спросила Даша.
– Он тебе все расскажет, – поп ткнул в меня пальцем и вышел.
Дорога к ее дому вела мимо театра. Шли молча.
– А что теперь? – снова спросила она.
– Теперь, Даша, за тебя легионы ангелов чертям морды бьют.
Она улыбнулась.
Вечером в театре Валентина Александровна Федотова обняла меня:
– Не вернешься ведь уже?
– Посмотрим.
Даша с Митей стояли на перроне.
– Береги ее, Митя, чтоб в окно не прыгнула!
– Не дрейфь, Злобин, – второй этаж, внизу кусты сирени!
И я уехал.
Через месяц Худрука сняли. Директор сплел интригу, призвал министерство, голосовало больше ста человек, из них двадцать восемь артистов – все, кто остался. Судьбу Худрука решали бухгалтеры, шоферы, кассиры, распространители билетов…
– А вы, Митя, почему не голосуете?
– А не вы меня в театр брали. Я ведь к Худруку пришел, а не к вам, господин Директор, – понятно?
Мите потом припомнили эти слова.
У Даши все обошлось. Удалось даже доучиться, где теперь служит – не знаю.
Отец сказал: «Видимо, мой ученик сошел с ума. Не расстраивайся, это – только начало».
Дальнейшая судьба Худрука ужасна. Он поехал в Москву. В Театре Станиславского у него на репетиции умерла актриса. Потом он ставил какую-то чернуху к юбилею МХАТа, завалил весь театр чучелами птиц, потратил громадный бюджет, плел интриги – записывал в блокнотик, кто с кем как и когда, но все путал и был не понят. Спектакль сняли после трех представлений, артисты послали ему телеграмму: «БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ТЧК ВАШ МХАТ». Через год у него умерла дочь – от передозировки наркотиками. В Одессе при постановке «Цены» Артура Миллера он вывел на сцене призрак умершей дочери Соломона. Там тоже не обошлось без травм и переломов судеб. Где он теперь? Слухи доходят, и все мерзкие.
А на меня опыт постановки диплома повлиял так, что я решил завязать с профессией. Помню тот день, спустя три месяца по возвращении из Энска, конец января 97-го. Лежу на диване и думаю: «Зачем все это? Надо менять жизнь! Прощай, режиссура!» В ту же минуту, будучи уверен, что жизнь кардинально изменилась, поехал к друзьям-художникам отмечать перемену. Отметили, кое-как добрался домой, ключом в замок не попасть, звоню. Открывает мама и с порога сообщает:
– Лёша, звонил Голиков – тебе присвоили именную стипендию Мейерхольда, срочно звони ему!
– Кому, Мейерхольду?
Я сел на пороге и грубо выматерился, после чего позвонил мастеру:
– Да, Вадим Сергеевич, что за дурацкий розыгрыш?!
Мягкий баритон Вадима Сергеевича перебивался еле сдерживаемым хохотком:
– Я, как вы понимаете, ни при чем. Ректор сообщил, что на кафедре приняли решение присвоить вам стипендию Мейерхольда. Это очень почетно, раз в год премируют одного из режиссеров. Кафедру возглавлял Фильштинский, помните, он хотел вам на третьем курсе «пару» влепить, ха-ха, а потом отстаивал вашего Уильямса. Вот за Уильямса вам и «привет» от Мейерхольда. Поклон отцу, порадуйте Женю!
В дальней комнате на кровати сидел отец:
– Папа, ты представляешь?..
Папа сиял! Он уже полгода не улыбался, был крайне замкнут, а тут вдруг:
– Сынок, дорогой, я тебя поздравляю, я счастлив, я горд за тебя!
Потом была Москва, Брюсов переулок, в квартире Всеволода Мейерхольда торжественно вручили сертификат и чек на годовую выплату стипендии, потом банкет в ресторане: госпожа Режиссура подмигнула, не приняв моего отказа.
Я все думал, зачем такой зигзаг, такой контраст и перемена участи в один день? И я прекрасно знал ответ: порадовать отца напоследок – больше незачем.
В феврале его не стало.
Я побежал за священником, а храм закрыт. Вернулся, отца уже не было. Он ушел один, без моей руки, без моего присутствия, один.
А осенью позвонил мой сосед, актер Петр Семак:
– Лёшка! Тебя разыскивает Главреж.
– Главреж?
– Новый худрук Энского Академического. Жди звонка.
Через час я услышал:
– Алексей, мне бы хотелось загладить несправедливость нашего театра перед Петербургом, есть предложение…
Позади уже были съемки у Сорокина и Сокурова, первый опыт ассистентства – я причастился кино.
Умер отец, похоронили Ваню Воропаева (мужа актрисы, с которой я хотел восстановить Уильямса, – все рухнуло), умер двадцатичетырехлетний Володя Митрофанов – однокурсник Мити, Вадим Данилевский – однокашник, с кем вместе преподавали на актерском курсе.
Шла бесконечная холодная бездельная осень. И звонок Главрежа был нечаянной радостью: наконец-то я мог защитить диплом. Предложили ставить что угодно, предпочтительно с женским распределением. Но у театра изменились задачи, мэрия выделила бюджет на новогоднюю сказку, которую никто в этом морге ставить не хотел. А бюджет требовалось «освоить». Так выдалась перспектива сочинить волшебное и праздничное зрелище.
Въезжал на коне, уезжать пришлось, выволакивая коня на своем горбу. Не забуду, как при встрече улыбались съевший Худрука Директор и Главреж – выпускник нашей alma mater, казалось бы, «свой». Прослушав музыку к спектаклю, я сказал, что музыка будет другая. Мне ответили, что я ошибаюсь. Следовало тут же развернуться и уехать.
А меня еще и обсыпало всего. Местные врачи решили: «аллергия». Я таскался между репетициями к эндокринологам, аллергологам и прочим спецам – не помогло. Ночью перед сном таблетку тавегила запивал стаканом водки – это позволяло спать несколько часов. Потом все начинало зудеть, я просыпался в кошмаре, голова гудела. Приходил в театр, наглухо закрытый от горла до пят – никаких рукопожатий, объятий – чудовищный тактильный голод.
Собрал за две недели спектакль, после просмотра Директор с Главрежем, пригласили в кабинет. Обошлись хорошо – с вином и конфетами: «Главреж будет „помогать“». Это значит – меня «сожрали».
Артисты, понятное дело, тут же впали в обструкцию – ничего не попишешь, им здесь жить. Митя все время был рядом, поддерживал, но чем он мог помочь?
А накануне из Москвы в Энский ТЮЗ на юбилей своего спектакля приехал Фоменко. Я попросил Главрежа перенести вечернюю репетицию и пригласил всех на встречу с московским режиссером:
– Вы в своем уме, Алексей Евгеньевич? У вас премьера через неделю!
– Но поверьте, это будет полезнее, это поднимет настроение, даст дополнительные творческие силы!
– И не думайте.
Утренняя репетиция прошла ужасно, а вечерняя обещала быть для меня последней. Когда труппа узнала, что Главреж взялся курировать выпуск спектакля, начался дурдом. Шел прогон первого акта с остановками на танцевальных номерах. Балетмейстера не было. Я предлагал какие-то малоубедительные варианты, и страшно вспомнить рьяную отзывчивость, с какой артисты пытались их воплотить. Троица недавних приятелей, кто еще при Худруке выражал мне сердечность и участие, хамски дрыгалась: «Вот тебе, вот тебе, дорогой бездарь-дебютант! Мы-то спляшем, а придет Главреж, и, надеемся, тебя здесь уже не будет!» – холодок абсурда веял от этой пляски. Еле дождавшись окончания репетиции, я вылетел из театра на воздух, уже не предполагая, что вечером вернусь.
Мы шли с Митей, молчали.
Зашли в храм, я раскрыл наугад Библию, там были слова какого-то пророка: «Иди к ним и не бойся их, ибо они племя мятежное и не имеют корня» – лыко в строку. И мы пошли к этому мятежному племени. Вдруг видим: возле гостиницы на углу стоит Фоменко.
– Здравствуйте, Петр Наумович!
– Здравствуй, Лёша Злобин.
– Знакомьтесь, это Митя… А я здесь ставлю диплом.
– И как?
– Отлично: артисты достали ножи и вилки, заправили салфетки за воротники и ждут меня к торжественному ужину.
– Не волнуйся, все будет хорошо. Давай деньжат подкину, голодаешь, наверное?
Что я мог ответить, хотелось ткнуться ему в плечо и зареветь. А он меня обнял, перекрестил:
– Держись, вечером забегай на рюмку – погреемся.
Вдохновленный этой встречей, дверь в театр я открыл пинком. Все дело в том, что ад не имеет пространства. Так называемые жизненные обстоятельства сужают круги, сжимаются у горла. И вот ты уже вертишься, как блоха на игле, – обстоятельства обставили – не дернешься. «Обстоятельства жизни», – наивно думал ты, ни фига подобного – обстоятельства смерти, а жизнь – это всегда простор, воздух, полет. Встретив Фоменко, я разом понял: эти обстоятельства – вранье! Вспомнил друзей, семью, вспомнил, что я здесь временно – что это только мгновение моей жизни. Ничьей другой – моей. И что страдать, как говорил отец, – пошло. И кого-то винить – пошло. Не надо быть пошляком. В любом стеснении, в любых чертовых обстоятельствах надо помнить, что твой мир несжимаем, что его невозможно украсть, он – твой. Главное, чтобы ты сам его не предал.
Я вошел в репзал, в густую чвакающую решимость меня проглотить. Вот сидят они, сгрудившись в зрительских рядах, созревшие к забастовке. Я беру стул, ставлю на подмостки, сажусь против них – не правда ли, забавная мизансцена? Вот-вот, кажется, они протянут руки и опустят большие пальцы напряженных кулаков – смерть гладиатору! Смешно.
– Господа! У кого есть замечания, предложения, пожелания? Вот, например, вы, Олег!
Неожиданно в ответ – молчание.
– А вы, Наташа?
– Я, Алексей Евгеньевич… – помычала и смолкла.
– Игорь?
Тишина.
Боже мой, как банально – «разделяй и властвуй»! За всем их свирепым «мы» нет ни одного «я». Поглядывают друг на друга, в глазах вопрос – забыли, чего хотели, потеряли слова, сдулись. Я крепко окопался на их территории и веду прицельный огонь. А им-то каково в зрительном зале? Чужая земля, им здесь непривычно.
– Итак, друзья, – вопросов нет, замечаний нет, пожеланий нет. Тогда давайте репетировать – прошу на сцену!
«Мятежное племя» хлынуло на подмостки, взахлеб самозабвенно прогнало первый акт. В конце репетиции мы быстро и уверенно вчерне собрали второй.
– Молодцы, спасибо! Всем большой привет от Петра Фоменко, он желает нам удачи!
До премьеры оставалась неделя – как раз Главрежу на переделки.
Я слонялся ночами из угла в угол по пустой квартире и с тоской глядел на календарь. Последние репетиции, изнасилованный бессонницей, болезнью и тавегилом, бредил: «Лёша, держись, – ты должен дотянуть. Но почему так трудно, так болезненно, так унизительно? Хочу домой, хочу к своим, хочу вылечиться!»
На премьере, с видеокамерой на плече, я упал в обморок.
До поезда оставалось несколько часов.
За постановку мне не заплатили: «Через месяц-другой…» – расплылся в улыбке Директор.
В Питере сразу поставили диагноз:
– Чесотка, подхватили в поезде, скорее всего. И все жутко запущено, что ж вам там простой соскоб сделать не могли?
– В Энске просто не бывает, – грустно пошутил я.
Я стал слышать кожей. На вечеринке подсела знакомая, принялась щебетать. Я замер, ловя обертоны. Телу казалось, будто его гладят. Тело не касалось никого уже три месяца и гудело, как засуха в степи.
Не было денег на лекарства, не было сил искать работу. Я позвонил Директору, он, по своему обыкновению, расплылся в улыбке и пообещал, что если буду их беспокоить, то запросто могу «не защитить» диплом – пошлют в институт разгромную характеристику. Я был в отчаянии. Собирал бутылки, чтобы покупать пельмени, от которых уже тошнило.
И тогда режиссер Михаил Богин привел меня к Герману. А хорошая знакомая показала хорошему врачу, тот за неделю избавил от радости слышать кожей.
За диплом поставили «отлично». Накануне в питерском СТД я снова встретил Фоменко:
– Поставил диплом?
– Поставил.
– Доволен?
– Не очень.
– А ты не жалуйся, кому сейчас легко?
И на защите я рта не успел раскрыть, председатель комиссии улыбается:
– Знаем, знаем! Хороший поставили спектакль. И Петр Наумович хвалил. Вы-то сами довольны?
– Я-то? Не очень.
– Ну вот и отлично, ставим вам пятерку. Успехов!
В кармане пиджака я сжимал когда-то при поступлении в ЛГИТМиК подаренный отцом ключ.
Вот я и закончил, папа.
Папа!
Тишина.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?