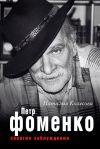Текст книги "Яблоко от яблони"
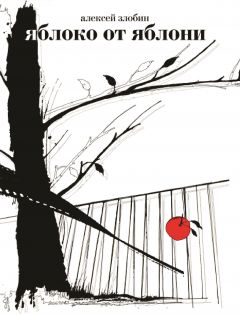
Автор книги: Алексей Злобин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Алексей Герман. Псков, 1950-е годы.
Фото Евгения Злобина


Первая проба Леонида Ярмольника (ассистенты Илья Макаров и Алексей Злобин)

Кирилл Черноземов



Зима в Арканаре – первый кадр картины






Раб и ученик – Алексей Злобин

Персонаж и педагог – Вадим Голиков (последнее фото)


Меня любить – это не профессия

Белая ярость и черный восторг
Это – моя жизнь…
Федерико Феллини
Это мои сны!
Алексей Герман

– А знаете, что значит «Герман»? Герр – Господь, Манн – человек. То есть Божий человек. И отчество свое я менял, когда поступал в институт, чтобы не по блату получилось…
Я тоже Алексей, и с моим происхождением не все просто. Отец, усыновивший меня режиссер Евгений Злобин, и Алексей Герман были однокурсниками.
Однажды в Доме кино на премьере «Мании Жизели», где Герман играл небольшой, но яркий эпизод, я подошел:
– Здравствуйте, Алексей Юрьевич, я Лёша Злобин, Евгеньевич. Если бы отец знал, что я вас встречу, наверное, передал бы вам привет.
– Да? А ты совсем не похож на Женю.
Это еще не было знакомством, эта первая встреча…
– Герман – такую фамилию давали подкидышам.
Мы с Ириной в Риме. Неподалеку от собора Святого Петра. В переулках вдоль Тибра огромное здание красного кирпича – старинный госпиталь, бывший дом сирот. У ворот вертушка, барабан, такая маленькая карусель: полкруга на улице, а полкруга – за стеной дома, и окошко. На этот барабан клали младенцев: бросят сверток, крутанут, и младенец оказывается внутри. Только что был в мире, римский гражданин, а повернулось колесо – сирота. Когда Рим осадили ландскнехты, они в этот дом ворвались, и младенцы начали орать. Это ландскнехтов страшно разозлило, еще бы: тут же захлопнулись ворота Ватикана и опустились тяжелые решетки на Ангеловом замке, высыпала на защиту понтифика швейцарская стража – так орали младенцы, весь Рим переполошили. И рассвирепевшие ландскнехты принялись швырять их в Тибр. А потом уже перебили всю швейцарскую стражу у passetto – длинной стены с галереей, по которой в белой ночнушке бежал в Ангелов замок папа римский. Какой-то последний швейцарец или секретарь успел набросить на него черный плащ, чтобы папа не был явной мишенью для арбалетчиков.
Понтифик спасся, а всех младенцев перебили, они не были гражданами Рима – подкидыши, Божьи люди.
Белая ярость и черный восторг. Первое – Герман, второе – Фома.
Алексею Юрьевичу порой так заохотится отпустить волюшку, что весь он изойдет и в упоении отпустит себя – это белая ярость. А Фома, удары жизни получая, все твердит: «Еще давай, еще!» – это черный восторг. Оба выражения – авторские.
«Гениальный эгоизм этого человека…» – сказал Фоменко о Германе. Они были знакомы, но не близки. «Гениальный эгоизм» – это все же больше о бескомпромиссности и максимализме художника, а не о личности – не о порядочности и не о милосердии. Когда к Герману на озвучание пришли артисты из Театра Комедии, где одно время главрежил Петр Наумович, Герман спросил:
– Господа, а кто из вас подписывал письмо против Фоменко, когда его выгоняли из Ленинграда?
Оказалось – все. И Герман прогнал их с озвучания: «Честь имею попрощаться».
А когда у ассистента Татьяны Комаровой машина сбила сына и срочно потребовалась сложная дорогостоящая операция – деньги на спасение Лени Комарова дал Герман.
Герман и Фоменко во многом определили мою жизнь, по крайней мере, в режиссерской работе: Фоменко – в театре, Герман – в кино. Или наоборот. В процессе диффузии трудно сказать, кто на кого влияет. Герману в Доме кино я передал привет от отца, а Фоменко тогда же передал книжку стихов.

Verweile doch – остановись, мгновенье!

Эхом надрывного вороньего крика в девять утра раздается звонок.
Беру трубку, узнаю о случившемся:
– Спасибо…
Замедленное ви́дение в шоковой ситуации – скорее всего, работа памяти. Мгновенный фотоснимок доносит детали постфактум. Все знаменитые и затертые образы: «Он видел летящую в него пулю, медленный взрыв» – все это, мне кажется, ретроспективное воспроизведение. Как и главное кино – жизнь, что проносится за секунду в миг катастрофы.
Есть бешеная скорость внимания. Животные, инстинктивные реакции быстрее и точнее осознаваемых. И оценка – явление скорее физическое и рефлекторное. Иначе все построение «жизни роли» – ложь. Гораздо важнее обратить внимание на спину, кисть руки, мышцы ног, а уж потом предполагать, что герой «подумал» в той или иной оценке. Как прав Герман, говоря, что в кино оценок не существует: найди физическое движение (через что), заставь актера (любым способом, только не относящимся к происходящему) быть полным; а уже содержание оценки – в монтаже и зрителе.
И как прав Фоменко, искавший суть театрального процесса не в оценке, а в интонации.
Снилось, что мучительно уходит время, и я плачу во сне.
Беру трубку, узнаю о случившемся:
– Спасибо…
…и кладу трубку.
Nihil —
Ничего.
Финальные титры большой картины
шрифтом без засечек, за никем – никто,
в тишине проходят, необратимы,
бледные лица, черные пальто.
Белые шарики спортлото.
Кадры-оборванцы, неудачи, пробы,
склеенные наспех, не переснять,
мельтешат, роятся у клумбы гроба,
время залежалое прут, теснят.
Где-то Вы сейчас – в поиске, в отпуске?
Ночь в проекционной и в зале темно,
Но сквозь мутные слезы вымыслы-отпрыски,
Лучатся-просятся в большое кино.
Холодком повеяло, оглядываюсь: Здрассте ж!
И, не попрощавшись, тайком иду —
ворота павильона распахнуты настежь —
съемочная группа дымит в саду…
…а ветер надрывается: «Еще дубль».

Герман, человек божий. Дневник ассистента на площадке

Испытательный срок

19 февраля 2013 года прилетел на съемки в Одессу. Подходя к отелю, увидел афишу: «22 февраля… Герман». Почему-то на афише было женское лицо. Подойдя ближе, прочел: состоится концерт памяти знаменитой певицы, 22-го – в годовщину смерти моего отца.
21 февраля ранним утром – телефонный звонок: умер Герман.
Любой разговор может оказаться последним.
Помнить об этом не так уж важно.
Иначе все зафиксируешь, а ничего не поймешь.
Память все равно не архив, она – редактор.
Воспроизведение – произведение, творческий акт – вряд ли это имеет отношение к реальности в смысле документальном.
Но к реальности как сущности, отбору живого и движущего, безусловно, имеет.
Стало быть, последний разговор – всегда сейчас. Он не конечный, он идет по следу.
Как увлеченная собака – его бессмысленно окликать, править, за ним надо стараться успеть.
Хотя куда приведет след – неизвестно: возможно, к добыче, а возможно, и к самому охотнику – мало ли, собака-память взяла его след.
С Германом на картине «Трудно быть богом», она же «Что сказал табачник с Табачной улицы», она же «Хроника Арканарской резни» я работал четырежды. И четырежды расставался. Каждый раз это было навсегда, на разрыв, вряд ли в списке его сотрудников встретится еще пример такого верного изменника.
Четвертый акт сотрудничества был самым непродолжительным – меньше месяца. Он позвал на озвучание, я бросил все и пошел.
Фрагмент дневника
14 октября 2010 г., четверг
Как только в кошельке вновь завелся ленфильмовский пропуск с пометкой «Трудно быть богом», исчезли деньги. Иду Цветным бульваром, вижу у церетелиевского клоуна напротив цирка толпу машущих руками людей. Они всегда здесь собираются по четвергам. Приносят еду, выпивку, рассаживаются по скамейкам и болтают, болтают, бесшумно напиваясь. Потом расходятся – глухонемые. А мимо шумно проносятся из рассосавшихся пробок вечерние московские машины. Зачем-то все же нужен этот Церетели, если его скульптура – их место встречи. Позвонила девочка по поручению Германа и Извекова с полномочиями старой графини, посулившей кое-кому три карты: «Я пришла против своей воли», она так примерно и начала:
– Я звоню по поручению, простите, мне очень неловко, но передаю дословно: «Испытательный срок закончен, на работу можно не выходить».
Я захлебнулся обидой, недоумевал: а что, собственно, было испытательным сроком? Месяц сидения на озвучании в тон-ателье?
Но, видимо, попадающие в душу слова доходят не сразу – слишком уж мощный заряд.
Испытательный срок – это тринадцать лет инициации, возмужания в профессии, четыре акта самой интересной для меня пьесы.
Срок закончен – Герман ушел.
Но наш последний разговор не был последним.
Собака-память прижала уши, вся вытянулась – вот-вот рванет.
За четвертым актом последует пятый.
А потом еще поклоны – когда мертвые встанут и выйдут в разрыв занавеса на авансцену – посмотреть на нас.
Жаль, что в кино так не бывает.
Петр Наумович Фоменко как-то ответил восторженному интервьюеру:
– Послушайте, режиссер, который говорит о своей работе: «Я в моем творчестве», – индюк. Он, по режиссерской слабости к красному словцу, подхватил эту фразу у критиков и наивно поверил.
Когда 24 февраля 2013 года в павильоне «Ленфильма» провожали Германа, много говорилось «великий режиссер», «последний из могикан», «невосполнимая потеря для нашего и мирового кинематографа» – все это верно, ибо хоть как-то выражало масштаб потери тех, кто это говорил. Но было несколько неловко, ибо самому Алексею Юрьевичу это не шло. И весь помпезный смертный антураж казался нелепостью.
Среди своих, близко знавших Германа, я не раз слышал шутливое определение «великий и ужасный» – это всегда сопровождалось улыбкой и предшествовало какому-нибудь забавному и дорогому сердцу рассказчика «семейному преданию» о Германе.
Как-то на съемочной площадке Алексей Юрьевич, по своему обыкновению, бушевал: что-то было не готово или сделано не так – не важно. Земля дрожала, воздух плавился, небеса мрачнели. К Герману подошла Н., крошка-реквизитор, – круглая, лопоухая и всегда чуть поддатая. Она ткнулась Герману в живот, устремила на него раскосый взгляд и, старательно выговаривая согласные, произнесла:
– Сто вы огёте? Думаете стгашно? Ни фига не стгашно – великих людей не бывает!
Герман замер, уставился на нее:
– Ты кто?
– Геквизитог!
– Кто?
– Геквизитог, непонятно, сто ли?
И Герман захохотал.
Он часто повторял: художник – это лужа, в которую плюнул Бог.
Он знал цену своей работе.
Эта книжка – по дневникам тринадцатилетней давности. Я очень хотел, чтобы Алексей Юрьевич ее прочел.
И вовсе не предполагал вести односторонний диалог с Великой тенью.
В этом тексте он для меня живой.
Непредсказуемый, невыносимый, продолжает бесконечную работу над своей главной картиной – «Трудно быть богом».
Трудно. Невозможно. Да и не нужно.

Проба

Пустыня Финского залива. Заснеженный до невидимого в зимних сумерках Кронштадта лед. Стылое Ольгинское побережье. Влажный февральский ветер. Обещали мороз, но, как всегда, ошиблись.
Черное пятнышко на берегу и вдали, в белизне залива, едва различимая темная точка. Черное пятнышко – это я, Лёша Злобин, ассистент по площадке. В руках у меня мегафон, а черная точка вдалеке – ничего не подозревающий рыбак, его почти не видно, но кто ж еще, кроме рыбака?
На берегу костры и большие железные жаровни, странные постройки из бревен, прогуливаются всадники, бродит разряженная в средневековье массовка – Герман снимает пробу к фильму «Трудно быть богом». Через две недели должна начаться экспедиция в Чехию, полтора года велась подготовка: бесконечные пробы артистов и типажей, гримов, костюмов, кропотливое создание эскизов декораций – мучительное воспитание группы в духе единого замысла, и вот – большие маневры, сводная проба, приближенная к боевым условиям:
Массовка – 140 человек.
Каскадеры–конники – 20 человек.
Пиротехники – 10 человек.
Огромный рельсовый кран из Минска.
Несколько моржей – Герман хочет снять голого человека на снегу.
Все – в полной боевой готовности, вчера репетировали, сегодня должны снимать.
Только наладились, появился этот рыбак на горизонте. Пусть и не виден почти, но Герман его не придумывал, и он кричит:
– Уберите из кадра этого человека в современной одежде!
Все тоскливо уставились на едва различимую точку в снежной пустыне.
– Да-да, это рыбак с санками в ватнике и валенках, – уберите его немедленно!
Бегу с мегафоном, ору что есть сил:
– Мужик, му-у-жи-ик! Если ты меня слышишь, подними правую руку!
Точка останавливается. Бегу:
– Ты поднял руку, не вижу?!
– Поднял, поднял! – кричит сзади Герман.
– Молодец, мужик! Теперь покажи рукой вправо!
Рука указывает в сторону Питера.
– Молодец! А теперь быстро-быстро иди туда!
Точка движется влево по кадру и исчезает за рамками германовского мира. Кричу:
– Снимайте!
И падаю в снег.
Шесть дублей скакал вдоль рельс всадник, шесть дублей, ухватившись за стремя, за ним бежал толстый лысый человек, проректор Театрального института Павел Викторович Романов, шесть дублей его догонял по стометровой панораме минский кран, который толкали шесть здоровых мужиков.
Наконец Герман говорит:
– Кажется, все.
Павел Викторович садится на пенек, всадник спешивается, конь тяжело храпит, мужики медленно оттаскивают кран на исходную.
– Теперь будем снимать! – слышится голос Германа. – Злобин, веди второй план.
Он никогда не скажет «массовка», это неуважительно. Но «второй план», только так. Второй план по выразительности лиц и костюмов делится на десяток подпланов.
Сто сорок человек выстраивают вдоль рельс, Герман отбирает:
– Первая группа, вторая, первая, седьмая, третья, шестая, первая, четвертая…
Следом бежит помреж Оксана с блокнотом и переписывает всех. За ней – трое стажеров, и тоже переписывают и тут же разбирают группы.
– Седьмая, третья, первая…
Герман останавливается:
– Господа, вы извините, что я на вас пальцем показываю и не знаю всех по именам, но нам надо распределить вас по кадру.
Потом он отходит в сторону:
– Злобин! Злобин, твою мать!
– Да здесь, Алексей Юрьевич, здесь, рядом стою.
– Лёшка, теперь бери и разводи: всех первых в конец, подальше, а седьмых – на первый план.
Еще через час работы с массовкой мы готовы снимать.
– Репетиция с пленкой!
Больше всего он переживает, что все, когда начнется съемка, «нажмут», будут хлопотать, излишне стараться и получится как в кино. А «как в кино» – нельзя, надо по-настоящему. Вот для чего эта выматывающая муштра, хитрости с нумерацией планов и загадочная фраза «репетиция с пленкой» – «чтоб не нажали», чтоб были живыми. То есть «измудоханными» вконец и неспособными наигрывать.
Свет почти ушел, успели два дубля. Предстоит еще снять голого моржа на снегу. Быстро офактуривают куклы убитых монахов, раскладывают обломки оружия, обрубки человеческих тел, всё обильно заливают кровью, блевотой и экскрементами, кладут на снег голого человека, его тоже всего измазывают для правдоподобия, пять раз репетируют низкий пролет крана над этим побоищем, ставят фонари, потому что стемнело, а человек так и лежит на снегу. И когда оператор Валерий Мартынов, срывая голос, орет, что необходимо снимать, что через пять минут будет ночь, Герман мягко улыбается:
– Да, пожалуйста, Валерочка, я же не задерживаю.
Командую:
– Внимание, приготовились!
– Кран отрубило, монитор погас! – кричат минские крановщики.
Мы стоим под линией высокого напряжения. Облепленные снегом провода трещат от внезапной оттепели, влажность зашкаливает – электромагнитное поле дало помеху, и оператор за пультом не видит картинку, удаленную от него на двадцать метров. Конечно, он уже отрепетировал низкий пролет камеры над «трупами» монахов, обрубками тел, раздетым мародерами человеком, но сейчас он не видит ничего – монитор вырубило. Оператор размышляет вслух:
– Надо снимать. Или не надо. Через две минуты ночь.
– Внимание, съемка! – командует Герман. – Камера!
Через день смотрим отснятый материал. Германа вполне устраивают проезды за скачущим героем и бегущим проректором. А вот голый человек на снегу…
– Валера, я что хочу тебе сказать…
Валера сам видит, что это фактически брак, это даже отдаленно не напоминает репетицию, но разве мог оператор снять вслепую? Конечно, не мог.
А Герман продолжает:
– Валера – это настоящий кадр! Им бы гордился даже Куросава, какое-то волшебное японское кино. Твой парень за пультом, труханув, что сломает камеру, крутя свои рычаги, только на нее и глядел, он рисковал каждую секунду, и картинка получилась нервная, на грани брака, трепетная. А когда он снимал голого, то пересрал совсем – и камеру сберечь, и человека живого не ранить, – он его так нежно и чувственно обвел, как Модильяни своих красоток с провалами глаз, понимаешь? Этот нерв, этот страх передался ему. Вот лучший твой кадр из всех наших проб, молодец. И в Чехии мы начнем с этого.
В Чехии этот кадр Валера так и не снял.
Перемена участи

В начале августа 2000 года хоронили Михаила Семеновича Богина. Он работал вторым режиссером на картине Германа «Хрусталев, машину!». Подозревали, что Мишу убили из-за денег. Он якобы накануне получил большой гонорар за съемки. А больших денег у Миши отродясь не бывало. Убили жестоко, в его же квартире и, видимо, знакомые – дверь не была взломана, Миша, судя по всему, сам впустил убийц. Его жена с дочерью-младенцем возвращалась с прогулки, встретила Наталью Боровкову, жену Николая Лаврова, Мишиного однокашника по театралке. Наташа их задержала, повела в магазин – это спасло Мишиных жену и дочь. Николая Лаврова, соседа и друга, вызвали на опознание. Узнать Мишу было трудно.
Через три дня от СТД двинулся похоронный кортеж – на Волково кладбище. Многие удивлялись, что нет Лаврова. А его с дачи увезли на «скорой». В ночь на 12 августа он умер в сестрорецкой больнице. Хоронили через неделю на том же Волковом.
Когда не стало моего отца, Коля, его ученик и друг, называл меня сыном.
А Миша привел меня к Герману.
Фрагмент дневника
В просмотровом зале «Ленфильма» закрытый показ «Молоха». Народу битком; смотрели, замерзая. По проходу забрякала пустая бутылка, какая-то компания гоготала в последних рядах, попивая пивко. Сокуров сокрушался: «Позовешь своих, а припрутся свиньи».
После просмотра – кофе с Вадимом Сквирским и Владом Ланнэ. Подсел Михаил Богин, он руководил студией «Кадр», где я когда-то занимался, и преподавал на курсе Арановича, где учился Влад. Миша позвал Влада пойти стажером к Герману. Влад предложил Вадима, Вадим – меня. На завтра назначили встречу с Германом.
– Почему я не Герман, почему я не Герман, почему, почему, почему? – обреченно шепчет Сокуров, обводя печальным взглядом распаленные июльским солнцем приозерские скалы. Он снимает «Молох», фильм о Гитлере. После короткой экспедиции в Баварские Альпы, где с двумя артистами отбили заявочные планы, нужно под Приозерском снять основные сцены. А Карелия ну никак не похожа на сказочную горную Баварию. Герман просто не стал бы снимать, и ему оплатили бы долгосрочную экспедицию в Альпы, с Сокуровым – не так, и вот он бормочет печальную мантру, обращенную в никуда: «Почему, почему, почему…» – и оглядывает поросший мхом и крохотными болотными деревцами квадратный километр ландшафта, который нужно расчищать: срывать мох, вырубать деревца, срезать дерн, скрести корщетками камни, тереть их тряпками вручную, ждать, пока высохнут, а рабочих всего трое.
У палатки с чаем-кофе томится группа, дошлые работяги ковыряются лопатами, покоряя за третий час работы второй квадратный метр натуры, – всем понятно, что снимать мы будем готовы к ноябрю, не раньше. Вызвать бы три взвода солдат из ближайшей части, но денег на это нет; вся группа и артисты уже третий месяц без зарплаты, и на вопрос директору: «Когда?» – в ответ доносится: «Потерпите, простите…» или нежно покровительственное: «Ангел мой, иди на х…».
Группа, опившись чаем-кофе, разбредается по камням и принимается загорать. Сокуров подходит к директору:
– Эдуард, дайте мне лопату.
– Дайте режиссеру лопату! – кричит директор.
Лопат почему-то полно, видимо, рассчитывали на большее количество рабсилы.
И Александр Николаевич неумело принимается взрезать вокруг себя дерн.
Глядя на сытое и самодовольное недоумение директора, подавляю бешенство: как можно, почему Сокуров его не уволит, почему объект не готов к съемке, почему режиссер вынужден устраивать эту горемычную провокацию? Беру лопату, втыкаю в дерн, из отвала мха с пересушенной землей мне обдает лицо облаком мошки. Дрожу от ненависти и копаю, иначе стыд задушит – ведь я же ассистент режиссера, этого вызывающего недоумение одиночки!
Сотворчество с ним невозможно, он работает один, по четыре часа в павильоне выстраивает кадр, никому не говорит ни слова, возится с каким-то стеклом перед камерой, наводит вазелином размывы периферийных деталей, а из магнитофона угнетающе пиликает Перголези или неуместный Моцарт. Группа тонет в бездействии, заполняя студийный коридор густым дымом нескончаемого перекура.
Самое тоскливое в кино – ждать. Всегда чего-нибудь или кого-нибудь ждут. Какая это мýка, я узнал на «Молохе». Ожидание – это Молох кинематографа. Ему в жертву отдаются жизни: люди некрасиво и безрадостно стареют, спиваясь, скуриваясь, до дыр изнашиваясь в сплетнях и праздной болтовне. Спасением может быть только толковый второй режиссер, который так все организует, чтобы это ожидание свести к минимуму, – это я мотал на ус. Но сейчас Сокуров ковырял лопатой карельский мох, и ничего другого не оставалось, как тоже ковырять мох. Вот уже и помреж взял лопату, и кто-то из осветителей, и оператор Лёша Федоров, и реквизитор физик-ядерщик Олег Юдин, и Миоко-сан, стажер из Японии, и администрация – дело пошло. Тоскливый Молох кинематографа, наверное, страшно огорчился. Ко всем по очереди подходил Эдуард и что-то шептал, подошел и ко мне:
– Алексей, мы вам заплатим за эту, м-м… работу.
– Ангел мой, иди на х… – не сдержавшись, ответил я.
Нам действительно заплатили, прямо в экспедиции, ставку рабочего за трудодень – это были мои первые деньги режиссера-ассистента за три месяца работы на картине. Остальное получили после съемок в середине сентября 1998-го года, спустя месяц после августовского дефолта, и на всю зарплату мы хорошенько пообедали в ближайшем кафе.
Через два часа, красные от загара, изъеденные мошкой, но страшно счастливые, мы обозревали гектар голых камней, непохожих на Баварские Альпы, но ставших лучшим памятником солидарности безумцев. Их до сих пор видно с дороги.
– Ну и что же ты делал у Сокурова? – спросил Герман.
– Расчищал камни.
– Это образно?
– Нет, конкретно…
Герман сидит в кресле, я напротив, рядом с Михаилом Богиным, у ног крутится Медведев.
– Медведев, фу! Убью! Светка, убери его куда-нибудь.
Пса-боксера назвали в честь тогдашнего председателя Госкино, а Светка – это Светлана Кармалита, жена Алексея Юрьевича.
– Мне не важно, чем ты занимался у Сокурова, и театральные твои заслуги, и чьи-то слова о тебе. Предлагаю следующее: возьми любой рассказ Шаламова и найди типаж, который сказал бы его слова как свои, чтобы я поверил. Мы дадим тебе камеру, оператора, свет. Снимешь пробу, покажешь. Если плохо – простимся, но у тебя будет снятая проба на руках, если хорошо – пойдешь ко мне на картину. Ну как?
– Честно. Согласен.
– Удачи. А как твоя фамилия?
«Ну вот, – думаю, – сейчас он узнает, что я сын его однокурсника, и все пойдет прахом».
– Злобин.
– Хорошо, Лёша Злобин, до встречи. Пока.
Надеваю в прихожей куртку, слышу:
– Вас все боятся, Алексей Юрьевич, поэтому и не могут вам сказать ничего…
– Что ты несешь, почему боятся?
– Потому, что вы, Алексей Юрьевич, непредсказуемы…
– Боже, дурак какой, – шепчет Кармалита, открывая мне дверь.
Спускаюсь по лестнице, а Михаил Семенович продолжает свой так некстати начатый последний диалог с Алексеем Юрьевичем.
Забавно, «Герман» по-немецки значит то же, что «Богин» по-русски, – Божий человек.
На экзамене в Герцовнике по предмету «Советская литература» мне достался билет по Шаламову. И вот сейчас снова предстояло нырнуть в этот мир, в это отчаянное мужество мысли. Все оказалось непросто уже на уровне выбора текста. В «Колымских рассказах» редко встречался развернутый диалог – все больше авторские размышления, описания, одним словом – литература. Листая рассказ за рассказом, я не понимал, как это можно говорить от первого лица. Наконец набрел на историю о двух банках сгущенного молока, которые получил персонаж за обещание удариться в побег с провокатором. Он их съел, а в побег не пошел.
При первой встрече с актером В. С. выяснилось – он был хорошо знаком с моим отцом:
– Вы сын Евгения Павловича?
Пили чай под блины с вареньем. Я ловил в разговоре импульсы сближения В. С. с персонажем, чью историю ему предстояло рассказать. Нервная пластика, рука часто у лица, будто удерживает рвущееся слово; распахнутые, полные горечи глаза, во всем какая-то сломленность, тень давнего надрыва. Когда-то крепко пил, но уже двадцать пять лет – ни капли. При разговоре об отце я сразу почувствовал особое искреннее тепло и понял: надо строить монолог как разговор отца с сыном, как исповедь, болезненный, но необходимый момент истины. Сын почужел, произошло что-то, о чем он умалчивает. Отец тревожится, чувствует, что теряет с ним связь, нет уже доверительности, близости. И он решается открыть больное, за что совесть мучит уже годы, отчего не спит по ночам.
Между прочим, В. С. рассказал свою историю, в рифму к шаламовской. Кто-то донес, что у него залежи самиздатской литературы. Начались допросы, обыски. Изо дня в день таскали в Большой дом, часами мурыжили, только успевал до театра добраться перед спектаклем. А как играть после шести часов допросов? Посадить формально не могли, за хранение не сажали, сажали за распространение – и вот мотали душу, хотели состряпать большое дело, выуживали сообщников, извели вконец. В начале мая были намечены гастроли в Алма-Ате, В. С. надеялся, что там отдохнет, хоть ненадолго отстанут. В день вылета вызвали в КГБ:
– Послушайте, мне на гастроли, самолет через четыре часа!
– Прекрасно, поговорим и посмотрим, полетите вы или нет. Кстати, а что в чемодане, уж не книжки ли?
В чемодане, среди прочего, обнаружились три ботинка – все на одну ногу. Отпустили, еле успел на рейс. В самолете уснуть не удалось.
В аэропорту пéкло, В. С. стоит с чемоданом, рядом товарищи. Другой город, другие люди – все легче. И тут кто-то окликает: «Виктор, тебя там человек в форме разыскивает».
Сердце защемило: неужели и здесь, гады, покоя не дадут? А через площадь идет какой-то в фуражке, да еще арбуз волочет, падла…
Это был его школьный друг, стал военным, уехал в Алма-Ату, увидел гастрольную афишу и пришел повидаться: «Витька, привет, старина!»
И тогда Витя упал в обморок прямо на летном поле. Потому что, когда жмут, еще как-то держишься, обувь на одну ногу берешь, слова на сцене забываешь, но держишься. А вот когда отпустит резко, когда друг улыбается: «Привет, Витька!» – вот тогда и падаешь.
Виктор Борисович хорошо сыграл шаламовскую историю.
После просмотра Герман сказал:
– Давай еще. Возьми любой отрывок из «Трудно быть богом» и сними парную сцену. Дадим тебе оператора, павильон, реквизит, мебель, костюмы, грим. Будешь готов – скажи.
Фрагмент дневника
Конец мая 1999 г.
Вчера прощались с Давидом Исааковичем Карасиком, режиссером, педагогом, основателем телевизионного театра. Когда он поступал в институт, абитуриентам дали задание на подлинность существования в предлагаемых обстоятельствах: – Внимание, все гуляем по лесу!
Барышни принялись собирать грибы-ягоды, молодые люди забирались на воображаемые деревья и смотрели в воображаемые дали с воображаемых верхушек. Вдруг преподаватель закричал:
– Волк!
Барышни завизжали, молодые люди попрятались, кто-то стал зарываться в землю, а субтильный в очках Давид Исаакович швырнул в преподавателя табуреткой, прицельно – чуть правее головы. Потом его спросили:
– Зачем вы так… отреагировали?
– Видите ли, – поправляя очки на носу, сказал Давид Исаакович, – в окружении под Смоленском на меня шло четыре немецких танка… а тут волк – неужели я испугаюсь и побегу?
Он был ранен, рассказывал, как упал в траву и долго с удивлением смотрел на муравья, ползущего по стебельку, как в ту минуту его внимание приковала жизнь – такая хрупкая, такая прекрасная.
Его фразу: «Ребята, вся система Станиславского сводится к трем словам: „Наиграй и оправдай“» – теперь повторяю студентам в Академии22
Театральная академия в Петербурге.
[Закрыть].
Раз бутылка, два бутылка, три бутылка.
После «Молоха», который съел всю зарплату за четыре месяца, я ездил ставить дипломный спектакль, в поезде подхватил чесотку. Репетиции чередовались с беготней по больницам. Денег не заплатили – сунули предновогоднюю подачку на неделю жизни по возвращении домой.
Пришлось занимать на лечение, работы не было.
Раз бутылка, два бутылка… январь.
Раз бутылка, два бутылка – февраль.
Каждая бутылка от пива – пачка «Беломора». А на полкило пельменей нужно собрать двадцать бутылок. Я навсегда наелся пельменей.
В январе Богин привел меня к Герману.
В начале марта я снял первую пробу – шаламовскую.
В середине апреля вторую – по Стругацким.
Слишком быстро снял и слишком поспешно сдал.
– Ты уверен, что снял, как хотел?
Смертельный вопрос. Еще три года я буду стараться его осмыслить.
Были поставлены условия, сроки, в этих рамках я и действовал. Но, взбегая на последний этаж к Германам, я даже не задумался, мне в голову не пришло, что можно и нужно было по-другому.
Не уняв дыхания, нажал кнопку звонка. В руке кассета с только что снятой пробой – решающей. Мы неделю репетировали с артистами из Малого драматического: Сергеем К. и другим Сергеем К. Ранним утром вошли в выгородку с необходимым реквизитом, оператор Андрей Вакорин уже поставил свет, спешили. Ровно в 16.00 я сказал «стоп».
– Ты уверен, что снял, как хотел? – спросила на пороге Светлана Кармалита.
Я опешил:
– Что успел, то успел. Герман же понимает, что есть условия…
Дверь захлопнулась.
Открылась она для меня как для режиссера только через три года. Ненадолго, на одну встречу, после которой я медленно спускался по лестнице с чувством ненужной поздней победы.
Сдав пробу по Стругацким, изнывал от тоски, ожидая решения.
Раз бутылка, два бутылка – уже тошнило от пельменей.
Раз бутылка, два бутылка – подорожал «Беломор», – но от курева тоже тошнило.
Раз бутылка, два бутылка – через месяц раздался звонок:
– Алло, ты снял плохую пробу, артисты кривляются, особенно Сергей К. Впрочем, другой Сергей К. – не лучше. У тебя человек, неделю, может быть, не жравший, держит курицу в руках и разборчиво говорит текст, – да он жрать ее должен безостановочно, и слов не разобрать, да и не важны они – добивайся, чтобы я верил в его голод! Одним словом, чтó тебе было важно – я не понял. Но Светлана сказала – ты сын моего товарища Жени Злобина, это так?
– Да.
– Я приглашаю тебя на картину ассистентом по площадке. Решай.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?