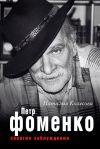Текст книги "Яблоко от яблони"
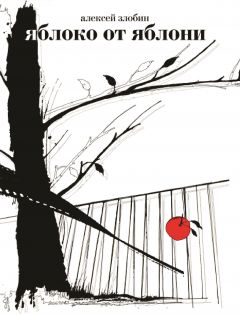
Автор книги: Алексей Злобин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Все те же лица

– Только не надо под словом «типажи» подразумевать еврейские лица! Да, у евреев лица интересные, но я хочу видеть интересные нееврейские лица, а то какое же это средневековье – сплошь жиды, то есть без исключений.
Такую установку для отбора типажей дал Герман.
Но в результате с гуманитарной миссией на неведомую планету в Арканарское королевство братьев Стругацких высадились Леонид Ярмольник, Александр Орловский и Володя Рубанов – один другого краше.
Румата-Ярмольник порубал в капусту оккупировавший страну Черный орден, устроил этим фашистам еврейский погром. А главный режиссер Омского ТЮЗа Владимир Рубанов и Александр Эльянович Орловский запоздали обуздать своего товарища и с мудрой грустью печально созерцали горы трупов. Вот и думай, чтó Герман имел в виду.
На роль Руматы пробовались Константин Хабенский, Антон Адасинский, Аркадий Левин, Александр Лыков. Последнего Герман считал за француза и на него писал сценарий. Он помнил Лыкова по «Хрусталеву», вряд ли видел в «Ментах»33
В бессмертном питерском сериале Александр Лыков играл оперативника Казанцева по прозвищу Казанова.
[Закрыть], но Саша пробовался первым, основным, на него шили костюмы и делали пробы грима. Других претендентов вообще не рассматривали. С ним перепробовали всех, кто требовал утверждения, сам Саша шел вне конкурса.
На одну из проб приехал московский артист Меркурьев. Я даже не задумался, когда прочитал фамилию в ассистентской заявке. Сидим с Ильей в кабинете Германа, пьем чай, листаю книжку о Мейерхольде. Вдруг открывается дверь и заходит… Мейерхольд, у меня все покосилось в голове.
– Здравствуйте, ребята, а где Лёша Герман?
«Ну вот, – думаю, – страшный суд настал для Алексея Юрьевича».
– А вы, простите, кто? – спрашивает Илья.
– Я на пробы, на роль поэта Гура.
Смотрю в ассистентскую заявку, читаю фамилию, и до меня доходит: Меркурьев – сын Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд, папин студенческий приятель, – но какое невероятное сходство.
– Боже мой, – выкрикиваю тоном ущемленной страстью барышни, – как вы похожи на вашего деда! Я Лёша Злобин, сын Евгения Павловича.
– А я Петя Меркурьев, внук сами знаете кого.
Мы сразу подружились с Петром Васильевичем, музыкальным критиком, писателем и замечательным артистом. Вечером на пробе в диалоге с Руматой-Лыковым он блистательно сострил. Румата в ностальгическом порыве читает придворному поэту пастернаковского «Гамлета»:
– На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси…
Гур хмыкает:
– Тьфу, белиберда какая – либо сумрак, либо ночь!
В соседнем павильоне Александр Абдулов снимал мюзикл «Бременские музыканты», к нам то и дело забегали гости – посмотреть, как работает Герман. Забегал и Леонид Ярмольник. Было жарко, Ярмольник, московский артист в шортах, в нашей угрюмой суконно-кожаной среде смотрелся неуместно, да еще его «шоу-шлейф»… «Приходит запанибрата, хохмит…» – ворчал Герман и поглядывал на Ярмольника с подозрением, чреватым неприязнью. Алексей Юрьевич представления не имел, что Леонид Исаакович переиграл в кино массу ролей, он был уверен, что Лёня в «L-клубе» телевизоры раздает в подарок победителям конкурсов, и не любил его за «круглый петушиный глаз, бессмысленный, как пятак».
Потом ходили слухи, что Ярмольник «купил» Германа: привез чемодан денег и крупно вложился в картину – вранье. Купил – безусловно, но не деньгами.
– Я снимаю только то, что вижу, закрыв глаза. Иначе – не могу и не хочу. В конце концов, есть дача в Комарово – продам ее, с голоду не помру, – не раз слышал я от Германа.
Уже в Чехии, на втором месяце съемок, он узнал, что артист Ярмольник снимается бесплатно. Что он отказался от гонорара, решив не обременять студию своей высокой ставкой. Они часто вздорили, а вагончики их стояли по соседству. И вот в разгар очередной стычки оба хлопнули дверьми и скрылись. Вслед за Алексеем Юрьевичем юркнула Светлана Кармалита с успокоительной таблеткой в руке.
– Светка, пошел он в жопу, этот шоумен с хвостом! Я ему деньги плачу, и немалые – так пусть изволит слушаться!
– Никаких вы мне денег не платите! Во-первых, не вы продюсер, а во-вторых – я снимаюсь бесплатно!
Дверь вагончика открылась, и на пороге появился Герман.
Из соседней двери вышел Ярмольник и сел на ступеньку.
Оба молчаливо глядели в небо, слушали птиц, любовались первыми цветами на зеленой лужайке.
Герман исподволь спросил:
– Ты правда, что ли, бесплатно снимаешься?
– Правда, – слегка смущенно ответил Лёня.
– Понятно, – вздохнул Герман и окликнул: – Светка, а Светка, позови-ка мне Витю Извекова, продюсера нашего.
Через минуту запертый вагончик гремел угрозами:
– Чтобы ему платили всю его ставку, чтобы был железный договор со всеми штрафными санкциями, с неустойкой, чтобы он… ты хорошо меня понял, Витя?!
А из соседнего вагончика неслось:
– Не будет никаких договоров, снимайтесь сами и сами себя слушайтесь. Я вам не мальчик, слышите, вы!
На следующий день вагончики режиссера-постановщика и исполнителя главной роли стояли по разные стороны чешского замка Точник.
Так что слухи о подкупах, полагаю, весьма преувеличены, ибо редкая нежность взаимоотношений вряд ли могла иметь причиной финансовую зависимость партнеров.
Уже на второй пробе они сцепились – хотя как можно сказать «сцепились», если Алексей Юрьевич, окруженный безопасной дистанцией, за которой сникла в тень съемочная группа, танцевал боевой танец африканского вождя-каннибала с невоспроизводимым звуковым сопровождением, а Леонид Исаакович был привязан к креслу тяжелой сетью, как жертва Авраама перед закланием.
Только что все было мирно, Румата красиво разбил сырое яйцо о лоб дона Рэбы, сел, развалясь, в кресло, на него швырнули тяжелую ловчую сеть, подскочил черный монашек с перочинным ножом, ткнул возле горла артиста.
– Поосторожнее, эй! – прохрипел Ярмольник.
И тут из режиссерского кресла вскочил Герман:
– Что это за «эй», я тебя спрашиваю?! Этого слова в сцене нет! Или ты считаешь, что можно хамить здесь всем подряд?! Это тебе не телешоу и не один ты здесь артист!
– Развяжите меня, ухожу к чертовой матери! – рванулся Лёня.
– Если кто-нибудь его развяжет, уволю! Приехал, понимаешь, на «мерседесе» и хамит!
Лёня бился в сетях и что-то кричал, Герман тоже, оба грозили друг другу мордобоем. Ярмольник показывал кулак в щетинистой боевой перчатке, а Герман в ответ сгибал мизинец, мол, имели мы в виду таких страшных! Однако к связанному Ярмольнику не приближался – еще пнет, чего доброго, сапоги-то в шпорах и с каблука, и с носка.
И вдруг Герман сказал:
– Стоп!
Оглушающая тишина. Леонид Исаакович замер, глаза его напряженно сузились…
– А вот теперь действительно «стоп», – повторил Герман. – Снято!
– Сволочь какая, – сдавленно выдохнул Ярмольник.
– Прости, Лёнечка, я помогал тебе как мог. Это же лучше, чем если бы все ушли, а тебя оставили. Эй, группа, – басит Герман, – развяжите артиста!
Но это – много спустя, когда нелепо сошел с дистанции Саша Лыков, коротко отпробовались Константин Хабенский и Антон Адасинский, рок-музыкант Женя Федоров, Леонид Тимцуник, – многие потом ушли на другие роли. Ярмольник, повторяю, вообще не должен был участвовать в картине. Из проб Лыкова уже можно было собрать полноценный фильм, но Саша подписал с кем-то параллельный контракт на главную роль в многосерийном проекте. Герман узнал, Саша опомнился и с бешеными неустойками расторг контракт. Но поздно – про него забыли. И стали искать новых кандидатов на роль Руматы.
– Это еще что, вот когда Гурченко приходилось заводить на «Двадцати днях без войны»! У Люськи все ненастоящее: руки отстегиваются, грудь на липучках, глаза нарисованы, парик, вставные зубы; и при этом маниакальное внимание к своей внешности. Нужно в кадр идти, а она пустая, вялая – как снимать? Я к ней подхожу при всей группе: «Людка! Что-то ты выглядишь ужасно… праздники у тебя, что ли? Какую съемку уже срываешь… Уж не позвонить ли Нинке Руслановой, может, она за тебя снимется?!» Гурченко приходит в бешенство, и я тут же командую: «Камера!»
Когда Аркадий Левин приехал на пробы, то даже встречавший его водитель восхищенно сказал: «Вот настоящий Дон Румата!»
Обычно шоферá в кино стоят возле палатки с буфетом: курят, плюют, матерятся. Бычки непременно эффектным щелчком посылают куда-то в сугроб перед собой, хотя рядом стоит урна. Герман как-то пошутил: «На месте, где только что чесали языками русские, непременно остается лужа плевков, утыканная бычками и присыпанная семечной шелухой». Но наши водители не такие – все как один прочитали повесть Стругацких, следили за сценарными изменениями, сопереживали процессу и даже устроили тотализатор «кого утвердят на роль».
Поэтому, когда из машины, сильно пригнувшись, вышел Аркадий Левин – рост под два метра, стройный, с длинными вьющимися волосами, с добрым и умным лицом, сразу располагающий к себе (внутренне свободный – это ощущалось при первом взгляде на него), – тотализатора не случилось.
Пробовался он блестяще, сцену за сценой – со всеми основными партнерами. На первой пробе, обвешанный оружием, в железном нагруднике, когтистой перчатке (все настоящее, общий вес около двадцати кг), Аркадий слегка подустал и попросил помрежа принести чай с бутербродом. Помреж почему-то исчез и больше не появился, тогда Аркадий попросил о том же гримера, исчезли гримеры, потом костюмеры, реквизиторы.
Герман запрещал кормить артистов на пробах: «Чтоб глаза тухлыми не были!» Он и сам сутками ничего не ел. Но молодой и здоровый Аркадий Левин об этом знать не знал и недоумевал, куда все исчезают. Группа изрядно поубавилась, даже часть рабочих сбежала, снимали одиннадцатый дубль:
– Внимание, приготовились!
– Секундочку, – сказал Аркадий.
– Что случилось, текст забыл? Помреж, повторите с артистом текст!
– Помреж ушел.
– Гримеры, артист устал, дайте ему нашатырь!
– Гримеров тоже нет, и костюмеров.
Алексей Юрьевич выглянул из-за монитора и оглядел опустевшую площадку:
– В чем дело?
– Если мне сейчас не дадут бутерброд, я немедленно умру, и некому будет унести меня. Все разбежались, они вас боятся – дайте же мне поесть!
Герман развел руками, Аркаше принесли два огромных бутерброда и чай.
Это, по-моему, был единственный случай, когда Алексей Юрьевич уступил.
Константин Хабенский приехал на студию на метро. Это был довольно короткий промежуток в биографии артиста между «Сатириконом» и МХАТом. Вернувшись в родной Питер, он сыграл «Калигулу», чтобы вскоре, подобно Калигуле, на белом коне взять Москву.
Мы были знакомы с института, где в спектакле «В ожидании Годо» заявила о себе яркая актерская четверка: Константин Хабенский, Михаил Трухин, Андрей Зибров, Михаил Пореченков. Худрук Театра Ленсовета сразу пригласил их в труппу, а заодно и спектакль взял в репертуар. Костя начал репетировать «Калигулу», параллельно я пригласил его в карнавальный фольклорный спектакль-мюзикл. И вдруг Хабенский уехал в Москву к Райкину. Это казалось страшной глупостью: из ведущих артистов Питера идти в театр одного актера к Константину Аркадьевичу – зачем? Более того, театр жесток, такие вещи не прощаются, никто не позовет обратно. Но случилось чудо.
Мы сидели на досках за павильоном, я достал папиросу:
– Дай и мне, Лёш, вспомню институт… Ты по-прежнему «Беломор» куришь?
– Костя, никогда не пойму, почему ты ушел к Райкину. Но еще больше не понимаю, почему ты ушел от Райкина. Ведь если теряешь рассудок, кажется, это навсегда…
Костя раскурил папиросу и ответил неожиданно просто и глубоко:
– Когда мне вдруг стало нравиться быть седьмым автоматчиком в третьем ряду, я понял, что надо валить. И свалил.
Тем временем Александр Лыков, порвав все контракты и заплатив неустойки, написал Герману письмо, достойное почетного места в музее истории кино, и был допущен к пробам. Он не ел на площадке, не спал, бегал в двадцатикилограммовом костюме, не касаясь земли, – только искры сверкали от шпор.
Через неделю из десятка кандидатов на главную роль вышли в форварды двое: Аркадий Левин и Александр Лыков. Каждый совершенно по-разному, но с заражающей достоверностью сыграл основные сцены. А Герман медлил, чего-то ждал.
– Скажи, Будах, если бы ты был богом, что бы ты сделал с людьми?
Примерно так начиналась ключевая сцена фильма, диалог Руматы с Будахом – светилом гуманизма с безымянной планеты, так горестно похожей на Землю в худшие ее времена.
Эту сцену мы до сих пор не трогали, Герман не решался, он не понимал ее. Всем уже было ясно, что Герман не пробы снимает, вызывая одного за другим разных артистов. Для проб не нужно громоздить такие подробные декорации, быть столь придирчивым к костюму и гриму, насыщать второй план выразительными типажами, так глубоко и подробно разрабатывать сцены, переписывая и дополняя сценарий раз от разу все новыми и новыми деталями. Нет, снимались не актерские пробы, а черновики фильма – Герман искал стиль и способ, прием и образ будущей картины. Закончив девятилетнюю эпопею «Хрусталева», он старался не оказаться в плену завершенной работы. Через день мы собирались в просмотровом зале, смотрели материалы проб, высказывали мнения. Говорить должны были все, все главы цехов и режиссерская группа, – а Герман слушал, он искал вектор, нащупывал полюса, определяющие силовое поле нового замысла. Резюмировала всегда Светлана Кармалита:
– Лёша – это не «Хрусталев».
И Герман тревожно улыбался и что-то фиксировал.
Или:
– А это напоминает «Хрусталева».
Тогда он проклинал «Светку» на чем свет стоит и искал новые ходы.
Это – 13 баллов по десятибалльной шкале мучительного поиска единственного решения, это – болезнь материалом.
Решающую сцену будущего фильма Герман не пробовал ни с кем. Он боялся, что в будаховской декларации гуманизма невольно возникнет ложный пафос или, не дай бог, начнется философский многозначительный треп. В критической болевой точке сюжета это было недопустимо. И Алексей Юрьевич искал опоры конструкции, куда следовало заложить динамит. Взрывать предстояло не идею Стругацких, а себя, свое представление, невольно соскальзывавшее в клише. Исповедь, сгущенная философская апория, евангельский парафраз – как герою выразить это, не солгав; как ему, грубо говоря, не быть в этот момент героем?
Проклятые вопросы, наивное, все опрокидывающее чувство правды:
– Поймите, это говорят люди. А как они это говорят?! Какие лица я вижу, когда звучит этот диалог?
Ни авантюрный темперамент Лыкова, ни открытое обаяние Левина не виделись Герману в этот момент. Точка зависания превращалась в точку кипения.
Вроде все необходимое уже было, но не было главного – соли.
Герман собрал у себя режиссерскую группу во главе с Ильей Макаровым, позвал редактора Евгения Прицкера и оператора Валерия Мартынова. Светлана Кармалита курила у окна.
– Ребята, хотите выпить?
Все хотели, но отказались.
– Так вот, ставлю задачу. Для пробы Румата–Будах нам нужен актер-комик. Откровенный, ближе к клоунаде. Я хочу услышать эту сцену смешной, тогда я пойму, какой она вообще должна быть. Ясное дело, что мы не будем его снимать в картине, но мы не скажем ему об этом. Если не случится фокуса, если эта сцена не занизится, я не понимаю, какой снимать фильм. Есть кандидатуры?
– А Лыков недостаточно смешной?
– Возможно, и смешной. Но его я уже изучил, а здесь необходимо удивиться, должна быть неожиданность.
– Райкин?
– Хорошо, надо позвонить Косте, тем более что он пару раз уже забрасывал удочки.
– Лёша, Медведев, фу! – Кармалита отогнала собаку. – А Лёня Ярмольник?
– Нет. Этот в шортах? Телеконкурсы, круглый глаз, дешевые хохмы, эстрадная штучка… А может, ты права. Мы же не будем его снимать. И более неподходящего актера трудно себе представить. Нет, я совсем, ну совсем его не знаю…
– Если прозрачность Лыкова мешает тебе пробовать его в этой сцене, то Лёня – как раз: абсолютно непрозрачен.
– Хорошо. Звоните Райкину, звоните Ярмольнику, кто первый сможет приехать, того и будем пробовать. Только учтите, они ни о чем не должны догадаться, пусть думают, что пробы всерьез.
Райкину звонил я, Константин Аркадьевич отдыхал на южных морях.
А Леонид Исаакович прилетел в Питер на следующее утро.
На всякий случай – всё!

Ветреный осенний день. У заваленной реквизитом телеги, в пристенке ленфильмовских павильонов, весь в ссадинах, в драной хламиде, дрожа от холода, Будах силится помочиться – нервы шалят, ничего не получается. Присевший на телегу Румата по-мужски поддерживает страдальца, отвлекая его разговором:
– Будах, а если бы ты встретил бога, чтобы ты сказал ему?
– Господи, – сказал бы я, – сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными…
– Но сердце мое полно жалости, – медленно говорит Румата. – Я не могу этого сделать…
Прыгнув с корабля на бал или как кур в ощип, Ярмольник был совершенно растерян. Неожиданный звонок, приглашение, бессонная от волнения ночь, ранний вылет, два часа грима, тяжеленный костюм, наспех вызубренный текст и только чашка кофе с утра.
Под глазами мешки, а в глазах страх и отчаяние. Проба только началась, и надо как-то вытерпеть. Скорее не Будаху, а ему нужна сейчас поддержка. С той стороны за монитором толпится группа, а он здесь один на один… но партнер даже не смотрит на него, отвернулся к телеге – он репетирует уже три дня. Так что один на один с самим собой, без партнера, без подсказки – один. Что-то кричит режиссер, непонятно, была ли команда «стоп».
Из-за монитора выныривает Герман, идет, глядя в землю, и задумчиво шевелит ладонями, подходит к Ярмольнику. Группа замешкалась, не было команды «стоп», а Герман в кадре – съемка продолжается? Леонид Исаакович сидит у телеги, поднимает глаза на Германа.
– Лёня, Лёнечка, что ты сейчас сыграл?
– На всякий случай – всё, Алексей Юрьевич.
– Молодец, Лёня, – Герман возвращается к монитору.
– Лёша, «стоп»? – спрашивает Кармалита.
– Стоп, стоп… – задумчиво шепчет Герман.
Пробу снимали до вечера, без обеда и перерывов, но главное – он уже понял, про что эта сцена. Для Руматы долгожданная встреча с Будахом – не ответы на животрепещущие вопросы, а разочарование, потеря надежды, отчаяние. Здесь Герман увидел, как и почему через две сцены этот человек возьмет в руки мечи и перебьет полгорода, – страх и отчаяние, человеческие, с потом и дрожью, без какой-либо надежды. Герман ждал клоуна, глумливца, шута, а увидел человека, больного, одинокого, изнервленного.
После этого Леонид Ярмольник сыграл еще пару проб. Они ссорились, резко и болезненно сказалось все, отчуждавшее этих людей, но была сыграна главная проба главной сцены.

Кино – это «кто»

Пришел день сбора камней, подведения итогов, день выбора.
– Лёшка, отбери лучшие пробы Лыкова, Левина и Ярмольника…
В огромном кабинете Евгения Давидовича Прицкера собралась фактически вся группа: режиссеры, гримеры, костюмеры, художники, реквизиторы, администрация, все ассистенты…
Как важны такие сборы в пиковые моменты жизни картины! Разрозненный по цехам коллектив начинает ощущать себя сплоченной командой. Герман потребовал высказаться каждого из присутствующих открыто и вслух по двум вопросам:
1. Кто наиболее сильно сыграл в пробах?
2. С кем бы вы хотели видеть этот фильм?
Дальше – напряженный час просмотра; итоги полугодовой работы.
Потом молчание, перекур и наконец – осторожные слова. Саперская обстановка, пикник на минном поле, поросшем ромашками, – «любит – не любит»:
– Левин
– Лыков
– Левин
– Левин
– Лыков
– Левин
– Хорошая проба у Ярмольника, но Левин больше подходит.
Сказывалось всё: личные симпатии (немаловажно – с этим артистом предстоит жить весь съемочный период), вкус, знание германовских установок, впечатление от повести и сценария. Ярмольника почти не называли: в общем представлении Румата был моложе, легче – не такой, совсем не такой. Так что звучали в основном две другие фамилии. Все помнили, что Ярмольника Герман вызвал «так», для разминки, и скандалы их тоже помнились, так что называть его было, в общем-то, бессмысленно.
Прицкер сказал: «Ярмольник», никак не комментируя.
Я сидел за Евгением Давидовичем и смотрел на Германа – полная неподвижность, застывшее лицо и остановившийся взгляд. Он висел, как батискаф, на такой глубине, что сверху – ни волн, ни пузырей. Так прислушиваются к неразличимо далекому, когда сквозь человека проходит время.
– Ну?
– Что ну?
– Злобин, скажешь что-нибудь?
– Что? Левин, пожалуй, Ярмольник… или Лыков.
Кто-то прыснул в углу, а директор Марина Сергеевна посмотрела на меня с бухгалтерским негодованием: «За что этому Злобину полгода платят?»
Герман, кажется, тоже не очень был доволен моим ответом и начал потихоньку сопеть:
– Лёшка, меня любить – это не профессия, определи точнее – кто?
– Левин, Лыков, Ярмольник… я не знаю!
Кармалита, взглянув на меня, как Давид на еврейское войско, дрожащее перед Голиафом, резюмировала:
– Лёша, совершенно бесполезно определять, кто из них лучше, кто хуже. Что-то не получилось у всех – не проросло еще, а в чем-то каждый взял верхнюю планку. Уровень выбирать не приходится, каждый – главный герой. И выбирать предстоит не артиста, а фильм, вот и выбирай:
Лыков – приключенческий азартный фильм в духе «Трех мушкетеров».
Левин – сказка про прекрасного принца, ближе всего к Стругацким.
Ярмольник – это об отчаявшемся и циничном человеке, это – страшное кино, без надежды.
– Света, а мы не повторим «Хрусталева», если будет Ярмольник?
– Нет, не повторим.
– А сама ты, котинька, за кого?
Он слегка улыбнулся, но взгляд напрягся, как крючок, наживку которого тронула рыба:
– Ну и?..
– Я, Лёша, за тебя – тебе решать.
– Вот ведь хитрая гуцулка…
Левин и Лыков блистательно оправдывали ожидания. Ожидания зрителей – 90 % успеха картины.
Ярмольник переворачивал все представления о герое, и он не был ни шутом, ни клоуном – Герман ошибся.
Но он и хотел ошибиться.
Думал неделю.
Выбрал – Ярмольника.
А я еще тогда на сборе ахнул – какая же Кармалита умная.
И еще: оказывается, фамилия у нее – не итальянская.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?