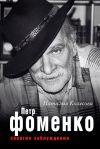Текст книги "Яблоко от яблони"
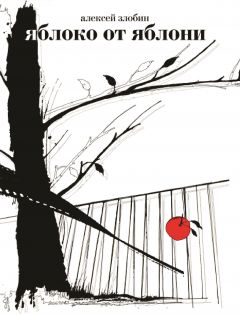
Автор книги: Алексей Злобин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я решил.
Тем более что в этот день мне не удалось собрать достаточного количества бутылок.
Седой и красивый продюсер Виктор Михайлович Извеков назначил громадную ставку на испытательный срок – восемь моих зарплат в театре:
– Вот, молодой человек, для начала 200 долларов, потом посмотрим.
– А можно аванс, рублей пятьдесят? А то я сегодня не завтракал.
В первый месяц работы понял ошибку своей пробы – нельзя спешить, надо было, невзирая ни на какие условия, снимать до победного результата. Иначе и снимать ни к чему.

На пленэре

Июнь 99-го. В прогретом студийном дворе ждет «микрик», подбегаю первым, сажусь с водителем.
– Молодой человек, пересядьте в салон – это место оператора-постановщика, – ворчит незнакомая согбенная старушка.
Неловко лезу в салон, там уже Герман, Кармалита с корзиной, Илья Макаров, Валера Мартынов, директор Марина Сергеевна и эта, не знаю кто.
– А ты, Валера, вперед иди.
– Да ладно вам, я тут посижу.
– Валера, меня уже жизнь согнула, не тебе разгибать – иди вперед.
Противная какая. Валера пересаживается. Поехали на выбор натуры.
Интересно – катишь по знакомым с детства местам, но все теперь наполняется новым содержанием. На побережье под Сестрорецком топчем песок, бродим в камышах, Валера фотографирует круговые панорамы.
Короткий переезд, выруливаем на шоссе.
– Ну что, Беллочка, как ты? – мягко спрашивает Герман.
– Ох, Лёша, тяжело без Исаака, даже попрощаться не успели…
Эта старушка-«пересядьте», оказывается, знаменитый художник кино Белла Семеновна Маневич, вдова не менее знаменитого Исаака Каплана: «Старик Хоттабыч», «Шинель», «Дама с собачкой», «Плохой хороший человек», «Труффальдино из Бергамо», «Три толстяка», «Белое солнце пустыни», «Приключения принца Флоризеля», «Шерлок Холмс», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Торпедоносцы» – их легендарные картины.
Обратной дорогой остановились в ресторане:
– Обед!
Все заказывают шашлыки, пиво, солянку. А у меня денег двадцать рублей – беру с независимым видом картошку фри, сажусь в углу, поливаю бесплатным кетчупом, жую. Илья Макаров выгреб из своей тарелки половину шашлыка:
– Ты что ж как птиц какой-то клюешь?
– Не заработал на шашлык.
– Мы же на работе, обед за счет картины.
Тогда я взял солянку и шашлык – мне нравится работать в кино.
За соседним столиком Герман, Валера Мартынов и Белла Маневич:
– Виктор Некрасов по радио хвалил «Лапшина» и выразил сожаление, что не знаком со мной лично. Ну надо же, не знаком! Да я его на себе тащил пьяного в хлам от студии до «Астории», а он – не знаком!
– Лёша, а ты был в партии?
– Опомнись, Беллочка, с какого перепугу? Отец все негодовал, что я не иду в комсомол и в партию не вступаю. Я сказал ему: «Папа, я уже отдал этой партии самое дорогое, лучшее, что у меня есть». «Это что же, интересно знать?» – спросил отец. «Тебя, папочка!» Он расхохотался, я тоже. Да и фамилия у нас непартийная – Герман. У тебя, кстати, Беллочка, тоже непартийная фамилия: пока не вышла за Исаака, еще куда ни шло – Маневич, а уж когда стала Каплан…
– И имя, Лёша, у меня было другое.
– Какое?
– Берта.
– Потрясающе, Берта Каплан – как раз в партию! А знаете, что значит «Герман»? Так немцы называли подкидышей. У нас, например, подкидышам и сиротам в приютах давали фамилию Родин, Родина. Мол, нет родителей – Родина тебе родитель. А у немцев – Герман.
– И что же это значит – Германский?
– Нет: Герр – Господь, Манн – человек.
– То есть богочеловек?
– Нет – Божий человек. И отчество свое я менял, когда поступал в театральный, чтобы не по блату получилось, не за папины заслуги, папа же был известный писатель, а я назвался Георгиевичем. Но они все равно догадались. Мама очень меня не хотела, чего только не делала: и йод пила, и тяжести поднимала, а я все равно как-то уцепился и остался. Божий человек, но по сути – подкидыш.
Через два дня едем в отобранные камыши снимать заготовку под графику: великан-солдат на берегу залива и мальчик с огромной рыбиной на плече; мальчик смотрит в кадр, на нас – из дальнего инопланетного прошлого.
Герман хочет, чтобы над водой за фигурами статистов пролетели утки. Утки сидели справа в камышах, их следовало поднять и объяснить, чтобы летели по кадру.
Мне дают ружье-двустволку, высокие рыбацкие сапоги, и я лезу в воду с рацией на поясе.
– Как ты там? – интересуется Макаров.
– Первый раз на охоте, Илья Михайлович.
– Ну, жди команды.
Проходит полчаса, Герману все не нравится выражение лица рыбы, огромного сома, купленного утром на Ситном рынке. Долго вертят рыбину на плече мальчика, тот уже сгибается и стонет, а Герман хочет видеть в кадре мертвые рыбьи глаза, чтобы сом в кадр смотрел, но сом сползает, никак не желает пялиться в кадр из далекого своего прошлого.
– Приготовились, – предупреждает в рацию Илья.
Вскидываю ружье, утки поднимаются с воды и летят в противоположную от кадра сторону. Стреляю.
Герман в бешенстве выхватывает у Ильи рацию и, не нажав на кнопку, орет так, что мне и без рации отлично слышно:
– Злобин, почему уток не было?
Отвечаю в рацию:
– Но это же утки, Алексей Юрьевич, птицы, они же…
– Не пудри мне мозги, я поставил задачу – утки в кадре, и ты пошел эту задачу выполнять, где утки, я тебя спрашиваю?!
– Летят к вам, Алексей Юрьевич.
Стая уток дает круг над заливом и летит в их сторону.
– Камера! – грохочет Герман.
– Лёша, только теперь не стреляй, – шепчет Илья в рацию, – а то они испугаются.
– Они скорее Германа испугаются, при команде «камера» уже две в воду грохнулись, – шепчу я в ответ.
– Тихо, мать вашу! – орет Алексей Юрьевич. – Спугнете!
Стою по пояс в воде и с замиранием сердца слежу за траекторией полета этих любопытных уток, видимо завороженных воплями Германа.
– Смотри в камеру, Данька, не падай, держи рыбку, разверни ее на нас. Солдат, снимай штаны и ссы в залив! – Это была импровизация, но напуганный двухметровый баскетболист в костюме солдата тут же спустил штаны и дал струю.
Солдат писает, мальчик смотрит, рыба глядит в камеру, на дальнем плане медленно пролетают утки – благостная тишина летнего средневекового утра.
– Снято! Лёшка, вылезай.
Потом он шутил:
– Знаешь, одна утка подлетела и крякнула гневно: «Не ругай Злобина, он молодец!» – и улетела, насрав мне на плечо.
Alma mater: Портрет в контрастном свете

Илья Макаров закончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа, он был учеником Музиля. И мой отец учился у Александра Александровича, а потом многие годы работал педагогом в его мастерской. И Герман учился у Музиля. Для Ильи «Сансаныч» не был священной коровой, а для меня был. «Музиль» звучало сразу, как только отец начинал говорить об институте, о режиссуре, о ремесле. Так теперь я всякий раз поминаю Германа, а жена моя, Ира, говорит: «Добрый вечер, Алексей Юрьевич!» – с тоской предчувствуя давно не новый разговор о профессии.
Мы сразу подружились. Илья Михалыч – мягкий, спокойный, большой, с низким голосом. Мы ходим в шалман у Мюзик-холла пить пиво, ездим к Илье на дачу в Репино, без конца говорим о кино и театре. Я рад его старшинству, меня-то Герман не взял на это смертельное место главного ассистента, и кто бы мог на него прийти? Илюша – лучший вариант: одного среза, одного круга, мы сработались. Он репетирует с типажами, а я кручусь с камерой на плече, учусь снимать: настоящая хорошая работа – смотреть на человека через объектив.
– Илья Михалыч, – Герман прокашлялся, – ищите типажи с полными, а не с пустыми глазами, понимаешь?
– Нет, Алексей Юрьевич, объясните.
– Я должен взглянуть на человека и сказать: этот настоящий, из средневековья, его глаза меня не отпускают, цепляют, влипают в душу.
– А если меня цепляют, а вас – нет? Это же субъективно, Алексей Юрьевич.
– Не субъективно! Вот, взгляни на Злобина, – и он тычет в меня пальцем, – вот глаза: легкое безумие во взоре и царапают, видишь?
Илья смущенно смотрит на меня, я на Германа – вот уж безумный взор.
– Пожалуй, вижу, извини, Лёша, – неуверенно басит Илья.
– Ничего, – улыбается Герман, – привыкнешь, намечешь глаз.
Потом я долго смотрю в зеркало – лестно, конечно, но все равно непонятно.
– Ребята, я придумал, что когда Румата едет по Ируканскому лесу, то болота вокруг горят фосфоресцирующим огнем. Валера, – Герман обращается к оператору, – нам надо снять пробу, как горят болота.
– А кто будет Руматой, вы же отстранили Лыкова?
– Да вот пусть Лёшка Злобин и будет.
– Алексей Юрьевич, я не уверен, что хорошо смогу ехать на коне, да еще по горящему болоту.
– Ну, будешь стоять, а болото будет гореть. Посоветуйтесь с пиротехниками и снимайте пробу.
Я представил себя посреди полыхающего болота, тревожное лицо пиротехника, который, как всегда, что-то не рассчитал, убегающую от пожара группу. Пробу назначили на полигоне в Сертолово.
Накануне ночью мы с Ильей Михалычем на Марсовом поле пьем водку, глядим на разводящийся Троицкий мост:
– Не бойся, Лёха, где наша не пропадала!
Чокаемся пластиковыми круглыми футлярами от пленки – благо их в сумке полно – каждый день щелкаем типажи: случайных прохожих, специальных бомжей, завсегдатаев Публичной библиотеки – фиксируем царапающие душу, полные легкого безумия взоры. У меня старый дедовский «Canon», еще военный, механический, снимки получаются мутноватые, но очень выразительные.
Под утро сводят мост, и мы идем на Петроградскую сторону к Илюше в гости допивать водку. Оказывается, семья уехала на дачу, а ключей от квартиры нет. Я лезу по водосточной трубе в распахнутое окно на второй этаж, как огромный комар проникаю в квартиру, и мы допиваем все, что находим.
Ночью на полигоне обрядили в двадцатикилограммовый костюм Руматы, поставили перед камерой, зажгли газовые подводки во мху – слабо горит. Залили все спецжидкостью, зажгли – хорошо.
– Внимание, снимаем! – командует Илья Михалыч.
Передо мной повисает хлопушка с надписью «Трудно быть богом», вокруг бушует совсем не фосфоресцентное пламя, а какой-то пожар во ржи, и я думаю: «Как же бежать-то? если что, я и повернуться с трудом могу».
– Лёша, встань боком для выразительности, чтобы блики по лицу играли.
– Знаешь, Валера, что я тебе скажу, – отвечаю оператору сквозь хлопушку…
– Что, Лёша?
– Трудно встать боком, понял?!
Все хохочут, трясется хлопушка, потом исчезает, я стою в огне, по лицу блуждают выразительные блики.
Каждый день мы встречаемся в режиссерской комнате № 37 и проводим мозговой штурм на тему «где ж искать эти типажи». Люди с непустыми глазами, оказывается, редкость, жемчуг, за которым нужно нырять.
Уже прошарены рынки, вокзалы, курилки библиотек, в которых каких только лиц не встретишь, клиники умалишенных, интернаты даунов, прочесаны театральные труппы, перетрушены-переспрошены все знакомые. Еще до нас германовские стажеры объездили театры Поволжья, Прибалтики и Центральной России – десятки типажей в костюмах и гриме заполнили стенку режиссерской комнаты, сотни осели в картотеке, тысячи – на видеокассетах, а ему все мало. Мы не представляли, с какой густотой пойдет этот материал в картину. Готовилась экспедиция в Сибирь, ассистенты слали материал из Москвы, а мы ломали головы, перебирая, кого еще можно зацепить в Питере.
– А что сейчас делает Кирилл Черноземов, жив ли? – спросил Илья.
Казалось, уже полностью девальвировала питерская «театральная легенда», иссяк ее «золотой запас». Стерлись имена, при упоминании которых мгновенно вспыхивала мысль о недосягаемой артистической планке. Безвременье сыграло на понижение, всеобщая демократизация обернулась пошлостью, отказалась от театральной элитарности. Но если «культура» подразумевает культ, то скучен и страшен культ бессодержательного. Созвездия поблекли, засверкала в обманных лучах искусственная мишура. Удел самодеятельности – поделки, воцарившейся самодеятельности – подделки. Газеты и журналы по инерции жевали превосходные прилагательные «великий», «несравненный», «знаменитый», но эти определения были уже инструментами рекламы, зазывными криками, а не бескорыстным возвышающим поклонением. Ушли Товстоногов, Стржельчик, Лебедев, Борисов, Смоктуновский – из великого БДТ. Ушли Симонов, Толубеев, Меркурьев, Черкасов, Вивьен, Музиль – из великой Александринки. Оставив заглавное «К» на Театре Комедии, ушел Николай Акимов. Плеяда знаменитых педагогов пронеслась на выход мимо зашторенного парадного зеркала вестибюля ЛГИТМиКа, после чего институт переименовали в Академию театрального искусства. Ушли легендарные драматурги, завлиты, теоретики театра. Осиротевшая театральная моль под прощальные аплодисменты роем покинула пыльный бархат кулис и рассеялась по антикварным лавкам.
Словом, Время – ушло.
Можно закрыть глаза и прислушаться – никого. Только где-то у перекрестка Белинского и Моховой чья-то шаркающая походка. Идет, ссутулившись, в потрепанном тяжелом пальто с поднятым каракулевым воротником, в нахлобученной на лоб кроличьей шапке диккенсоновский персонаж в очках, на разношенных ботинках калоши, в руке сетка-авоська с газетой и книгами. Останавливается у глазной больницы перед стендом, долго близоруко рассматривает афиши, к нему подходят два милиционера, они приняли его за бомжа: «Документы предъявляем, паспорт, прописку – живо!» Он неспешно шарит по карманам, достает потерявшие цвет корочки, менты читают: «Черноземов, Кирилл Николаевич – профессор Санкт-Петербургской консерватории». Он шаркает дальше, открывает тяжелую дверь Театралки. За его спиной заносит ранним снегом парный памятник «Недоумение» – в милицейской форме, с широко раскрытыми глазами, полными пустоты.
Человек-театр, живая легенда, чудак и гений в своих неизменных калошах, с авоськой, штаны на подтяжках, пиджак с расползшимся на спине швом, светлая рубаха коси́т – рассеянные пуговицы ошиблись петлями; сутуловатый, с надсаженным сиплым, но сильным голосом – преподаватель сцендвижения. Его называли с большой буквы – Профессор, Мастер, Учитель. Повезло тем, кто успел у него поучиться, мне повезло еще больше – он дружил с отцом, был близок с кругом его учеников, моих старших друзей. Выдающаяся внешность, мощное мужское обаяние, искрометный интеллектуальный (умный) юмор. Он знал высокую силу шутовства и был человеком не нашей, а прошедшей, грандиозной эпохи, он сам был эпохой.
Пластическая сторона театра, минуя мутные фильтры его психологизации и ложного реализма, сохранила главный театральный ген – ген Мима, Лицедея, Шута (в шекспировом, трагическом смысле). В истощенных клетках исторической памяти как-то удержалась тайна театра – у его истоков стояли жрецы. Вот его суть, а уж потом все слова, написанные авторами всех времен и народов – от Эсхила до Софронова. Кирилл Николаевич знал цену смеху и знал его природу. Однажды в умной телепередаче с академиком Панченко говорили о смеховой культуре средневековья и русском юродстве. На встречу в качестве достойного слушателя пригласили Кирилла Черноземова. Панченко был ученый слова, текста, идеи, а Черноземов – мастер тела, действия, акта. Увлекательный диалог быстро перерос в монолог – Александр Михайлович испытующе внимал тому, что не говорил, а творил Черноземов, державший в своих огромных ладонях ткань, вещество, трепещущую материю поднятой темы.
Мы прекрасно знали его работы в фильмах, где плащ и шпага, этикет и ритуал, танец и поклон притягивали зрительскую душу невероятным восторгом подлинного театрального праздника. Кто слышал, как Черноземов читал «Каменного гостя» или монологи Барона из «Скупого рыцаря» или Сальери, тот не забудет этого предельного высказывания, этой ликующей правды театра. При нем как-то исчезал вопрос о системе, основах, методе – он заражал собой однажды и навсегда.
Когда Козинцев снимал «Гамлета», Черноземова позвали в дублеры к Смоктуновскому – Кирилл Николаевич блистательно фехтовал. Всякий раз, пересматривая фильм, я слышу, как Иннокентий Михайлович «влипает» в неожиданную интонацию. Они подружились с Черноземовым, вместе репетировали монологи, и на финальных строках монолога о флейте: «Но играть на мне нельзя!» – я буквально вздрагиваю от узнаваемости.
– Илья, Кирилл Николаевич тяжело болеет, но даже если здоровье позволит, ни за что не пойдет сниматься.
– Почему?
– Был неприятный эпизод на «Молохе».
– Какой эпизод?
– Гитлера играл Леонид Мозговой, Черноземова он считал своим учителем. Шел подготовительный период – пробы грима, подбор актеров, Александр Николаевич…
– Сокуров.
– Да, Сокуров, репетировал с Мозговым слияние.
– Это как?
– Взяли речь Гитлера, снятую Лени Рифеншталь, долго изучали жесты, лающую ритмику фраз, акценты – он был еще тем артистом.
– Мозговой?
– Нет, Гитлер, а нам нужно было повторить. Мы заперлись в группе, поставили два монитора, один перед Леонидом Павловичем, другой передо мной, – и пошли «снимать» гитлеровскую манеру, знаешь, что поразило? Активная артикуляция и совершенно неподвижный лоб, он не хмурил брови, не морщился: застывшая верхняя часть лица, глаза неподвижны, а руки машут, и рот распахивается в крике – потрясающее воздействие, гипнотизирует. Потом Геббельса посмотрели – то же самое. И вот уже все роли распределили, эскизы утвердили, декорации строить начали, уже съездили в Альпы в Кельштайнхауз и сняли заявочные планы. Но не было решения по одному персонажу. Помнишь: к Гитлеру приходит священник просить за сына, чтобы не отправили в Сталинград…
– Да, Шведерский его играл в таком рембрандтовском освещении.
– Это потом, сначала играл Черноземов.
– Не понял?
– Когда перебрали все кандидатуры и уже головы сломали, Леонид Павлович предложил Черноземова. «Блестящая идея, – сказала Татьяна Комарова, ассистент по актерам, – он и мой учитель, как самой в голову не пришло?» «Точно», – поддакнул режиссер Сергей Ражук. «Золотое предложение, – прошептал Сокуров, – а сможет? Не старый, здоровье позволит? Большой монолог на немецком языке? Лёша Злобин, съездите, пожалуйста, к Кириллу Николаевичу, поговорите с ним – это была бы большая честь для нас».
Я взял камеру, поехал в театралку. Май, жара, тополиный пух. Черноземов у себя на кафедре пил чай. Расспросил о съемках, полистал текст на русском, взял немецкий – учить. «Не беспокойтесь, Кирилл Николаевич, – там замечательная переводчица, она поможет».
Через день я заехал за ним на Гороховую, помчали на «Ленфильм». Как только они с Сокуровым встретились, Кирилл сразу стал рассказывать свое представление о роли, блистательно, как всегда. Сокуров слушал, потом жал руку, благодарил, а когда Кирилл Николаевич ушел, сказал: «Какая самоуверенная банальность».
Мы оторопели. Позже, в съемках, я понял: при Сокурове не надо говорить. Монолог Кирилла был режиссерский. Сокуров с артистами работал интуитивно – тихо и проникновенно заборматывал их. Можно не задумываться над смыслом сказанного, важна сама завороженность, включенность в его бормочущую интонацию. И вдруг эти искрометные определения, бурлеск анализа, восторг слушателей. Черноземов волновался, он «бился за роль», предлагая свое понимание, а биться не надо было, и свое понимание было ни к чему – с Сокуровым не обсуждают, Сокуровым заслушиваются.
Если бы Кирилл Николаевич сказал два слова: «Вы гений» – и больше не проронил ни звука, реакция, вероятно, была бы другой: «Какой тонкий, какой глубокий человек».
Я это видел не раз.
Сокуров кропотлив, интуитивен, я не раз удивлялся его догадкам, но Герман мне ближе, ему нужен весь человек, какой он есть, с потрохами. И если оба живут в своем уникальном мире, я выбираю тот, которому я небезразличен. Герман создает среду, где живет сам. Сокуров мажет фон. И для него все – фон: и декорация, и музыка, и шумы, и актер… И на фоне этом он сам – с подчас гениальной догадкой и каким-то случайным, будто оброненным юмором.
– Это все?
– Нет, не все. Сокуров Черноземова утвердил.
– Неужели?
На съемку приволокли огромное зеркало, решили все снимать в отражениях. Долго возились, потом бросили зеркало и сняли заявочный план, как священник приходит. А потом начали монолог, и вновь пошла возня с зеркалом – часами. Черноземов очень волновался, немыслимая духота, марево от приборов, а у него давление и возраст. Тут с этим зеркалом консилиум, вспоминают физику: «угол падения», «угол отражения», «а как развернуть?» Он извелся и забыл текст. Команда «начали», а Черноземов не помнит и не слышит подсказок переводчицы. Камера идет. Кирилл Николаевич нелепо как-то раскачивается и что-то невнятно бормочет, лицо руками закрывает. Так и сняли, и он пошел, шаркая, из павильона. «Александр Николаевич, – подбежала Таня Комарова, – ну хоть поблагодарите Учителя!» – «О чем вы, Таня, он мне съемку сорвал!»
Мы пошли Черноземова провожать, чаем поили, посадили в машину, он: «Простите» – и уехал.
– Не сыграл, значит, Кирилл?
– Сыграл, еще как. Через два дня привезли отснятый материал – много, по нескольким сценам, в том числе и со священником. Собрались в просмотровом зале. Вот Лена Руфанова – Ева Браун, одетая в чулок, у нее такой костюм «ню» – по парапету гуляет. Магда Геббельс – Леночка Спиридонова, брезгливо морщится пошлой шутке фюрера, Борман Гитлеру завтрак готовит… вдруг что такое – темный материал пошел: Кирилл Николаевич наклоняется к Леониду Мозговому, беззвучно шевелит губами – огромный, с колоссальной лепкой лица, с жалкими испуганными глазами, – бормочет и кланяется при каждой фразе. Текст под бормотание какой угодно подложить можно, что обвинение, что мольбу. Суть выявлена: перед Гитлером, перед этой сошкой зализанной, такая личность унижается – страшно. Но оператор переборщил в экспериментах с фильтрами, не рассчитал диафрагму, а еще это зеркало – как оно на чувствительность влияет, какие у него там фракции, – одним словом, брак. А Кирилл сыграл гениально!
И тихий в охолонувшей тишине просмотрового зала вопрос к оператору: «Алексей, можно как-то вытянуть изображение?» – «Александр Николаевич, дело в том, что…» – «Алексей, можно как-то вытянуть изображение?» – «Думаю, что не получится…» – «Алексей, можно как-то вытянуть изображение?» – «Нет, нельзя, Александр Николаевич, вы же видите, вы же сами оператор – нельзя!» – «Алексей…» – «Да нельзя, я сказал же!» – «Не кричите, я не вам. Злобин, Лёша, поезжайте к Кириллу Николаевичу и просите, слышите, просите его пересняться. Видите – у нас материал в браке».
– Ну что, поехал?
– Нет, позвонил. Он отказался, сослался на самочувствие, сказал, что сердце болит и больше не может. Вот тогда позвали Анатолия Самойловича Шведерского, поставили роскошный рембрандтовский свет – и сняли без всяких зеркал и чулок.
– Да, история, посмотреть бы этот материал.
– Где уж теперь…
– Алексей Евгеньевич, пошли водки выпьем, а потом поезжай к Кириллу Николаевичу да привези его к нам на пробы – порадуем Германа.
Это было важно. И то, что Черноземов подошел к телефону: «Прости, Лёша, я подвел тебя тогда с Сокуровым…» И то, что решился приехать на студию.
Илья ждал, и гримеры, и костюмеры ждали.
Мы посадили его на ящик во дворе за павильоном, на фоне кирпичной стены, снимали на фото, на видео – где теперь эти пробы?
Герман посмотрел:
– Да, хорош Кирилл, очень хорош… но сможет ли?
– Не сможет, Алексей Юрьевич.
– То-то и оно, обидно – замечательное лицо.
Больше мы с Кириллом Николаевичем не виделись, если не считать короткой прогулки по комаровскому кладбищу, трех тихих минут у его памятника. Об одном жалею, не рассказал ему, как замечательно он сыграл тогда, – не хотел огорчать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?