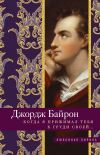Текст книги "Звезды падучей пламень"

Автор книги: Алексей Зверев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Печорин, еще не предвидя последующих событий, пророчил, что к старости Грушницкий сделается либо мирным помещиком, либо пьяницей, либо тем и другим сразу. Резоны для таких предположений давал сам юнкер, давала обычная судьба людей подобного толка. И все же это было выражено слишком зло. Действительно драматическое понимание эпохи и себя самих в этой эпохе, то есть какой-то отблеск байронизма, когда он был не манерничаньем, а духовной сущностью человека, присутствует даже и в Грушницком, готовя его жалкий и страшный конец, лишь внешне выглядящий как результат стечения случайностей. Но в Грушницком черты байронического героя неестественно укрупнились и приобрели ясный оттенок жеманства, чтобы не сказать – паясничанья.
Повинен ли в том лишь достаточно ничтожный характер этого лермонтовского персонажа или часть вины лежит на самом байронизме? Да, человек, давший имя какому-то значительному и длительному духовному поветрию, вовсе не обязан впрямую отвечать за все те перевоплощения, которые способна приобрести его заветная мысль стараниями плоских имитаторов. Но если идеи постепенно мельчают и опошляются, дело не в том, велик ли на них спрос, дело в них самих, в их сути.
Гарольд стал символом эпохи не по чьему-то капризу, а оттого, что в нем эпоха осознала саму себя. Он был не только необычным в литературе героем, он оказался и личностью совершенно нового типа, просто не существовавшего до тех потрясений, какие последовали за 1789 годом. Он истинный сын своего века, и преследующая его тоска вызывает немедленный сочувственный отклик, потому что мы за нею четко различаем общественную ситуацию, вызвавшую к жизни именно это настроение, определившую именно такой строй понятий.
Однако ситуация меняется, и ничто не может остановить движения жизни, и по-новому ощущает себя личность в новых условиях действительности, и другие коллизии начинают направлять ход событий. А «мировая скорбь» неизменна уже по той причине, что она мировая, то есть во всем мире не находящая ничего, что способно ее поколебать. На какой-то момент она совпадает с реально существующим положением вещей – так было во времена Байрона, так не раз случалось и впоследствии, и поэтому Гарольд, точнее, тот комплекс настроений, который с ним навсегда связан, принадлежит не одной лишь своей эпохе, а вечности.
У Гарольда есть блистательные литературные предшественники – Гамлет, Вертер – и не менее замечательные восприемники: Печорин лишь наиболее последовательный и яркий. Но ни до появления этого персонажа, ни в более поздние времена не было настолько прочного единства психологических побуждений, вызванных упорно преследующей человека мыслью, что он в разладе со всем миропорядком, и условий действительности, которая внушала именно скорбь – причем не как частное мироощущение одиночки, а как чувство до какой-то степени неизбежное, направляемое всем характером тогдашней жизни.
Вот почему «мировая скорбь» Гарольда, да и других байроновских персонажей, органична, неподдельна и не может быть объяснена только их «несчастным характером». Но по тем же самым причинам она, повторенная в схожих, тем более – неотличимых формах, становится своего рода игрой, бездумным подражанием знаменитому литературному персонажу. И тогда байронизм оборачивается мелкой, тщеславной самовлюбленностью Грушницкого, а разочарование начинают «донашивать», словно добротный, но уже не самого современного покроя костюм. Лермонтов написал об этом в «Герое нашего времени» – всего через четверть века после «Чайльд-Гарольда».
В истории идей такие перепады не редкость, и вот ими идея испытывается по-настоящему: остаться ли ей всего лишь временным увлечением, пусть охватившим даже лучших представителей того или другого поколения, или же она войдет в общественное сознание прочно и многое в нем будет определять – даже через десятки лет. Разными своими проявлениями байронизм давал себя почувствовать, когда самого Байрона уже давно не было на свете. Но важна не столько длительность влияния, сколько его сущность. А думая о сущности, примем во внимание, что Грушницкий, как ни типичен он, как ни необходим в «Герое нашего времени», все-таки персонаж второго плана, а центральное положение по всей справедливости занимает в лермонтовском романе Печорин. И что Печорин – это, среди многого другого, самый глубокий и точный портрет байрониста, какой создала мировая литература. И что для Лермонтова заглавие его книги вовсе не звучало иронически, хоть он и представлял себе читателей, которые заподозрят злую иронию, поскольку героем времени признан и назван Печорин. И что через всю литературу прошлого века, русскую и европейскую, пройдет история «лишнего человека», гонимого странника, личности, родившейся под несчастливой звездой и вечно побуждаемой к исканиям без ясной цели, к духовному беспокойству, горечи, злости, к мечтательности, к тоске, которую Байрон назвал язвительной, а Лермонтов – наверно, справедливее – пророческой.
«Чайльд-Гарольд» стал вступительной главой этой большой книги, созданной талантом многих писателей и до какой-то степени отразившей самую суть XIX столетия, а нам, сегодняшним ее читателям, оставившей простор для размышления, потому что не решены – и, может быть, до конца никогда решены не будут – духовные коллизии, над которыми бились ее герои.
* * *
Впечатление, которое произвели две первые песни «Чайльд-Гарольда» в лондонском обществе, трудно описать. Байрон ничего подобного не ожидал. Это был триумф безоговорочный и блестящий. Такого, кажется, не помнили даже историки литературы.
Лишь некоторое время спустя, когда страсти чуть улеглись, стало проясняться, что своим успехом поэма была обязана не только заглавному герою, чье имя немедленно сделалось нарицательным. Герой, разумеется, пленял своей нешаблонностью, пусть противников у него нашлось, по крайней мере, не меньше чем приверженцев и подражателей. Потом увидели, что не одни лишь эпизоды, где читатель непосредственно общается с Гарольдом, но и вся поэма отличается до дерзости необычным художественным решением. Кого-то оно покорило, а других возмущало, но его новизну не мог оспаривать никто.
Это была новизна, которую принес в литературу романтизм. Английский раздел его истории, уже довольно обширный, все-таки приобрел европейское значение только с «Чайльд-Гарольдом».
К тому времени романтизм становился в Европе преобладающим литературным направлением. Истинной его родиной была Германия, истинным философским источником – идеи великих немецких мыслителей-идеалистов: Иммануила Канта и в особенности Фридриха Вильгельма Шеллинга. А событием, которое вызвало его к жизни, конечно, явилась Французская революция.
Прошлое умерло, но будущее не наступило – так ощущали романтики свою эпоху, и представление, что распалась связь времен, было общим для них всех. Революцию сравнивали с извержением вулкана – пепел рассыпался по всему Европейскому континенту, и ураган бушевал от Карпат до Пиринеев. Старый мир лежал в развалинах; понятия, которыми он жил, обанкротились, прежние нормы отношений обнаружили свою искусственность и ложность.
Существование его не могло, не должно было продолжиться после громадной встряски 1789 года. Однако, вопреки логике и надежде, оно продолжалось. Скорбь – «мировая скорбь» – становилась естественным откликом на подобное положение вещей, способное пробудить либо отчаяние, либо иронию, насквозь пропитавшуюся скептическим неверием ни в перспективы общества, ни в том, что человеку дано каким-то образом изменить порядок жизни.
Настроения эти углублялись по мере того, как наполеоновский «деятельный деспотизм» все увереннее направлял мощный поток революции в русло имперских надобностей, а юная Французская республика склонялась под «ярем державный», силою налагаемый и на прочие «земные племена».
Пушкин, которому принадлежит этот образ, откликнулся в 1821 году на смерть Наполеона строками, оплакивающими «новорожденную свободу», обличениями резкими и гневными:
Ты вел мечи на пир обильный;
Все пало с шумом пред тобой:
Европа гибла; сон могильный
Носился над ее главой.
А год спустя, обращаясь к другу своих кишиневских лет, «первому декабристу» В. Ф. Раевскому, Пушкин писал о посленаполеоновской Европе:
Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
А человек везде тиран, иль льстец,
Иль предрассудков раб послушный.
У Байрона те же мысли прозвучали еще раньше, в «Чайльд-Гарольде», когда после четырехлетнего перерыва он за него вновь принялся весной 1816 года. Начиная с третьей песни, в поэму все шире входит политика, и не частностями, а коренными вопросами, которые она выдвигала.
В Париже вновь воцарились Бурбоны, а Европу пытались вернуть к тому состоянию, в котором находилась она до только что отгремевшей грозы. Последними раскатами этой грозы стали Сто дней Наполеона, бежавшего из ссылки на итальянский остров Эльба. Потом были Ватерлоо и другой, куда более отдаленный остров: Св. Елены, у африканских берегов.
Сама тень Наполеона страшила победителей; они хотели заглушить всякую память о революции. Но кто же из думающих людей мог всерьез полагать, будто эта память исчезнет, а история потечет дальше, словно ничего не случилось!
Пускай из сердца кровь уже не льется,
Рубец остался в нем на много лет…
И в «Чайльд-Гарольде» распознается ясный след размышления поэта об уроках великой эпохи, ознаменованной революцией во Франции. О том, как могло произойти, что восставший народ «не сумел в свободе укрепиться» и, ослепленный властью, «забыл он все – и жалость, и закон». О том, что проигранная битва – еще не конец сражения за будущее, ведь «страсть притаилась и безмолвно ждет». И о беспредельно горьких истинах, которые, однако, невозможно позабыть, обращая взор в недавние времена, когда «мир таким заполыхал огнем, что королевства, рушась, гибли в нем»:
Все прошлое низвергли. Для чего?
Чтоб новый трон потомство основало,
Чтоб выстроило тюрьмы для него
И мир опять узрел насилья торжество.
Для романтиков подобный исход переворота, начавшегося на площади перед Бастилией, оказался тяжелой духовной травмой. Они верили, что в тогдашних муках разгорается заря свободы для всего человечества. А на самом деле происходила лишь смена отжившей феодальной формации, которая уступала место формации буржуазной, столь же, если не еще более далекой от идеала гуманности и справедливости.
Законы этой формации романтикам оставались неясны. Однако ее враждебность всему человеческому, всему высокому они почувствовали обостренно. И выразили это безошибочное свое чувство горькими упреками времени, обманувшему их ожидания. Или, еще чаще, – мрачными и пугающими фантазиями, в которых реальная будничность общества, быстро становившегося буржуазным по своей сути, предстает как игралище демонических сил, как царство призраков, как близкое предвестие страшной, необратимой катастрофы.
Фантазия и романтизм породнены самыми тесными узами.
Иначе быть не могло, ведь для романтиков сама повседневность выглядела невероятной, неправдоподобной; после столь резкого и всем им памятного напряжения противоборствующих сил особенно угнетающе действовал застойный воздух буржуазной обыденности. Она внушала и страх, и ненависть. Она подавляла, мучила, доводила до исступления.
От нее пытались спастись в царстве грез, в легендах о седой старине или о счастливых краях, еще не узнавших цивилизации, которая означала лишь беззакония, нравственную пустоту и фальшь. Просто от нее отворачивались, стараясь замкнуться в переживаниях глубоко субъективных, однако и в этот мир сердечного воображения проникал холодный ветерок действительности. И тогда желанная идиллия, созданная романтической фантазией, которая уносилась очень далеко от реальных будней, рушилась, сталкиваясь с какой-то непостижимой, но обязательно злою силой. А обратившись к окружающей жизни, фантазия населяла ее образами странными и нередко отталкивающими: недостоверные житейски, они были глубоко достоверны как выражение романтического взгляда на мир.
Постепенно этот взгляд принял стройность и завершенность; тогда и укрепилась важнейшая для романтизма идея, что окружающая жизнь призрачна и неистинна, а действительные пропорции мира открываются лишь воображению. Для романтиков оно было вовсе не то же самое, что вымысел или фантазия. Еще и древние авторы знали, какой силой обладает поэтическая фантазия, сближающая предметы, как будто ничего общего друг с другом не имеющие: они совсем по-новому воспринимаются, волею художника оказавшись один рядом с другим. И вымысел всегда был свойством искусства – самый дерзкий, самый невероятный вымысел, позволяющий, например, послать Гулливера в государство, населяемое лошадьми, или представить, как хромой бес Асмодей срывает крыши с домов и узнает буквально все о людях, которые в них живут.
Романтики придумывали истории не менее удивительные и увлекательные. Например, немецкий поэт Адальберт Шамиссо рассказал о человеке, который потерял собственную тень. А англичанин Сэмюэл Тэйлор Кольридж – о птице-альбатросе, убитой моряком и потом его преследовавшей как возмездие. А вспомним американца Вашингтона Ирвинга, его новеллу об охотнике, хлебнувшем какого-то зелья, чтобы заснуть на много лет, а проснувшись, совсем не узнать родной деревни…
Но у романтиков фантазия – только ключ от двери, за которой лежит несравненно более просторный, безмерно более яркий мир воображения. Потому что воображение, как они его понимали, – это единственная возможность ощутить добро и красоту, являющиеся законом природы, и, поняв ее закон, сделать его обязательным для личности. Действительность, с которой человек сталкивается день за днем, травмирует его и своим убожеством, и своей хаотичностью. Однако за нею необходимо искать мир гармонии и одухотворенности – он заключен в природе, он таится и в самой человеческой душе. И если личность способна развить божественный дар воображения, этот мир станет ее неотъемлемым достоянием, возвысив человека над суетностью и ничтожеством повседневности.
В это романтики верили свято. Все бытие казалось им вечной борьбой жизни душевной, наполненной исканиями и никогда не успокаивающейся, – с косной, бесцветной, иссушающей внешней жизнью. Воображение и жизнь в обычном ее состоянии, устремления души, созидающей для себя блистательную гармоничную вселенную, и мелкие заботы обыденности, куда раз за разом приходилось опускаться с небес, – все это соединяется в романтическом произведении. В нем словно бы одновременно существуют два мира, отрицающих один другой, и такое двоемирие становится его художественным законом.
Вся первая четверть XIX века прошла в европейской культуре под знаменем романтизма. И в дальнейшем его влияние чувствовалось долго, хотя излюбленные романтиками мотивы и образы уступили место другим художественным представлениям. Осталось сознание, что романтизм произвел очень серьезную перемену в искусстве. Что он словно бы впервые открыл настоящие возможности, которые таятся в поэзии, живописи, музыке.
Для литературы это было великое время. И бесконечно богатое талантами, особенно поэтическими. Пушкин в годы своей южной ссылки, Лермонтов в лирике и поэмах, Генрих Гейне, Виктор Гюго, Адам Мицкевич, Шандор Петёфи, Перси Биши Шелли, Джон Ките, Эдгар По – когда еще одна и та же художественная вера соединяла стольких поэтов, отмеченных печатью гения!
Романтизм был явлением целостным: свои идеи он воплощал разными средствами, но не отступая от их существа. Тем не менее в культуре каждой страны он приобретал черты неповторимые. И это естественно. Ведь среди многого другого романтики утвердили и собственный, неповторимый взгляд на призвание художника. В человеке искусства для них не существовало разлада между творцом нетленной красоты и личностью, живущей заботами, тревогами, бедствиями своей родины. Творчество не мыслилось без самой непосредственной причастности к злобе дня. Романтизм оказывался больше чем искусством. Он становился философией жизни, кодексом поведения, принципом и формой существования.
Оттого Байрон встретил свой смертный час в Греции, поднявшейся на освободительную борьбу. Оттого Мицкевич отдал весь свой талант делу возрождения Польши. Оттого Петёфи сложил голову в бою, руководя восстанием против австрийцев, вспыхнувшем в Будапеште.
Типичные биографии поэтов-романтиков! Такие поэты не могли дышать воздухом библиотек. Им нужен был простор реального действия. Они были великими патриотами, чей патриотизм никогда не становился слепым и агрессивным. Вдохновляясь любовью к родине, они считали себя обязанными говорить о ней всю правду. Потому что иначе нельзя было расчистить путь к будущему.
Такая позиция сулила романтикам резкий конфликт с обществом. Немецкие обыватели не простили Гейне убийственных насмешек над их скудоумием, косностью и ничтожеством; поэт покинул Германию и умер на чужбине. В феврале 1830 года, на первом представлении пьесы Гюго «Эрнани» зал сотрясался от возмущенных криков и свистков: ретрограды почувствовали, какой заряд революционной энергии несут в себе монологи героев. Книги Гюго запрещали, а самого его травили; он тоже узнал боль изгнания. И другие романтики изведают такие же гонения и нападки: и Шелли, и Эдгар По, и Лермонтов. Поводы для клеветы изобретали разные, а судьба повторялась. Беспощадная и высокая судьба романтического поколения.
Каждый из его поэтов оставит долгий, нестираемый след в национальном самосознании, а нередко и в исторической жизни своей страны. Каждый прочертит в литературе собственную линию, которую не спутаешь ни с чьей другой. И, пересекаясь друг с другом, эти линии в итоге сплелись так тесно, что нужно видеть их все, чтобы романтизм предстал в своем настоящем облике, чтобы открылась и атмосфера времени, и смелость новизны в этой вечной тоске романтиков по идеалу, и в их искании великого дела, и в пристрастии ко всему необычному, красочному, таинственному. В напряжении чувства, всегда отличающем каждую их страницу. В язвительной их тоске, и кружащих голову озарениях, и разочарованиях поистине бездонных…
Для искусства это было ново и необычно. Романтизм ознаменовал особую художественную эпоху. Она была богата открытиями, которым оказалось суждено остаться в литературе надолго, быть может, навсегда. Постоянный конфликт, которым отмечены произведения романтиков, определялся несовпадением мечты и действительности: душа воспаряла к высокому, к бесконечному, а жизнь, возвращая мечтателя на землю, требовала считаться с реальным порядком вещей, сколь он ни отвратителен. Этот конфликт таил в себе множество художественных возможностей. Романтики по-своему – гораздо глубже предшественников – поняли, насколько многолика, изменчива, текуча внутренняя жизнь личности, которую тяготит невозможность воплотить в реальное свершение собственные прекрасные порывы. С Гарольдом пришла в поэзию раздвоенность переживаний, вечная неудовлетворенность и, став метой эпохи, вместе с ней не исчезла, потому что, характеризуя современников Байрона, она была еще и познанием законов, управляющих человеческим сердцем.
И не только эту раздвоенность, которую назовут рефлексией, открыл для поэзии романтизм. Он внес в искусство совершенно новые понятия о том, как сложно сочетаются в человеке чувства, которые, кажется, невозможно согласовать одно с другим, как стремительно они друг друга сменяют, как важны оказываются какие-то совсем мимолетные впечатления, – словом, обо всей бесконечно прихотливой жизни души. Романтики не могли и не хотели примириться с тем, что человек зависим от окружающего, личность для них была священной. Они все, а Байрон в особенности, верили в неотъемлемые права героя действовать в согласии со своей волей, не оглядываясь на обстоятельства и на желания других людей.
Они были индивидуалистами – в тогдашних условиях эта позиция означала вызов раболепию и тупой покорности, она была бунтарской. Романтик предпочел бы любые потрясения и невзгоды тому уделу, который был уготован большинству и большинством принят, – пусть страдание, пусть гибель, только не этот жребий послушной глины в руках бессмысленной и нелепой судьбы. Самому лепить собственную судьбу – вот о чем мечтали романтические герои. И эта мечта была одухотворенной, высокой. Но избранная романтиками позиция с самого начала таила в себе опасность своеволия, эгоистического произвола. «Воля есть нравственная сила каждого существа», – читаем у Лермонтова. Но не кто иной, как Лермонтов, быть может, с наибольшей художественной убедительностью сказал о том, что есть предел, за которым воля перестает быть нравственной. И тогда она страшна. Пагубна для каждого, кто пленился иллюзией безграничной, бесконтрольной свободы.
Романтический бунтарь, ощущая себя пленником пошлой действительности, считал естественным относиться к ней исключительно с презрением; потребовался совсем иной дух и уровень мысли, чтобы в презираемой жизни обычных людей открыть собственную нравственную правду и собственную ценность. Это смогло сделать поколение, шедшее вослед романтикам и романтизм глубоко пережившее, как молодой Пушкин, как Лермонтов, даже как Гоголь, напечатавший в юности мертворожденную поэму «Ганц Кюхельгартен», которой он впоследствии стыдился.
Романтики полагали, что личность, лишенная возможности осуществить свои устремления, пока ее окружает реальная будничность, обретет истинную полноту существования, от этой будничности обособившись – при помощи ли бегства, бунта или просто психологической дистанции, разделяющей романтического героя и «толпу». Они еще неотчетливо чувствовали, что воспевают, в сущности, свободу для одиночки. Но, славя бунтаря и не смущаясь тем, что герой этот неизбежно оказывается себялюбцем, романтики – во всяком случае, самые одаренные из них – сумели осознать, что чисто индивидуальный протест бесплоден, а подчас разрушителен: для самой личности, быть может, даже в большей степени, чем для людей, с которыми ее сводит судьба.
Да и как было не ощутить, что протест не увенчивается ничем иным, кроме горького признания беспомощности поколебать порядок действительности. А самому герою внушает убеждение, будто над ним тяготеет некий злой рок. Настоятельно напоминала о себе потребность не только в великом идеале, еще более – в великом деле, которому романтический избранник отдал бы весь пламень души. Но в тогдашнем мире дела не находилось, и оттого бунтарству почти обязательно сопутствовал скепсис, а невеселая ирония ко всему на свете, включая и самые благородные мечты, оказалась почти непременным свойством лучших романтических поэм и повестей. В каком-то смысле она была спасением от всех противоречий.
«Чайльд-Гарольд» предстал едва ли не энциклопедией романтизма: все важнейшие мотивы романтической литературы отобразились в поэме Байрона, словно в сложно устроенной системе зеркал. Тут был герой, со скукой, с презрением отвернувшийся от «рабов успеха, денег и отличий», преследуемый неутолимым душевным беспокойством, но слишком недоверчивый, ранимый, слишком во всем изверившийся, чтобы это беспокойство вылилось в какое-то реальное общественное действие. Тут была появившаяся с первых строф и прошедшая через всю поэму тема бегства от обыденности в красочные, романтичные страны, где пока еще не наложен запрет на мысль и чувство, и были ослепительно яркие картины таких стран – Испании, Греции, албанских гор, царственной природы средиземноморских островов, Венеции, над чьими каналами «бьет крылом История сама».
Был суровый фон – войны, восстания, трагедии людей и целых народов. На таком фоне как-то мельчали переживания Гарольда, который по мере развития сюжета все заметнее вызывал к себе достаточно ироническое отношение автора: Байрон о нем едва ли не забывает, настолько увлекла поэта панорама больших событий, открывающихся ему, пока он странствует вместе со своим персонажем.
Но, помимо иронии, была несомненно байроновская, не персонажу, а самому поэту принадлежавшая исходная мысль, которой скреплены в «Чайльд-Гарольде» самые разноплановые эпизоды. И эта мысль передавалась одним, но чрезвычайно емким понятием – тоска. Слово это для Байрона точнее всего выражало строй чувств всего его поколения.
Оно отозвалось немедленно и шумно. Спорили о Гарольде, спор шел и о поэме как литературном явлении. Допустима ли настолько свободная композиция, когда героя незаметно подменяет автор, а действие останавливается, перебиваясь обширными лирическими отступлениями, или вдруг начинает развиваться с немыслимой убыстренностью? Оправдана ли эта кажущаяся неспаянность частей? Можно ли приниматься за крупное произведение, не позаботившись о его общем плане, а порою вроде бы и совсем не следуя никакой логике развития?
Удивить эти споры не могут, ведь такова логика движения литературы: новизна всегда утверждается в ней трудно и встречает сопротивление староверов. О поэме Байрона судили, исходя из привычного опыта, а она этот опыт отвергала. Считалось, что творение поэта должно соответствовать определенному своду правил, нарушать которые нельзя. Форма существовала словно бы еще до того, как ложились первые строки на бумагу, первые мазки на холст, – художнику надлежало прежде всего подтвердить знание законов своего искусства, новаторство понимали как усовершенствование канонов, но не как отказ от всяких правил, чтобы создать что-то необыкновенное.
Романтизм порвал с подобными представлениями. Он предложил собственную философию искусства, и одним из ее главных положений было требование органичности: произведение рождается и растет естественно, как дерево, одевающееся листвой. Оно не должно походить на подстриженные кусты парка, потому что несет в себе и ту вольность, и ту каждый раз неповторимую цельность, какой обладает природа во всем ее бесконечном разнообразии. Плох художник, чьи картины механичны и обратят на себя внимание разве что своей унылой правильностью. Искусство – это творчество в полном значении слова. Самое важное в нем – смелость и нескованность воображения: оно всегда найдет ту форму, которая обладает гармонией, внутренним единством, завершенностью. Причем заведомо исключается любого рода насилие над свободным развитием мысли художника, над образами и ритмами, в которых она воплощается.
Другим заветным убеждением романтиков была свойственная им всем вера, что искусство призвано воплотить дух окружающей действительности. Это не означало, что нужно писать только о злобе дня, – нет, полет фантазии порой уносил романтического поэта и в давно минувшие времена, и в страны, которые никогда не существовали. Но сам язык его поэзии и пробуждаемые ею чувства, и композиция, и метафоры, и стиль – все обязано было свидетельствовать, что эти строки вышли из-под пера человека, который ощущает себя непосредственным участником событий, а не просто их случайным современником. Романтики очень много сделали для того, чтобы положить конец всякого рода абстракциям и отвлеченностям в поэзии. Они придали литературе значение самого яркого документа времени, в которое она создается и о котором свидетельствует. Лира Байрона неизменно звучала как голос своего времени, и это смущало людей, привыкших воспринимать искусство по-другому: для них оно было некой условностью, очень далекой от тревог текущей жизни.
Зато у тех, кто по-настоящему проникся настроениями и верованиями, нашедшими отзвук в романтизме, Байрон вызывал отношение восторженное – во многом оттого, что в нем увидели истинного поэта своего времени. Его глубокая родственность этому веку проявлялась не в том лишь, что Байрон вновь и вновь касался важнейших событий, которые были у всех на памяти или перед глазами. Она проявлялась и во всем характере его поэзии, даже в таких ее особенностях, которые кому-то могли показаться просто недосмотром или неумелостью.
Очень тонко это почувствовал Вяземский, старший современник Пушкина и один из самых горячих пропагандистов Байрона в России. Отметив в критической статье, что «Чайльд-Гарольд» и другие байроновские поэмы кажутся неупорядоченными, он твердо и ясно сказал, что никакого небрежения в них нет. Напротив, тут «мысль светлая и верное понятие о характере эпохи своей», когда совершенно иначе стал восприниматься сам ход жизни: «В историческом отношении не успели бы мы пережить то, что пережили на своем веку, если происшествия современные развивались бы постепенно, как прежде обтекая заведенный круг старого циферблата; ныне и стрелка времени как-то перескакивает минуты и считает одними часами». Неслучайно это выражение – «на своем веку». Вяземский родился в 1792 году. Он был участником Бородинской битвы. Он вошел вместе с русской армией в капитулировавший Париж. Он разделял многие идеи и устремления декабристов.
Человеку с такой биографией Байрон говорил особенно много; неудивительно, что Вяземский понял и объяснил характер Гарольда лучше, чем большинство соотечественников Байрона. В этом персонаже Вяземский, как и все, находил черты автобиографические, однако для него вовсе не было главным, насколько Гарольд схож со своим создателем. Куда существеннее, что «подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества». Иными словами, они состояние общества характеризуют, и оттого наивны или недобросовестны укоры поэту за то, что у него будто бы выборочный взгляд на вещи. Важно указать болезнь, определить ее природу. о том, что это типичная болезнь эпохи, не сомневался никто из вдумчивых читателей байроновской поэмы.
И в статье Вяземского перечислены все ее симптомы, впервые указанные Байроном, – распря жизни внутренней и внешней жизни, «щедрой для одних умеренных желаний так называемого благоразумия»; «волнение без цели» и «деятельность… не прикладываемая к существенному» – неизбежные последствия этого разлада; «упования, никогда не совершаемые» и, наконец, пресыщение, скука, тоска…
Знаменательно все это и свойственно времени до такой степени, что, по счастливой формулировке Вяземского, «нынешнее поколение требует байроновской поэзии не по моде, не по прихоти, но по глубоко в сердце заронившимся потребностям нынешнего века».
«Чайльд-Гарольд» еще не окончен, напечатаны лишь две первые его песни, но центральный герой уже вошел в пословицу, а поэме суждено обессмертить имя ее автора. Меж тем жизнь поэта Байрона только началась, и вся его дорога, собственно, впереди.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?