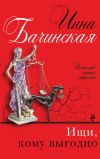Читать книгу "Сухой овраг. Вера"

Автор книги: Алиса Клима
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Алиса Клима
Сухой овраг. Вера
© Клима А., текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *
Глава 1
Ларионов сидел в натопленном кабинете за обтянутым зеленым сукном рабочим столом, задумчиво глядя поверх стакана остывшего чая в мельхиоровом подстаканнике. Подле стакана примостилось блюдце с двумя огромными кривыми кусками грубого сахара, напоминавшего нафталин. Переполненная окурками серебряная пепельница внушительных размеров занимала привычное место с левой стороны. Ларионов предпочитал держать папиросу в левой руке, когда читал или писал. За три года работы начальником небольшого – в две с половиной тысячи с лишним человек – лагпункта все ему опостылело, наскучило. Даже еда, приготовленная заключенной – поварихой Валькой Комаровой – из продуктов, специально для него привезенных из самой Москвы, его не радовала, а наоборот, была противна – до того неестественной она казалась Ларионову в условиях лагеря, где все было гадко.
Всякий раз, когда Ларионов задавался этим неприятным и волнующим его вопросом – отчего ему все стало противно здесь? – он, словно сам боясь ответа, отталкивал от себя правду, стараясь забыться. И тогда он открывал свою инкрустированную слоновой костью флягу с армянским коньяком, отправленным таким же специальным заказом в лагпункт, и выпивал.
И в это позднее сумрачное холодное утро Ларионов, устремив неподвижный взгляд на первый снег за низким окном, достал из внутреннего кармана френча ту самую, некогда принадлежавшую белому офицеру трофейную флягу, подаренную ему, Ларионову, еще на Кавказе ротным Кобылиным. Привычным быстрым движением Ларионов запрокинул флягу и медленно сглотнул, прикрыв глаза от наступившего ненадолго облегчения. Коньяк приятно и равномерно разогрел горло и, расплывшись уютным теплом в груди и плечах, добежал до самых лодыжек. Слегка успокоившись, Ларионов с удовольствием раскурил папиросу и наконец окинул взглядом «дела» новичков.
Ларионов был не в духе с утра, так как прибывал обоз с новыми заключенными, и особенно неприятно было то, что среди них большинство были «политические», да еще и несколько старых или хворых женщин.
– Паздеев! – крикнул он, и из-за двери быстро появился молодой и растерянный сержант с винтовкой, косящим глазом и крупным алым ртом, какие обыкновенно бывают у очень белокожих и юных людей.
– Вызывали, товарищ майор? – спросил Паздеев, особенно тщательно выговаривая слова и при этом заметно грассируя.
Ларионов даже не взглянул на Паздеева, продолжив перебирать бумаги. В зубах его дымилась папироса, на лице читались следы долговременной усталости. В комнате висел дым.
– Позови-ка ко мне Кузьмича. Живо. Восемь уже – скоро обоз придет. Конвой накормить в столовой. И скажи Комаровой, чтобы обед наладила. К вечеру комиссия из Москвы изволит.
– Слушаюсь, – услужливо отчеканил Паздеев и исчез за дверью.
Через несколько минут дверь снова отворилась, и в кабинет Ларионова вошел мужичок лет шестидесяти в старой шинели, обросший и косматый, похожий на таежного егеря. Он снял папаху из овчины, но снял спокойно и неторопливо, как вежливый человек, а не холоп.
– Григорий Александрович, вызывали, что ли?
Ларионов оторвался от бумаг и немного повеселел.
– Входи, Макар Кузьмич, садись. Дело есть.
– Оно ясно, товарищ майор, вызывал бы. Чем могу служить? – спросил Кузьмич, и в глазах его вспыхнул озорной огонек, так как Кузьмич прекрасно знал, чего хотел от него Ларионов и почему был так мрачен в это утро.
Ларионов нахмурился.
– Снова присылают пятерых по пятьдесят восьмой. И старуху опять. Месяц назад только прислали двух – одна в дороге померла, помнишь? А Изольда на ладан дышит, черт бы побрал эту Баронессу. Так еще подсовывают.
Кузьмич налил чаю из самовара и присел на диван. Увидев сахар на столе Ларионова, он привстал.
– Правда твоя, батюшка, тяжко тебе с бабами этими… Да не тужи, подсобим. А сахарку-то все ж пожалуй мне.
Ларионов подтолкнул блюдце.
– Да ешь хоть весь. Только разберись с обозом, Макар Кузьмич, – добавил он негромко, словно стыдясь своей брезгливости. – И скажи Федосье и Балаян-Загурской, чтобы, сам знаешь, бабьи все дела уладили с ними – мытье, одежду, харчи… В первый барак к Загурской пусть расселяют – уголовников сегодня не привезут. А ежели мертвые будут, свезти к Прусту, чтобы как положено по уставу осмотрел, составил акты и сделал справки. И тогда уж пусть закапывают. И больных к нему же в лазарет. (Лекарств не дают, чего же желают?)
Кузьмич слушал внимательно, понимая Ларионова, который говорил холодно, но раздраженно, выдавая свое смятение.
– Впрочем, сам знаешь, что я тебе повторяю? – закончил он.
– Так точно, ваше высокоблагородие. – Кузьмич закашлялся и взял папаху, собираясь уходить. Называть Ларионова «высокоблагородием» было дозволено только ему, да и то не при всех. Кузьмич доверял Ларионову так же, как когда-то в юности своему полковому командиру, когда сам служил на Кавказе. – Так лейтенант Грязло́в, получается, кхм-кхм, будет принимать?
Ларионов нахмурился еще пуще.
– Пускай, – бросил он отрывисто.
– Так точно, Григорий Александрович. Можно идти? – Кузьмич встал, и половицы под его тяжелым мерным шагом заскрипели.
– Ступай, – сказал Ларионов, уже думая о чем-то другом.
Кузьмич вышел; за дверью мелькнуло любопытное лицо Паздеева (он как новичок был очень взволнован прибытием обоза со «свежими» заключенными и старался уловить все, что происходило с утра). Как только дверь за Кузьмичом закрылась, Ларионов нетерпеливо вынул флягу и быстро сделал еще пару глотков.
Он рад был, что не придется теперь идти принимать обоз, но противное чувство лишь усилилось. Ему было неловко оправдываться перед Кузьмичом, который явно в душе не одобрял, что Грязлов принимал обоз. Грязлов любил осматривать новых женщин и ждал «свеженьких», как голодный пес кость, чтобы приметить себе какую получше для утехи. Ларионов сам сожительствовал уже больше года с Анисьей – заключенной, осужденной за мошенничество в одном постоялом дворе в Твери, где она служила прежде горничной.
Анисья была красива редкой, дикой красотой. Она была статной и, как любил говорить Кузьмич, сочной женщиной, еще молодой, но смотрящей умудренно на жизнь темными, пленительными очами хищницы, знавшей толк в доставлении мужских удовольствий. Но хотя сам Ларионов «подживал» (по понятиям «блатных») с Анисьей, ему все же казалось, что в том, как хотел и выбирал женщин Грязлов, было что-то гадкое, внушающее отвращение. Впрочем, Ларионов настолько привык к тошнотворности их быта и повсеместной гадости, что мысли о Грязлове теперь лишь мельком пролетали в его голове. Он перестал даже удивляться, что погребение людей в его разумении стало «закапыванием» тел.
Ларионов был красивым молодым мужчиной тридцати четырех лет в чине майора – широкоплечий, высокий и темноволосый, с отличной выправкой. Его правильные, довольно крупные черты лица, прямой длинный нос, темные миндалевидные проницательные глаза производили неотразимое впечатление. Он уверенно двигался и спокойно произносил слова низким тягучим голосом (плодом не возраста, но опыта и природы), вызывая этим уважение равных и покорность подчиненных. Его несколько отстраненная и вальяжная, почти пренебрежительная манера держаться в сочетании с офицерским мундиром особенно нравилась женщинам, и он давно это понимал. Ларионов был немногословен и замкнут, но заключенные знали, что в редкие моменты, когда он искренне улыбался, в нем на мгновение проглядывало что-то совершенно отличное от его обыденного внешнего представления. Они также знали, что за спокойными повадками майора скрывался решительный темперамент, который никто не любил на себе испытывать.
Покойные родители его были людьми образованными: отец – земский врач, мать – учительница. Сам Ларионов не окончил школы, но писал грамотно из-за любви к чтению, а главное, он помнил где-то глубоко внутри любовь родителей к культуре, природе и людям. Ларионов считал себя ящиком, в который складывали все, что попадалось на жизненном пути, без разбора и его на то разрешения. Так, нес он в себе и багаж родителей, и то, что познал, воюя за советскую власть, и то, что увидел в лагере. Неудовольствие его и раздражительность происходили оттого, что он не мог примирить в себе все эти знания и решить, что он хотел бы сохранить, а от чего избавиться раз и навсегда.
Когда три года назад Ларионова направили в Западную Сибирь начальником лагпункта в Маслянинском районе, он все еще чувствовал себя причастным к армии. Почти всю сознательную жизнь Ларионов провел в походах и боях: в четырнадцать лет, в восемнадцатом году, он сиротой примкнул к красному обозу, покинув свою деревню близ Болдино на Пекше, и с тех пор не расставался с военной формой и оружием.
В лагере, уже будучи на службе НКВД, он заметил, как изменилась его жизнь. Ларионов долго не мог понять, как и что он должен чувствовать в этих бытовых условиях ИТЛ[1]1
Исправительно-трудовой лагерь. – Здесь и далее примечания автора.
[Закрыть]. На поле боя он всегда знал, кто его враг – сначала белая армия, потом диверсанты. Они стреляли в него, а он в них, обе стороны стремились убить друг друга. В лагере же все эти люди, в особенности женщины, были безоружны; прискорбно одеты, вечно недоедали и дурно пахли – многие болели и умирали до окончания срока заключения; работали как батраки и не только не представляли угрозы для него, но, наоборот, нуждались в защите. Со временем Ларионов стал ощущать, что в лагере была куда более необходима борьба со вшами и клопами, чем с инакомыслием осужденных по пятьдесят восьмой статье УК СССР[2]2
Статьи 581, 581а – 581 г и 582–5814 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года в редакции 1926 года и более поздних редакциях устанавливали ответственность за контрреволюционную деятельность. Отменена в 1961 году. В народе именовалась просто как «58-я статья» или «58-я».
[Закрыть]. Все чаще душу Ларионова стесняли противоречивые мысли. Он уставал от них; такие мысли были еще хуже вшей и клопов: неистребимые, навязчивые, ядовитые.
С одной стороны, Ларионов был доволен судьбою – карьера его хоть и не слишком радовала, но все же продвигалась. Он вроде делал то, во что верил всегда (боролся за власть Советов); он был молод и здоров, полон сил; женщины его любили и довольно быстро, даже без усилий с его стороны, это выказывали. Здесь, в Сибири, несмотря на лагерные условия, у него была своя большая хата, еда и питье, подвозимые прямиком из Москвы, – то есть такие деликатесы, которые не всегда оказывались на столе даже у партийных лидеров Новосибирска; обслуживали его здесь под руководством бывшей заключенной Федосьи исправно; даже любовница у него здесь была – молодая, красивая и влюбленная, о чем только можно мечтать одинокому офицеру в глуши. С другой стороны, что-то подспудно и неизменно глодало его и выступало немым вопросом, которого он так страшился, не то чтобы ответить, даже выразить сам вопрос. Он был постоянно подавлен и угрюм без, казалось бы, явных на то причин.
Мысли Ларионова прервал стук в дверь. Не дожидаясь приказа, в комнату ввалились Кузьмич с Паздеевым, запыхавшись и толкаясь.
– Тут делы такие, – снимая папаху, быстро начал Кузьмич, – надо вам срочно идтить обоз встречать…
– В чем дело?
– Начальство! – возбужденно воскликнул Паздеев из-за плеча Кузьмича.
– Едут с обозом: вам надобно присутствие выказать, Григорий Александрович. А так-то это… всё мы подготовили, никаких подвохов! Федосья Вальке харчей велела наметать для гостей, – резюмировал ситуацию Кузьмич.
«Раньше прикатили». – Ларионов быстро встал и надел фуражку, лицо его было спокойное, безразличное, сухое, словно все его прежние мысли и сомнения вдруг исчезли под руководством многолетней муштры. Кузьмич и Паздеев закрыли за собой дверь. Ларионов сделал несколько глотков из фляги и, кинув беглый взгляд в зеркало с пятнистой амальгамой, поправил еще раз фуражку и вышел вслед за подчиненными.
Снег уже не летел, но было сыро и пасмурно. На плацу между домом Ларионова и первой линией бараков выстроился лагерный гарнизон. Рядом шеренгами стояли и заключенные, ожидавшие утренней переклички и принятия в свои ряды новых зэков. Для всех это было волнующее действо. Лагерные будни и тоска сделали прибытие новеньких каким-то особым событием. Ларионова пополнение лагеря узниками раздражало, но даже он втайне был рад хоть какому-то движению.
Ему, обласканному властью, не было нужды тревожиться из-за прибытия начальства. Напротив, Ларионов знал, что этот приезд может оказаться выгодным для лагеря. Он не стеснялся просить начальство о благах для своего лагпункта. Хотя в чем они состояли? Дополнительные лекарства, мыло, матрацы и прочее барахло, которого не хватало, хоть и значилось в приказах и нормативах. Впрочем, он знал, что надо было просить вдвое больше, чтобы получить половину от того, что необходимо.
Ларионов поравнялся с заместителем начальника лагпункта лейтенантом Кириллом Грязловым, вышагивавшим вдоль шеренг заключенных и бросавшим унизительные комментарии в адрес некоторых из них, часто получая исподтишка насмешливые реплики в ответ.
– Ну что, Киря, готов к приему принцесс-баронесс? – небрежно спросил он Грязлова, надевая перчатки.
Грязлов усмехнулся.
– Новая шинель, товарищ майор?
– Я не баба, Киря, меня глазами мерить не пристало. Строй ребят. Едут.
У ворот засуетились охранники, дозорный с вышки махнул, и ворота отворили. Впереди верхом ехали гости из Москвы – офицеры и сопровождающие, за ними шли пешие конвоиры; запряженный обоз с заключенными и тюками на трех телегах вкатился следом, за ними замыкающие – еще два конвоира. Ларионов и Грязлов быстрым шагом подошли к спешившимся офицерам, отдали честь, доложились и обменялись приветствиями. Затем офицеры стали обниматься с Ларионовым как старые друзья.
Кузьмич поспешил к обозам, за ним сержанты Паздеев и Касымов и начальник ВОХР[3]3
Военизированная охрана.
[Закрыть] лейтенант Фролов.
Фролов приказал Паздееву тащить тюки и нагрузил его сверх нормы, а потом подставил ногу, чтобы Паздеев споткнулся и упал. Начальство заметило неловкость Паздеева, Грязлов же, увидав, что начальством было это примечено, тут же подбежал к Паздееву и ударил его прикладом по спине так, что тот снова упал под тяжестью тюков.
Ларионов бросил сухой взгляд на Паздеева.
– Что, на гауптвахте давно не был, сержант?
Главный офицер, шедший рядом с Ларионовым, взял его под руку. Это был полковник НКВД Туманов, знакомый Ларионова еще с Гражданской войны, успешный и доверенный человек с Лубянки.
– Ладно тебе, Гриша, потом всех построишь. Расскажи лучше, как ты. Уж сто лет не виделись с тех пор, как последний раз ты был в Москве. Вот, решил сюрпризом!
Ларионов улыбнулся впервые за весь день.
– Сам знаешь, Андрей Михалыч, хлопотно мне отсюда вырваться посреди года, да и вы покоя не даете – все везете мне новых. Вот все ваши сюрпризы.
Туманов прищурился и потоптался на месте, словно конь под Буденным, как любила приговаривать Федосья.
– Эх, не меняешься ты, Григорий Александрович! – Он хлопнул Ларионова по плечу. – А вот время меняется, Гриша.
Ларионов окинул быстрым взглядом вновь прибывших заключенных, которых конвой строил впереди колонны старых, смиренно изнывавших уже час на холоде: стоял октябрь, но по утрам и вечерами было, по обыкновению, морозно и сыро.
– Ладно, делай обход и принимай, а потом потолкуем за обедом, – сказал Туманов, и Ларионов кивнул Грязлову, ожидавшему команду.
– Равняйсь! Смирно!
Все, кроме новых женщин, подтянулись.
– Это и к вам относится, контра! – рявкнул Грязлов.
Шеренга из десяти женщин заколыхалась. Туманов и Ларионов, пока шла перекличка, медленно шагали вдоль построения гарнизона, затем перекинулись на заключенных: Ларионов чуть впереди, за ним Туманов, внимательно разглядывающий женщин в линялых ватниках и косынках. Сразу за полковником, словно прилипнув к нему, следовал Грязлов. Он неотрывно следил за выражением лица Туманова, пытаясь угадать мысли и намерения большого человека из Москвы.
Почти в центре шеренги Туманов заприметил статную девушку с ямочкой на щеке, тоже одетую в телогрейку и косынку, непринужденно и весело притоптывающую валенками, нагло, но дружелюбно ему улыбаясь. Брови Туманова поползли вверх, словно он не мог поверить, что среди всех этих несчастных, серых уголовниц и контры могла очутиться такая птица. Грязлов поспешно шепнул ему что-то, после чего Туманов затрясся от смеха, как добронравный и, по былым временам, развратный старик, и окликнул Ларионова:
– А ты молодец, Григорий Александрович! Ох, молодец!
Ларионов усмехнулся, но даже не посмотрел на Анисью, не сводившую с него глаз, а потом обратился к Грязлову:
– Ну, кто там у нас сегодня?
– Вот, товарищ майор, – сказал Грязлов, приближаясь к шеренге с новенькими, – вся контра построена.
Ларионов поморщился. Затем, даже не глядя в лица новым подопечным, взял список у Кузьмича и бегло окинул его взглядом. «Все те же имена: простые русские, вот и татарка тут затесалась. Конечно, и еврейку снова привезли», – думал Ларионов, глядя на лист бумаги, который означал для него лишь новые хлопоты.
– Все живехонькие, – тихо промолвил Кузьмич, – но Рахович… старуху, в лазарет бы…
– Так, – начал Ларионов, – граждане заключенные, будем знакомиться. Обращаться ко мне надлежит «гражданин майор», а зовут меня Ларионов Григорий Александрович…
Ларионов запнулся. Он увидел ноги новеньких. На одной из них, стоявшей с краю тоненькой, постоянно кашляющей девушке, были прохудившиеся сапоги – из них торчали тощие лодыжки; рядом устало переминалась кривоногая старуха Рахович в войлочных ботах, а икры ее были обмотаны тряпьем, собранным в поездах; тут же возле нее, поддерживая старуху под локоть, стояла девушка в туфлях на некогда изящных каблучках, стоптанных на этапе, но все еще выдававших благородное происхождение их обладательницы. Ее худые ноги утонули в трикотажных чулках линялого терракотового цвета, видимо, отданных ей кем-то из сострадания либо содранных с трупа в поезде. Ларионов поднял взгляд на девушку в изящных туфлях. Лицо ее было опущено, но он увидел, как напряженно смотрит она на его хромовые сапоги: хрустящие, новые, вычищенные утром денщиком. Ему стало не по себе от ее пристального взгляда на эти его сапоги. Волосы закрывали почти все ее лицо, ниспадая на него по бокам темными сбившимися, засаленными прядями, нос казался длинным и острым из-за худобы и разлетающихся к вискам широких бровей, неестественно черных на ее бледной коже с землистым оттенком.
Ларионов бросил взгляд на список, стараясь угадать имя девушки.
– Биссер Инесса, – начал он, взглядывая каждый раз на ответное: «Это я».
– Отвечать просто – я, – оборвал Грязлов.
– Урманова Забута.
– Я!
«Вот она, Забута – татарка, луноликая и белая, с косами до пояса, а Грязлов слюной истекает, – неслось в голове у Ларионова. – Не видать тебе татарина ближайшие пять лет, а то и больше».
– Рябова Наталья.
– Я…
– Рахович Бася.
– Есть. Она плохо слышит и больна.
– Молча-ать! – рявкнул Грязлов.
– Не смейте грубить.
А это что? Ларионов очнулся. Что это была за реплика?
– Шаг вперед! – послышался голос Грязлова.
Ларионов почувствовал, что это была она. Он еще в ее взгляде на его сапоги почувствовал ненависть к нему, к этому лагерю, ко всем, кто тут есть. Вперед шагнула девушка в изящной обуви, все так же не отрывая от земли взгляда.
– Имя? – слышался все тот же гнусавый голос Грязлова. – Алекса́ндрова Ирина? Черт! Даже имя записать не могут нормально.
«Вот! – пронеслось в голове Ларионова. – Простое имя, словно день – ясный и чистый».
– И что вот с такими прикажете делать? – ухмыльнулся Грязлов, глядя на Туманова. – Григорий Александрович, товарищ майор, в изолятор эту девку?
– Да ладно тебе, товарищ Грязлов, – бросил небрежно и шутливо Туманов. – Девушка в туфельках таких нежных, разве ей место в изоляторе? Вот смотрю я когда на таких хрупких девушек и женщин, даже, честное слово, старух каких-то!.. изумляюсь каждый раз – как же их, таких, угораздило-то в черные дела влезть. Им бы учиться да работать честно на благо нашей Отчизны, а они все – то украсть, то обманным путем что-то присвоить, а то еще хуже, – вознес пухлый палец к небу Туманов, – зло задумать против народа советского…
Ларионов слушал Туманова, но не мог отделаться от неприятного ощущения, которое все нарастало в нем и постепенно становилось и вовсе невыносимым, когда медленно, пока Туманов говорил, она вдруг подняла глаза и на него, Ларионова, смотрела – молча, недолго, но пристально и неподвижно, а потом так же медленно опустила взгляд. Ларионов ощутил смятение, и это его обозлило. Только не смятение! Смятению не должно быть места в его душе. Он все понимал и знал. К чему эта дерзкая девчонка безмолвно упрекнула его, бросила вызов его укладу и тому, чем жили и Туманов, и Грязлов, и многие – все – люди вокруг? Она была в его власти, так что же, она не знала об этом?! Ларионов почувствовал, как кровь прилила к его лицу и сердцу.
– Все верно, – вдруг резко сказал он. – Фролов, в изолятор на три дня гражданку Александрову.
По рядам осужденных пролетел озадаченный гул. Некоторые прикрыли рот руками от неожиданности. Они знали своего Ларионова уже давно, некоторые три года, и он не славился жестокостью, хотя был сух и строг. Федосья издалека изумленно смотрела на Ларионова и на Туманова, который теперь казался немного растерянным.
– А теперь прошу откушать завтраку, – вмешался, покашливая, Кузьмич.
– Да уж пора, – сказал нерешительно Туманов. – А то что-то зябко стало.
– А со строем-то что? – спросил робко Паздеев вслед уходящему в сторону избы начальству.
– А-а… – Туманов махнул рукой. – Командуй – вольно.
– Вольно! – послышался голос Грязлова. – Разойдись по баракам.
– А заключенной Александровой-то валенки выдать? – снова робко спросил Паздеев из-за плеча Ларионова. – Туфли все же у нее, м-м-м, не по погоде.
Ларионов не повернулся. Грязлов сверкнул глазами.
– Мало тебе прикладом досталось?! Фролов пусть ее в изолятор сведет, а вы остальных – в первый. Федосья и Загурская разберутся.
Фролов подтолкнул Александрову вперед рукояткой винтовки по направлению к изолятору. Паздеев смотрел некоторое время ей вслед, особенно как каблучки ее оставляли следы на тонком слое снега на плацу, но вышагивали ровно. Паздеев угадал решимость в этой ровной походке человека, измученного этапом. Измученного, но все еще несломленного.
Кузьмич похлопал Паздеева по плечу.
– Что-то, Дениска, хозяину шлея сегодня под хвост попала. Анисья, что ли, не в радость стала.
– Да что вы про Анисью все, – вдруг раздраженно пробурчал Паздеев. – Разве дело в ней, дед Макар? И кто она вообще такая?
Кузьмич прищурился и усмехнулся в усы.
– Красивая. Да ты не боись, тухли я ей заменить сам прикажу. Федосья валенки снесет. – Кузьмич наклонил голову к Паздееву: – Что, пришлась тебе, что ли, эта худосочная девка?
Паздеев встрепенулся.
– Да вы что, дед Макар?! Я…
– Да будя тебе, я ж шуткую. Эх, дурак ты, Дениска. Все одно – еще соплячник, а туда же – филонсофствовать. Пойду в избу, там уж накрыли все к ихнему приезду. А вон и Федосья спешит. Сейчас и меня хватятся. А ты, давай, сторожи. Салажка… – Кузьмич махнул по-отцовски рукой и вперевалку направился к избе.
* * *
– Ну, показывай свои хоромы. – Туманов вошел в избу и скинул шинель, подхваченную тут же Касымовым. – А изба горячая, отменная. Как и барышня!
Туманов рассмеялся, а Ларионов неожиданно для себя самого вздрогнул.
– Кто же? – спросил он поспешно и угрюмо.
– Да ты, брат, что-то не в духе сегодня, смотрю, – сказал Туманов, похлопывая Ларионова по спине. – Я когда обход делал… правда ли, что та смуглянка, глаза с поволокой, твоя пассия нынешняя?
Ларионов передернулся.
– Да ты, брат, что – захворал?! – не выдержал Туманов.
Федосья переглянулась с Валькой-кухаркой с растрепанными за день волосами цвета потемневшего лисьего хвоста и толкнула ее своим избыточным бедром.
– Прошу к столу, откушать завтраку, – поспешно бросилась навстречу гостям Валька.
Вслед за Тумановым, Ларионовым и Грязловым вошли еще три офицера, сопровождавшие Туманова, потом показался Кузьмич. Федосья всех пригласила в просторную кухню, служившую заодно и столовой, и гостиной, где посередине под абажуром был готов уже широкий сосновый табльдот, накрытый белой свежей скатертью и уставленный разными блюдами с закусками.
– Ох, и голоден же я! – воскликнул Туманов, потирая руки. – А мы не с пустыми руками, однако. Сафонов, давай коробки, выкладывай.
Офицер с рыжими усами вносил коробки одну за другой и ставил их на буфет и на пол.
– Девушки, раз-гру-жай! – весело сказал он, и Федосья с Валькой бросились доставать московские гостинцы.
Там была и коробка с бутылками – коньяки армянские, какие любил Ларионов, а особенно один из заграницы, CAMUS, который Туманов называл «Самус», – и консервы, и сыры, и колбасы, и банки с икрой, и лукум, и цитрусовые цукаты, и марципаны, и миндаль с сушеными абрикосами и черносливом.
После завтрака Туманов по уставу делал обход лагеря. Они долго сидели в администрации, поверхностно и нехотя ковыряясь в бумагах лагпункта под незримым руководством расконвоированной заключенной Жанны Рокотянской – юной стенографистки, которая в силу своей работы знала и помнила больше любого наместника НКВД. Затем Туманов пространно обсуждал дела третьего отдела с его начальником – капитаном Губиной, от которой он с трудом спасся, сославшись на сильную головную боль. Обед вынуждены были пропустить, и день незаметно переплавился в вечер.
Члены комиссии вернулись в избу Ларионова, где бессменные Федосья и Валька Комарова уже налаживали ужин.
– Только уважь, – обняв Ларионова, сказал Туманов, – пригласи и дам к застолью. Мы и так уж намаялись с этим обозом и зловонными этапными, да и твои высушили мне весь мозг – хочется приятного общества, Гриша. Чтобы и сладостями угостить дам, и послушать их речь, и спеть вместе, и танго можно… Давно не щупал приятных форм, понимаешь. В Москве не до того, и жеманные там бабы – до тошноты!
Туманов и офицеры захохотали. Ларионов насмешливо улыбался, ясно понимая желание Туманова.
– Только, Гриша, – сказал Туманов заговорщически, – прошу покорно самых соблазнительных и веселых барышень позвать, чтобы сгладить этот инцендент на построении, понимаешь. Как-то нехорошо вышло… И, брат, уважь любопытство – позови и куропаточку свою волоокую!
Офицеры снова засмеялись. Ларионов бросил взгляд на Федосью, та кивнула и быстро исчезла в сенях.
Спустя полчаса, когда офицеры, словно куда-то опаздывая, выпили несколько тостов и закусили, Федосья вернулась, а за ней выступали девушки. Впереди – Анисья, уже не в серых телогрейке и косынке, а в шелковом платье, чулках и шали через одно плечо; губы ее горели от алой помады, темные кудри у висков были подобраны вверх, а остальные ниспадали по плечам – шла, потряхивая серьгами, которые Ларионов ей привез этим летом из Москвы. За ней – еще три девушки-заключенные, одетые скромнее, но тоже уже не так, как днем на построении. Анисья прямиком прошла к Туманову и подала ему пальчики с аккуратным маникюром, кокетливо оглядывая его пастозное лицо. Туманов поцеловал ей руку, словно и не было меж ними той пропасти, что ощущалась сегодня на плацу, когда одни были по ту, а другие по сю сторону закона. Все они теперь оказались заключены в одну душную комнату, в общее пространство застолья, забытья и похоти.
Анисья уселась между Тумановым и Ларионовым; по другую сторону от Туманова расположилась рыжеволосая и конопатая, но красивая лицом девушка. Она представилась как Анджелина (Ларионов знал ее послужной список, некогда шокировавший его: то была проститутка и воровка из Ленинграда Ангелина Добронрав, она же Джакелла Марлизон, она же Ангу Вандербилд, она же Джени Джолджоли, урожденная Евгения Акулич из Калужской области, которая в лагере сожительствовала с «администрацией»). Вторая девушка села рядом с Сафоновым и назвалась Надеждой Семеновной (Ларионов знал ее как осужденную за фарцовку краденого на московских рынках, а также за проституцию). Сам он однажды, напившись еще в начале своего пребывания в лагере, вызвал ее в свой дом и переспал с нею. Третья подсела к офицеру Нагибину, молодому еще человеку, у которого только проросли жидкие усики, и представилась Раисой (Ларионов знал, что она чистила с любовником квартиры в Сокольниках, за что и была приговорена к пяти годам исправительных работ; и работа эта заключалась в том, чтобы услаждать старших в Охре). Ларионову было смешно смотреть на этих принцесс зоны: проституток, воровок и мошенниц, охмуряющих офицеров НКВД, – было в этом что-то адское, зловещее, неизбежное и в то же время смешное и досадное.
Посреди веселья и банкета Туманов нагнулся к Ларионову, который мало ел и много пил весь вечер:
– А Анисья хороша, слов нет! Но скажи мне, Гриша, отчего ни одной «полит»?
Ларионов сказался хмурым.
– Они не любят сотрудничать, – ответил он сухо.
– Так это же должно быть еще интереснее! Плохо проводите перековку классового врага, товарищ майор, – захохотал Туманов. – А Анисья-то тебя как облизывает и обхаживает. Повезло ж тебе.
Ларионов бросил взгляд на любовницу, танцевавшую с Сафоновым. Сколько раз он видел ее такою – подвыпившей, блестящей своей яркой, кричащей красотой, соблазнительной и развратной, готовой все с ним делать ночь напролет – выполнять любые его прихоти и терпеть пьяный угар и брань, его равнодушие и скотство. Он знал ее тело – оно было красиво, совершенно и молодо, как извивалось оно в его руках и просило еще ласк. И наутро он просыпался, весь измазанный ее помадой и пропитавшийся ее запахом. И сегодня ночью она снова останется в его доме. И половица скрипнет за дверью его спальни, когда Федосья, погасив везде свет, соберется в барак, проходя мимо его комнаты, откуда будут слышны бесстыдные стоны и звуки прелюбодеяния его с Анисьей. Он будет пьян, и она будет блестеть в ночи от страсти к нему. Что ж в этом было дурного? Ведь всем от этого было хорошо. Тогда что же в этом плохого? Что? Отчего в трезвом уме Ларионов был настолько всем недоволен и его раздражало все, что он видел и слышал? Даже его любовница!
Ларионов смотрел на ноги Анисьи в новых лаковых туфлях «мэри-джейн», пока та плясала с Сафоновым, и не мог отделаться от мыслей о тех, других ногах, стоявших на плацу, особенно от ее стоптанных туфелек и старушечьих чулок, спущенных, прохудившихся и выцветших от времени и отвратительных гигиенических сложностей этапа. Ларионов теперь представлял не только ее туфли, но и этот ее страшный взгляд сквозь него. Отчего она выбрала его? Отчего не на Туманова смотрела так, не на Грязлова?! Зачем он?
Ларионов налил в стакан водки и быстро его осушил. К черту все эти мысли – напиться и забыться с Анисьей! Вот оно. Она – Александрова – пусть сидит в изоляторе, пусть узнает с первого дня, что он теперь ее хозяин, он тут – все. Ларионов налил еще. Поднося стакан к губам, он поймал на себе взгляд Федосьи, которая тут же засуетилась и начала греметь бутылками у буфета. «Что еще ей в голову взбрело?» – насторожился Ларионов. Он странным образом не мог избавиться от волнения в груди, которое охватило его сегодня на плацу. Не три, а пять дней надо ей дать в изоляторе – и точка.