Текст книги "Альпийская форточка"
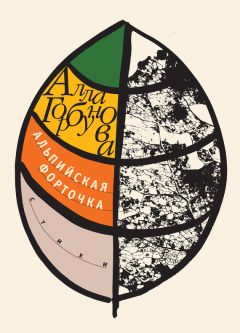
Автор книги: Алла Горбунова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Алла Глебовна Горбунова
Альпийская форточка

«Альпийская форточка» – КИВ-125, клапан инфильтрации воздуха, обеспечивает поступление свежего воздуха, защиту от шума и пыли. Впрочем, мы вольны думать, как наше воображение подсказывает нам, что альпийская форточка – это не просто техническое приспособление для подачи воздуха, но форточка, в которую видны Альпы.

Альпийская форточка
(стихотворения 2010–2012 гг.)
Водопад
встану ли, выстою
или щепкой меня унесёшь,
горная вода,
ревущая, рвущая
в щепы тело моё,
затекающая за ворот,
ты, вода, сверзающаяся отвесно,
к которой подходят пугливо
косуля и росомаха,
в которой голубокожие нимфы распускают пену волос,
громовая песня, вечно творящая песня,
вышибающая из-под меня землю,
ударяющая в колени,
швыряющая с размаху
в головокружительный водоворот.
* * *
Гу́сенка с ликом девы
смотрит слепыми глазами,
дети Адама и Евы
уничтожили себя сами.
Больше не будет идеи розы?
Гу́сенка из баббл-гама делает пузыри,
в них голливудские грёзы
сияют изнутри:
рок-звёзды и президенты,
Мэрилин Монро,
Джон Леннон,
римские папы,
секретные агенты,
гей-порно-бэйби-арт-сцены,
а из бутылей, которые закрывают бычьи пузыри
и великая магическая печать,
на них взирают гомункулы и кричат,
что хочется выбраться им, —
король, монах, архитектор, рудокоп, серафим.
* * *
И в Рай восходя, он обернулся вслед
миру, где пахнет по́том озимый хлеб,
девятьсот тридцать лет,
как восходит Солнце живых,
и с молодой Луной
восстаёт темноликая красота.
И рожéница в муках рожает дитя,
а морской прибой
раковины моллюсков приносит ему, шутя,
и мама целует сына в сахарные уста.
И в Рай восходя, он обернулся вслед.
И в Рай восходя, он обернулся вслед
миру, где агнец ранен и старец слеп.
Девятьсот тридцать лет,
как зверь, прободённый стрелой,
бежит от охотника, и расступается лес.
Брызжет на кухне жир и исходит чад,
и рабыня – жена его, и блудница – дочь,
братоубийца – сын, и тать – его зять,
и вины его несмываемую печать
перепевает даже собачий лай.
И в Рай восходя, он обернулся вслед.
И в Рай восходя, он обернулся вслед
миру, где вера, как мамонт, вмерзает в лёд.
Девятьсот тридцать лет,
как отеческих яблонь дым
за плечами стоит стеной,
и невеста бела-белым, но вдова седа,
и народы земли встают друг на друга войной
под знамёна корон, которые смоет вода.
Всё беда – от свадьбы до похорон.
Но мир всё же хорош,
раз в Рай восходя, он обернулся вслед.
* * *
1
чем тополиный пух не милосердный дух,
чем озеро не овчая купель,
и незамысловато коростель
поёт в прибрежных буйных купырях.
сквозь воду мелкую, сквозь солнечное сито,
чем озеро не тёплое корыто,
где Богоматерь отмывает бесенят,
им отдирает рожки и копыта
и превращает в беленьких ягнят.
2
как кости абрикосовые в ряби,
на дне чернеют юркие мальки.
о воду точат медленные рыбы
свои мерцающие плавники.
на берегу в тигриных полосах
летает шмель и собирает сладкий
бесценный для богов нектарный прах
на молодых телах в припухших складках.
и страсть, и благодать сбирает шмель
и переносит по кустам аллей,
и переносит по тропам колей:
и мёд, и яд, и хмель.
Весна
Стеклянная Марта в сорочке сорочьей,
рыжекудрая Апрель,
нарядная Майя
На ком из вас женится рыцарь в шкуре медвежьей?
В печках чугунных вы топите снег, вынимая
из рукавов рукава Волги, Рейна, Дуная…
Три сестры – стеклянная Марта, рыжекудрая Апрель, нарядная Майя – три невесты рыцаря в медвежьей шкуре. Они зажигают цветы на полянах и открывают двери озёр. Когда приходит весна, рыцарь в медвежьей шкуре женится на каждой из них поочерёдно.
Март – и рыцарь в медвежьей шкуре женился на Марте стеклянной! Стеклянная Марта в ступке истолкла лёд, перемешав его с солнцем, и пустила зайцев по бескрайней шкуре рыцаря, изборождённой тропами и колючей от голых ветвей.
Апрель – и рыцарь в медвежьей шкуре женился на Апрель рыжекудрой! В расщелинах шкуры рыцаря побежали ручьи, и ранним, раненым, ускользающим утром рыжекудрая Апрель выдохнула подснежники-первоцветы и растворила в ветре тайную ностальгию, отрочески томящую тоску по невозможному. Ветер этот почувствовали прежде других странники и моряки.
Май – и рыцарь в медвежьей шкуре женился на Майе нарядной! Уж какими молочными травами, буйными гирляндами и простыми веночками из одуванчиков, собранных школьницами на городских загазованных бульварах, украсила нарядная Майя шкуру мужа! Какими крестьянскими плясками её дубила! И свечи зажгла в кронах сосен, не зная и зная, что всё может шкура медвежья, живая, лесная…
* * *
ворон и дождь,
времени час по старой дороге на запад.
разрушенная вышка среди полей.
ты видел здесь журавлей
на одной ноге.
павшая смотровая башня:
в развалинах человек,
что ловит сновидения птиц,
взирая на месяцы быстрой журчащей весны
со смотровой – воочию:
отблеск громов тишины от слияния рек:
речки Смородинки с Волчьей.
памятник канувшим в Лету
лесным деревням.
храм глубины журавлиной:
слёзы в копытцах проталин.
памятник канувшим в Лету.
* * *
слова
из-под травяной воды:
прочерчивающие тропы беспамятства.
звонкая, не полнится песней, лесная глушь.
иди по ландшафтам снов
мимо хутора, где дородная финка доит коров,
где монахиня точит нож.
будет дом, и крыльцо, и колодезный сруб:
падалицу собирай в подол из-под серебряных яблонь,
мужа встречай с войны,
сына встречай с войны.
у порога – в стремительном ожидании —
на грудь ему припади, отряхивай пыль с шинели.
скрипнут, скренившись, давние ели,
дрогнут, закрывшись, дубовые двери,
но бледен он, бледен, любимый, и на себя не похож.
зря ты рвёшь с огорода укроп и морковь:
он откажется есть.
на шинели его дыра и тёмная кровь,
ты в глаза его смотришь:
душа его больше не здесь.
и ты вскрикнешь и выбежишь в поле,
а там строем чинным,
схожие, как близнецы,
ковыляют в шинелях мужчины:
мужья, сыновья и отцы, —
из-под травяной воды: твоей, Лета.
* * *
…хаос с гармонией в полуразрушенном звуке.
– А и Б сидели на трубе —
как клоуны в цирке, падают бедные звуки
и вповалку лежат на траве.
хаос, хромая, гармонию в вальсе фальшивом
ведёт, и она не узнает себя в себе:
сползя в какофонию, станет танцующим Шивой
в миг торжества, и исчезнет, как А и Б.
Венера
Поёт старый рыцарь, глядя на статую Венеры.
Вот – прошлое. Стоит перед ним в угловой нише в зале музея. Вылизанный паркет, белые с золотом двери, кровати с балдахинами и зеркала в тяжёлых рамах, картины Ван Дейка, доспехи, – и она. Стоит, обмерев, словно Белоснежка, поперхнувшаяся яблоком.
– Близко, далеко, почти, едва… – шепчет он ей. – Когда я впервые тебя увидел, я сразу тебя узнал. Мы говорили с тобой на нездешнем языке без аз и без язв – говорили белым светом в маковом поле, говорили поцелуями без уст… А потом я испугался потеряться в твоём мире, в твоей сельской обители, в твоих предгрозовых руинах, и змея выползла и, извиваясь, бросилась вниз.
Она – утрата, предчувствие и узнаванье. Туристы, проходящие мимо, считают его старым алкоголиком, непонятно зачем простаивающим часы перед мраморной статуей. Они не знают катастрофы, сломившей его: ведь девушка, которую он любил, была мертва, когда он был ещё младенцем, но теперь, когда он стал стариком, девушка, которую он любил, ещё не родилась.
– Как твоё имя? – спрашивает он её снова и снова. – Скажи мне, чтобы твоей красоте не грозило забвение!
И статуя разжимает белые губы и отвечает:
– В земле есть только молчание.
Крестовый поход зверей
звери идут в крестовый поход
ко Гробу Господню во граде Ерусалиме:
ягнёнок рядом со львом, и нету вражды между ними.
звери идут в крестовый поход:
медведи из леса, гиены песчаной пустыни,
антилопы саванн, крокодилы из Амазонки,
суслики из степи, северные олени, —
со всех поясов земли звериное населенье
идёт в Город великий,
в Храм христианской религии,
рога и копыта ко Гробу Господню свои преклонить
и поведать печали свои и радость о Нём
в простоте и невинности дикой молитвы,
рассказать о детёнышах, о беспощадном круговороте
года и дня и всего в природе,
о жестокой охоте, о хищных зубах сородичей,
о зимних запасах,
о вкусной траве, о манящем запахе мяса,
о беге и беге в лесу и трясущихся ветках,
и дыханье мохнатой подруги,
о весне долгожданной, нарядной,
о слепом невежестве и рождённой надежде,
о Иисусе Сладчайшем, мучеников крепосте,
монахов радосте, пресвитеров сладосте…
молвит епископ-медведь: мы в сибирской тайге
переписали Библию на бересту,
вот она – наша святая, сырая, живая Библия берестяная!
мы учили её вечерами, и друг дружке читали,
и мало чего понимали,
но Твоя весть благая и до нас дошла, Господи.
о многом нам, читая, пришлось подумать:
о страстях Твоих крёстных, о прощенье, об искупленье,
о смысле страданья, о радости Воскресенья,
и пришли мы сюда поклониться Тебе в надежде,
что есть и для нас, животных, место в Книге Животной.
В обещании катастрофы
есть долгий миг, когда замирают люди и звери,
как, остановленное Навином, солнце в стекле небоскрёбов.
атомы и молекулы, вирусы и амёбы
словно поставили в карты на «веришь – не веришь».
медленный миг повисает в воздухе прежде,
чем гром прогремит, и этот миг замедленья
пред катастрофой длится тысячелетья,
пока не погаснет чахлый фитиль надежды.
как под водой, замедленные движенья
совершают тела, жаждут любви и крови,
под небом жестоко ясным, последним небом.
как рыбы на дне, обречённые поколенья
успевают родиться и умереть до гнева,
в обещании катастрофы.
* * *
выпорхнут и упадут в ломкий наст ненастья
мёртвые птицы дождями над бредом талым.
кто вложит в застывшие пальцы прекрасной Насти
цветочек алый?
как роза Тюдора (алая наполовину),
как румянец бездомных – туберкулёз подвалов,
как столовые вина, бурлацкие спины —
цветочек алый.
за гаражами в небо восходят дымом
полчища птиц, воспламенясь напалмом.
– как моё имя? – спрашивает, – как имя?
– Румпельштильцхен.
Вскричал он: ведьма тебе сказала!
Свадьба (дождь)
груши и яблоки устилают невесте путь
по кромке светотенéй,
и земля желает дождя, как младенец грудь,
и только дождь желает землю и всё, что на ней.
только дождь способен груши и яблоки пожелать,
сияющие в траве малоросских рощ,
и невеста ложится на белые паданцы спать,
и невесту желает дождь.
может ли бог, как супруг, тебя пожелать,
как молочай, калину и урожай полей,
и в лице той, что на яблоках в белом платье,
дождём золотым объять землю и всё, что на ней.
Сойкинская святыня
(Первый снег в руинном храме)
Возгорается к службе люстра в лепном убранстве,
в подсвечниках медных пчелиные свечи тают,
и в царских вратах появляется и читает
молитву священник в рясе, усыпанной мелкой розой.
И с огонька свечи, обжигая, слёзы
стекают в литую вазу.
Пенье незримо струится, как дым кадильный,
и храм сияет, как снег, золотым Царьградом,
что восставляет в свете Господь всесильный,
и голубицы в купол летят отрадой.
…Снег идёт в храме, как сон Андрея Рублёва,
в багровых руинах, где нет ни люстры, ни врат.
Первый снег в октябре, чистый, как Божье слово.
Боковые проёмы выходят в осенний сад.
На остатках крыши растут берёзки, осины,
под иконами яблоки помнят про яблочный спас,
и Богоматерь с календаря – вся синяя —
осеняет воздушный домашний иконостас.
У алтаря – многоглазые грозди люпина,
вместо пола – песок и ковры из сплетённой хвои,
жестяное ведро с огорода
с цветами и красной калиной.
На иконе – простым мужиком
Николай Чудотворец.
Люди из деревень в приусадебной сладкой грушовке
приходят сюда и всё украшают сами,
а над ними дрожат ветви осени, запорошённые
снегом, идущим в храме.
Земля Франца-Иосифа
Земля Франца-Иосифа. Вечная мерзлота. Скудное лето нехоженой земли, прикрытой лишайниками и мхами. Жёлтые головки полярного мака, соцветия камнеломки – разрыв-травы, стелющаяся карлица – полярная ива, молодые листья которой богаче витаминами, чем апельсины, а сладкие молодые побеги со срезанной корой можно собирать ранней весной и есть во всей их земляной древесной сырости, как и молодые, пахнущие подземными соками корешки. Чукчи набивали ивой мешки из тюленьих шкур и оставляли киснуть в течение всего лета. Поздней осенью ива замерзала в кислую массу, и тогда её резали ломтями и ели, как хлеб.
Шерсть белого медведя летом кажется жёлтой ватой. Летом всему миру время быть беременным: беременна и медведица. Супруг её ждёт: сто́ит нерпе, усеянной светлыми, в тёмных ободах, кольцами, высунуть голову из воды, он оглушит её ударом лапы. Вот и гренландские тюлени с изогнутой арфой на боках радуются нищете северного июля.
Несмолкаемый птичий гвалт. Бескрайние птичьи базары. Альбанов слушает это неумолимое пение, как будто птицы на разные голоса выкликают имена тех, кто не дошёл, или тех, кто остался на пленённой льдами «Святой Анне». Ерминия – поют птицы, – ерминия, ерминия… Все эти птицы с причудливыми клювами и смешными именами: люрики – прелестные лирики, милые лютики, чистики – чистюли-чижики. Птенцы моёвок в гнёздах из утоптанного ила и водорослей на каменном карнизе недвижимо стоят на краю и глядят в слепую даль с ожиданием ли, надеждой, печалью, или, скорее, полным безразличием, издалека похожие на светлые пятна птичьего помёта, ибо нет ничего, что размыкало бы равномерную длительность их времени, всё ещё детского, потустороннего, и оттого свободного от хлопотной тяготы жизни любой взрослой особи. Впрочем, птицы небесные и лилии полевые на особом счету, и нам остаётся только недоумевать, когда мы встречаемся лицом к лицу с их беспечностью. Но что видят птенцы моёвок и видят ли они вообще что-либо? Ведь любое дитя, будь оно слепым или зрячим, человеческим или птичьим, взглядом своим свободно странствует над землёй и над небом, в сердцевине камня и в ядерном средоточии звезды, там находит оно нечто, по крайней мере, занимательное, но вот уже забывает о нём, встречая новые невообразимые предметы для созерцания, расположенные к детёнышу во вселенском попустительстве, каковым он пользуется.
Штурман Альбанов идёт по Земле Франца-Иосифа. Он всё ещё слаб от болезни, и оттого краски полярного лета кажутся ярче, до рези в глазах: этот невыносимо жёлтый, пронзительно лиловый, эти охрипшие голоса птиц… В памяти его встаёт лёд без конца и края, по которому он шёл эти месяцы, само воплощение несокрушимой твёрдости. Вечная мерзлота – великое безразличие. Альбанов смотрит в глаза белому ничто и видит лица тех, чьё человеческое тепло оно поглотило и чьи тела покрыло коркой своего смертельного морока: матроса Баева, который ушёл в разведку и не вернулся, заболевшего и умершего в пути матроса Архиреева, пропавших в береговой партии Максимова, Губанова, Смиренникова и Регальда, заболевшего и умершего матроса Нильсена, пропавших на байдарке в море Луняева и Шпаковского. Штурман Альбанов прикасается к белому мху, жёлтому венчику полярного мака, – ко всему беззащитному и временному, что производит земля. Завтра его увезут на шхуне «Святой Фока» домой, к людям, туда, где смеются и лгут, пьют чай и ухаживают за дамами, и где горожане придумали миллион предметов и занятий, чтобы отгородиться от того, что наблюдает за ними отрешённо и просто, как взгляд птенца моёвки.
Роза
Кто контуры розы рисует и снова
обводит, мелок зажимая в кулак,
усердно, как школьник для карты основу,
и роза становится именно так,
и, контур дрожащий подсветки иного,
блестит лепестков красный лак.
Я вижу твой контур в раскрывшейся розе
из лепета тайны, сумбура ночей.
Но в розовой чаше свернулся вопросом
Эдема вредитель – таящийся змей,
убор лепестков опаляя угрозой,
очерчивая всё сильней.
И, как в лихорадке, на пагубной грани
вся роза сквозь тьму выступает сама,
и света сквозным остриём меня ранит,
и тёмной каймой меня сводит с ума,
теряя себя в непрестанном сгоранье,
неприкосновенна весьма.
И, как воспалённую розу, земные
предметы рисует невидимый мел,
мешая с их сутью обводку иную,
и молвит мне, что я коснуться посмел
той тайны, которую ввек не пойму я,
меня не касаемых дел.
Дар
я подарю тебе пыльцой
покрытое, как роза лютни,
воздушней воздуха кольцо
вселенской власти абсолютной.
чтоб гопник не разбил лицо
твоё кавайное об урну,
из льда галактики кольцо
есть у тебя, как у Сатурна.
чтоб мутной жизни скучный сплин
твою персону не затронул,
носи, как Чёрный Властелин,
кольцо во славу Саурона.
и все начала, все концы,
и все архэ, и весь эсхатос,
и весь порядок, и весь хаос, —
они в кольце, в твоём кольце.
да возвестит судьбу мирам
твоё кольцо из зла и злата,
кольцо таланта и расплаты,
колечко в косах Мариам.
Псалом: молния
Ты – молния. Закон миров
тебе не выступит порукой,
и бьёт стремительно не в бровь
стрела, сорвавшаяся с лука.
И там, где ты произойдёшь,
твои бесчисленны щедроты,
но ждать тебя нельзя: ты дождь,
но вне погоды и природы.
Что революция, война
и смена правящих династий?
И полководцев имена
тебя являют лишь отчасти.
Вчера был случай: утонул
мужик в ведре. Он верил в случай.
И оттого он утонул,
что был чертовски невезучий.
«Не плюй в стакан – случится пить».
Увидишь сон, как виночерпий.
В подблюдной песне будешь петь
о том, что предсказали черти:
о том, что вынется кому,
то сбудется и не минует,
как день меняет тьму на тьму:
ночную тьму на тьму дневную,
что делается и берёт
начало, или происходит,
как Волга из тверских болот
и взрыв на порохо-заводе.
Предел. Начало и конец.
Межа и грань. Рубеж. Граница.
А я и ключник и творец,
а я и шуйца и десница,
как будто агнец и денница
(что морю – берег, жизни – смерть),
порфироносная царица,
и лён жены, и мужа медь.
И встреча, где меня и нет:
чем я быстрей, тем буду позже.
И травма: в зубы, и минет,
и десять раз ещё по роже,
мне восемь лет, мне девять лет.
Утрата Рая. Лёгкость боли.
И этот шрам, и этот след,
и паралич любви и воли,
как будто потушили свет,
и в вену героин вкололи,
чтоб видеть сон, что я поэт —
почти святой в дрянной юдоли.
И мёртв Сократ. И Бог распят.
«Свобода, равенство и братство!» —
у стен Бастилии кричат.
И в тунеядстве, пьянстве, б***стве
лесбийском свальном я зачат,
но ты себя отдашь мне даром,
и ты воздашь собой стократ,
мгновеньем, молнией, ударом.
…Вдыхать тебя, как никотин,
и знать, что знать тебя нельзя мне,
но можно в истине ходить,
как праведники со слезами.
Ты – молния. Зигзагом – шрам,
без места сам, но держишь место
всем утопическим мирам:
и Раю моему, и детству.
Ты выпадаешь, как игра —
броски мелькающие в кости.
И рану не зашьёт игла,
и бездна собирает в горсти
планеты, звёзды и людей,
и всех зверей, и все растенья, —
всё в крови Божьей и ничьей,
во сретенье и средостенье.
Коломна
В окно чердачное внимательно смотри,
как черепица раздувает жабры,
карабкайся до Солнцевой сестры —
её чертогов в форме дирижабля.
Вся скверна скверов и сверканье куполов —
как лупой подожжённая солома,
Сенная площадь, тысячеголов
луг асфодельный и асфальтовый – Коломна.
На ворвань двориков внимательно смотри,
как в стареньких котельных и на крышах —
котлы и трубы Солнцевой сестры —
её чертогов бастион Нарышкин.
И асфоделей позабытые кресты
не обойдёт твой взгляд, как тот паломник.
Я у чердачного окна стою, а ты —
передо мной в окне, в огне, Коломна.
* * *
пусть тост поднимая во славу лесов
кентавр потрясает копьём
вино из поганок под уханье сов
мы в белых стаканчиках пьём.
пусть царственно жаба сидит на пеньке
в уборе змеи, чей раздут капюшон
пусть скажет она: бре-ке-ке, бре-ке-ке…
на закусь у нас корнишон.
ещё до Колумба в великих лесах
я перья вороньи носил в волосах
когда я узнал вожделенье и страх
оленем бежал и койотом скакал
и был я стрелой над великой водой
и пустошью дикой, где пел козодой
и всех континентов я слышал прибой
о воду массивами скал.
пусть солнце – гнилуха, а звёзды – труха,
пьют горький напиточек наш
Махно и Пихто, да Ивась и Михась
да леший – весёлый алкаш.
протянет Ивась Михасю беломор
протянет Михась Ивасю мухомор
набив трухой трубки, целуются в губки
на камне среди сикамор.
в менад и кентавров блаженном кругу
я был пожеланием смерти врагу
влюблённостью нимфы на лунном лугу
сиреной я пел и сатиром плясал
был цаплей и жабой, ущербом Луны
в пещеры циклопы несли валуны
я слышал вступленье вселенской весны
во все мировые леса.
пусть ржавая плесень цветёт в котелке
как жаба в ночи пропоёт бре-ке-ке
Махно чтоб не сгинул, Пихто не погиб
вкушая чудовищный гриб.
Теремок
Говорящие мишки пьют мёд в терему.
Киски лесные – шубки в росе.
Кто, кто живёт в терему?
Все, отвечает, все.
Устал и на скрипке пиликать,
только мяучит, доколе
смотреть, как люди предают друг друга:
смотришь, не смотришь,
вот они —
братья-работорговцы, Иуда,
и ты, говорят, сдохнешь,
когда ты сдохнешь? —
так любящие спрашивают любимых,
как Иисуса в Иерусалиме,
как младенца – мать-наркоманка,
как благодетеля выкормленный найдёныш.
Любимые сдохнут, подождите ещё немного.
Смотрят большими глазами в глазах любимых
под дулом пистолета, под кулаком для удара,
на иконах в слепительных нимбах
гласящие: laudare,
сошедшие с детских книжек,
живущие под обложкой
говорящие мишки,
разумные кошки.
* * *
младенцы плывут по морю
в пухе лебяжьем;
игрушки им дарит пена:
цветные вертушки.
наливное яблоко в чаше
показывает холмы и далёкие пашни.
все безымянны, агукают,
отрешённо и просто глядят:
вот крестьянин по пашне идёт —
это дед,
вот – подёнщица-мать
полощет бельё на реке.
каждый знает: я буду врачом/пожарным/инженером/учёным
и лекарство найду от смертельной болезни,
человека спасу из огня.
вот-вот за мною аист прилетит
в капусту завернёт, в саду положит,
и угадай, как назовут меня.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































