Текст книги "Альманах «Российский колокол». Спецвыпуск. Премия имени Н. А. Некрасова, 200 лет со дня рождения. 1 часть"
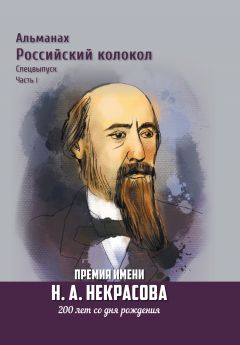
Автор книги: Альманах
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Обращает на себя внимание совпадение в сроках августовской разнарядки на репрессии и времени поголовного ареста мужчин на прииске «Сивагли». План надо было выполнять. Всего по зловещему приказу № 00447 на Дальний Восток было спущено три «лимита» на репрессирование в общей сложности тридцати шести тысяч человек, из которых на расстрел – двадцать пять тысяч и на заключение в лагеря – одиннадцать тысяч. Центр знал точное число враждебных элементов и степень их опасности на дальних окраинах.
Не лучше обстояли дела и в соседнем селе Троицком, что в девяти километрах от Успеновки. В гражданской войне многие жители села партизанили, из них погибших – до половины. В двадцатых годах здесь каждая семья имела приусадебный участок от тридцати до семидесяти соток, село процветало, а в тридцатом в нем был образован колхоз «Красный партизан». Вместе с колхозом в память потомкам остался список репрессированных из села Троицкое в количестве семнадцати человек.
* * *
Голод, снижение рождаемости, ссылки и репрессии – все сошлось к одному. Итоги творимых бесчинств можно было бы оценить по динамике прироста населения страны, но здесь-то и начинаются политические игры в жмурки, в которых хотелось бы разобраться. В наших рассуждениях примем за исходную позицию две цифры. Первое – по царской статистике, население России за 1897–1911 годы выросло на 33 миллиона человек, значит, ежегодный прирост составлял 2,4 миллиона. Второе – в 1926 году население Советской России составляло 147 миллионов человек, и тогда в 1937 году, в котором проводилась новая перепись, оно должно было составить, по «царской динамике прироста», 173 миллиона. Тем более что в 1930 году на 16-м съезде партии «главный статист страны» объявил о ежегодном приросте населения в конце двадцатых годов по три с лишним миллиона человек. Тогда, по «сталинской статистике», в 1937 году ожидаемая численность населения должна была приближаться к 180 миллионам.
Но подсчитали – и прослезились. Предварительные итоги переписи – без учета данных Наркомата обороны, а также без лагерного и тюремного спецконтингента – показали цифру всего-навсего в 156 миллионов человек. Возникает вопрос: где семнадцать миллионов советских людей, по царской статистике, или двадцать четыре миллиона – по сталинской? Указанную цифру «потерь» можно частично объяснить числом умерших от голода, которое, по разным оценкам, составило от шести до девяти миллионов человек. Голод – еще одно преступление государственной машины перед крестьянством. Из докладной записки руководства ГУЛАГа от 03.07.1933 г. в адрес ЦКК ВКП (б): «На почве голода резко увеличилась заболеваемость и смертность среди спецпереселенцев». Не будем сбрасывать со счетов до трех миллионов человек, находившихся под стражей. С десяток миллионов «недосчитанных граждан» отнесем на снижение рождаемости. Зачем рожать детей на мучения? Вот и вся арифметика, впрочем, без претензий на достоверность, скрытую для истории за семью печатями.
«Оргвыводы» по результатам скандальной переписи последовали незамедлительно. Газета «Правда» довела до общественности сведения о том, что «троцкистско-бухаринские агенты фашизма» пробрались в Центральное управление народно-хозяйственного учета, устроив в нем вредительские результаты переписи населения СССР. Совнарком признал материалы переписи «дефектными» и назначил новую перепись на январь 1939 года. Начальник проштрафившегося Центрального управления учета доктор экономических наук И. А. Краваль был арестован и расстрелян. Совсем неправильно считал. За ним арестованы десятки, если не сотни, статистов в центре и на местах.
Надо ли повторяться, что после двухлетнего разгула репрессий в январе 1939 года Совнаркому пришлось под копирку с предыдущего принимать новое постановление о признании материалов очередной переписи такими же дефектными и не подлежащими утверждению. Как будто сами не знали, что натворили, а дальше все огрехи поголовного учета строителей социализма списала война.
* * *
В 1937 году тучи над семьей Карпенко все более сгущались, но гром грянул, когда к Давиду Васильевичу пришел наведаться младший брат Дмитрий, отбывавший заключение в лагере под Успеновкой и отпросившийся у начальства побывать у родственников. Тем вечером, когда Дмитрий зашел к брату, там сидела соседка, склонная к болтливости и сплетням. Наутро вся деревня знала, что Дмитрий Карпенко сбежал из тюрьмы и скрывается у Давида. Той порой «беглец» помылся в бане, переночевал и утром, чуть свет, спокойно ушел в лагерь к утренней перекличке. У него-то неприятностей никаких, если не считать последующее исчезновение с лица земли, а несчастному Давиду приписали все грехи, мыслимые и немыслимые: и плохой уход за овцами, и что поил-то их холодной водой, а также укрывательство арестованного брата и уж конечно, вредоносную набожность, несовместимую с передовой коммунистической идеологией.
Обвинения вкупе потянули на восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества и высылкой семьи на север. Суд был показательным, при стечении согнанной деревни, в назидание того, как Советская власть расправляется с врагами колхозного строя. Большинство односельчан сочувствовало осужденному, жалело в душе, зная его безобидность и доброту, но были и злорадники, дождавшиеся расправы над «святым Давидом», да он таким и был. Давид Васильевич со смирением перенес прилюдное шельмование и ниспосланные испытания. Из зала суда конный конвой погнал преступника, в чем он был, на железнодорожную станцию, где поджидал товарный вагон с крепкими засовами.
Шел Давид Васильевич по Успеновке, и виделись ему широкое вольное поле и они, пятеро брательников, с горящими глазами и с отцом во главе, оглядывающие земную благодать, где простор развернуться молодецкому плечу, поднять богатую целину. Нет, не видеть ему больше родной Успеновки, выросшей на глазах трудом первых переселенцев, что встали здесь обозом на тридцать две подводы. Поставили они деревню на зависть кому-то, не для себя. Поставили деревню, подняли целинный край, жили под Божьим благословением в труде и достатке, кормили большую страну. И вот полвека спустя, из года в год, с 1887-го по 1937-й, Успеновка стала чужой, а его, старого и немощного человека, униженного и ошельмованного, лишенного честно нажитого добра, ведут под конвоем на мученическую голгофу…
Шли долго, конвой в нетерпении подгонял старика, тяжело переступавшего по исхоженной им земле больными ногами. Добрались до места, где формировался военный обоз с его, Давидовым, участием для китайского похода во службу Царю и Отечеству, когда левый амурский берег был окончательно закреплен за Россией. Перед Средне-Белой изнемогшему арестанту разрешили отдохнуть. Прилег, раскинув натруженные ноги, а в голове вставали другие события давних лет, ведь здесь, крадучись ночами в гражданской заварухе, они с Семёном гоняли повозки с провиантом в партизанский лагерь. Семён-то выдался бойчее, в активисты выдвинулся, вот и Иван благодаря сыну в раскулачники не попал, а на защиту дядьев Сёме влияния не хватило. Ладно, хоть Ивану с семьей не пришлось хлебнуть горя горького.
В 1937 году колхозу присвоено имя народного комиссара Ежова, главного исполнителя сталинских репрессий. Ежовщина проявилась во всей красе в масштабах маленькой деревеньки. Из двухсот пятидесяти семей Успеновки более половины раскулачено. Куда уж больше?! Девяносто семей вступили в колхоз. Многие уехали. В том же году колхоз возглавил Ефим Беличенко, человек малограмотный, но крепкий хозяйственник. Крепло и хозяйство. От государства поступала техника. Строилось жилье, появилась школа, за ней – столовая и даже детский сад. Колхозники трудились ударно, как когда-то основатели Успеновки. Сохранялась дореволюционная традиция сходок зимними вечерами в какой-нибудь из хат попросторнее. Вскладчину приносили угощения на разные вкусы, были песни, пляски и хорошее настроение под гармонь. Через пару лет колхозу поменяли имя расстрелянного Ежова на имя народного любимца Валерия Чкалова – уже хорошо. Жизнь налаживалась, слава Богу. Но колхоз колхозом, а крепких единоличных хозяйств, на современном языке – фермеров, недоставало, их как корова языком слизала.
С Прасковьей-мученицей было не легче. Едва утром она подоила корову, как к дому подъехал грузовичок, из него вышли два милиционера и дали ей два часа на сборы для высылки из деревни. С ними заявился новый «хозяин дома», тот самый сельский активист, что настрочил донос на Давида Васильевича. Он развалился по-хозяйски на кровати, следил, чтобы основательница домашнего очага не прихватила с собой чего лишнего из конфискованного имущества, принадлежащего теперь ему. Не зря же активист корпел народным заседателем на показательном суде, обличая «подкулачника» во вредительстве?
Что могла растерявшаяся старушка, то и собрала. Сунула в заветный сундучок, доставшийся от матери, подушку, одеяло, пару комплектов белья и заготовленный посмертный наряд, решив, что на высылке без него не обойтись. В сумочку отдельно сложила буханку хлеба и десяток помидоров. Подошли два стражника, один из них подхватил сундук, ее саму затолкали в кузов полуторки и под плач соседок больную и старую женщину, мать девятерых детей, повезли из села родного на далекую чужбину. В машине ей стало плохо, начались припадки, но шофер дал газу, а там разбери, отчего трясет арестантку да подбрасывает на ухабах по дну кузова.
Очнулась Прасковья в товарном вагоне, куда ее в бессознательном состоянии сгрузили милиционеры, передав по этапу дорожным конвоирам. Рядом стояли неразлучный сундучок и походная сумка с раздавленными помидорами. Кругом незнакомые люди. Сердобольные женщины с горечью смотрели на беспомощную старушку, отправленную в северную мерзлоту. Такую узницу им еще не приходилось видеть.
Весь день в товарняк свозили с района горемык с навешенным на них ярлыком ЧСВН, членов семей врагов народа. Под вечер отряды конвоиров с синими околышками на фуражках набили живого груза ЧСВН в семьдесят два вагона, так что паровозу тянуть было не под силу. Потащили тяжелый состав двойной паровозной тягой. Сколько же врагов оказалось у народа на тот день только с одного района! И как россиянам удавалось выживать до революции в сплошном вражеском окружении? Это, конечно, царская промашка. Плохо царь выявлял врагов народа, на Амурскую область всего одна тюрьма на двести пятьдесят заключенных. Опять революции хлопоты да заботы на исправление дел.
* * *
Ехали дней пять. Питались тем, что успели захватить при скорых сборах. Кто-то рассчитывал на государственный дорожный паек, ведь на все про все не напасешься, но такие просчитались. Остановились ночью на станции Большой Невер, поезд загнали в тупик, а рано утром, пока станция не проснулась, началась погрузка из вагонов сразу на подъезжавшие к ним машины, которых была не одна сотня. Высокая организованность в условиях северных широт. Длинная колонна машин тронулась по Якутскому тракту на золотые прииски.
Среди спецпереселенцев – так их теперь стали называть, да хоть как называй, хрен редьки не слаще – мужчин было мало, они больше специализировались по лагерям да тюрьмам, а преобладали женщины и дети, которых некуда было деть. Вот и везли детишек на высылку вместе со взрослыми. Крепкую закалку получали малолетки, если выживали. Из докладной записки наркома внутренних дел Г. Ягоды от 26.10.1931: «В числе умерших особенно много детей младших групп». В 1939 году Л. Берия сообщал В. Молотову о четырех с половиной тысячах детей ясельного возраста, содержавшихся в исправительно-трудовых лагерях. Имелось также пятьдесят колоний для несовершеннолетних детей репрессированных родителей. Проявлялась забота о детстве.
Охрану военные служаки передали милиционерам, отсюда далеко не убежишь. Ехали на большой скорости и почти без остановок, многих укачивало, дети сильно страдали, взрослые не показывали вида: все равно бесполезно. Вечером другого дня колонна подошла к поселку Джелтулак, где ее снова встретили службисты ГПУ, относившиеся к несчастным людям враждебно, как к преступникам. В этих местах в конце девятнадцатого века был основан прииск Васильевский, при котором вырос небольшой поселок Стрелка. Позднее старатель Соловьёв в девяти километрах от Стрелки, на реке Джалинда, что у коренных жителей означало «каменистое дно с валунами», разбил поселок, а при нем устроил прииск Соловьёвский, ставший весьма перспективным. В советское время Стрелка вошла в состав Соловьёвского сельсовета.
Прасковья была распределена на прииск «Стрелка», куда привезли пятнадцать семей – и почти все из одной деревни, с той же Средне-Белой. Никуда от нее, да оно и лучше, как-то ближе к родным местам. Какую рабочую должность могла исполнять Прасковья, больная и старая, мало бы кто подсказал. Кроме как для роли пациентки, не годилась ни на что, а тут объявились и опекуны. Среди сосланных на «Стрелке» оказалась семья Закитных с Дуняшей, Прасковьиной племянницей, во главе. Дуня была дочерью младшего брата Прасковьи, Ивана, того мальца, которому злой мачехой разрешалось ехать на телеге переселенческого обоза. Племянница вышла замуж за Архипа Закитного, взятого по политике, а ее с четырьмя взрослыми дочерями, как ЧСВН, выслали подальше от дома, чтобы не смущали новых владельцев. Младшую дочь Надю Дуня поставила присматривать за больной теткой, а заодно готовить пищу на бригаду.
Золотодобытчиц поместили в старых деревянных бараках, где раньше содержались заключенные. Нары были общими, без всяких перегородок, посреди барака стояла бочка, приспособленная для отопления. Разбитые окна, грязь и вездесущие клопы. Приводить заброшенное жилье в порядок предстояло самостоятельно. Женщин и девушек распределили в старательские бригады, выдали хлебные карточки. Нетрудоспособных и детей тоже не забыли, выдавая по четыреста граммов черного хлеба, без всякого варева, но разрешался сбор подножного корма, таежных грибов и ягод, пока они были. И на том спасибо.
Женщины-старатели мыли золото в бутарах, кои делались из теса в виде длинных корыт, дно которых выстилали суконными ковриками, а сверху накрывали железными решетами для приема золотоносной породы. Породу промывали водой из шланга, один конец которого опускали в ручей, а воду подавали насосом, работавшим без всякого электричества. И зачем оно нужно, электричество, если воду качали четыре женщины фигурами покрепче, попарно стоявшие с двух сторон насоса на рычажном коромысле? Работа не пыльная, хотя монотонная и изматывающая плечи, руки и спину. Породу таскали из ручья как придется. Пустая смывалась струей воды, а тяжелый металл, ради которого устраивалась вся затея, проваливался через решёта, задерживаясь на ковриках. Дневной сбор сдавали в золотоскупку.
Совсем простая технология, проще не придумать, да еще на дармовой рабочей силе. Рабочая сила трудилась на босу ногу, все равно любые боты промокали насквозь, а резиновой обуви не было и в помине. Север оставался севером даже в августе, и босоногие старательницы, едва одыбав от одной болезни, попадали в другую. Для подмены имелся резерв ЧСВН. От кровососущих тварей не было спасения круглые сутки, на смену ночным, ползающим и скачущим, днем слетался гнус, мошкара проклятая, бич Сибири тех времен. Вечером отдохнуть бы лишний часок – так надо было идти в комендатуру на поверку. Таким был в основном распорядок дня для спецпереселенок на прииске с романтическим названием «Стрелка», где о романтике напоминали изнасилования девушек пьяными конвоирами.
Тем временем выпускник ФЗУ Иван Карпенко за отличную учебу был премирован путевкой в сад-город, или дом отдыха под Владивостоком. Значение фабрично-заводских училищ, которые до войны дали стране почти полтора миллиона квалифицированных рабочих, в решении народно-хозяйственных задач трудно переоценить. Опора индустриализации. После отдыха опять хорошая новость: дирекция ФЗУ оставила его в училище мастером-инструктором по обучению учеников слесарному делу. Так восемнадцатилетний паренек из Успеновки выдвинулся в ряды мастеров производственного обучения. Ивану и другому выпускнику-отличнику, Саше Полинскому, выделили в общежитии комнату-квартиру, в которой они жили в большой дружбе. Друзей Иван заводил везде и всюду, без них он жить не мог, и ничего тут не поделаешь.
Преподавательскую работу неугомонный ученик совмещал с учебой на вечерних курсах помощников машиниста, открывшихся при депо. Успешно окончив их, поступил на работу по специальности. Три года водили они с машинистом Н. Н. Щербаковым на паровозе «Феликс Дзержинский» скорый пассажирский поезд по маршруту Москва – Владивосток. Посмотрел Иван на большую страну, подивился тем стойкости и силе духа, какие проявили деды и отцы, шедшие конным обозом по бескрайним сибирским пространствам. Как можно было пройти пеший путь, если поездом его одолевали с месяц?
На перегонах поезд шел долго, мерно пыхтел по равнинам, петлял меж склонов гор. Из окна насмотреться можно всего. Вот неистребимая природа пробивалась на полянках мелкой хвойной порослью. Елочки тонкие и стройные, узорчатые, с ярусами веточек от земли. Сосенки формировались по-другому: высоким стволиком и пучком веток на верхушке, с пяток штук. Прямо детский сад, подраставший тайге на смену и, главное, без особого пригляда со стороны. Грело бы солнце, была бы земля. А ведь в природе-то покрепче поставлена выживаемость, чем у человека, которому всегда чего-то не хватает, и всегда он от кого-то зависит, размышлял Иван. Так и у него, Ивана, как-то сложатся впереди дела?
А дела складывались благоприятно. По рекомендации дирекции депо Ивана Карпенко, лучшего помощника машиниста Амурской дороги, награжденного именными часами наркома путей сообщения Кагановича, без вступительных экзаменов приняли в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Дорогие карманные часы Ивану вручил лично нарком, забравшийся на Бочкарёвской станции в кабину паровоза и хваливший бригаду за хорошую работу. Машинисту Н. Н. Щербакову он вручил тогда золотые часы, тоже именные.
Партия подстегивала хозяйственников к досрочному выполнению пятилеток, поощряя стахановское движение. В их рядах насчитывалось до полутора миллионов передовиков производства. На Амуре инициатором стахановского движения стал бригадир-забойщик Кивдинских угольных копей П. Рябцев, который превысил дневную выработку угля более чем вдвое. В области тысяча стахановцев вела за собой трудовые коллективы к досрочному выполнению пятилеток. На Амурской железной дороге работала школа стахановского опыта. Для стахановцев открывались отдельные столовые с белыми скатертями на столах. Почет. Иван Карпенко, конечно, находился в стахановских рядах, о чем свидетельствовала заверенная справка от 07.07.1936 года: «Справка от Центральной электрической станции ДУПУ товарищу Карпенко Ивану Давидовичу в том, что он Стахановец…».
В хабаровском институте стахановец тоже блистал, сдавая одну сессию за другой на отлично. Ему назначили повышенную стипендию, портрет паренька из амурской деревушки не сходил с институтской Доски почета. Ивана, авторитетного студента, избрали секретарем комсомольской организации факультета. Комсомольский секретарь, поглощавший одну за другой научные и общественные премудрости, безоговорочно верил в идеологию равенства, братства и справедливости на земле.
А как же иначе?! Где она, другая идея, отвечающая вековым чаяниям человечества? Насколько отец, Давид Карпенко, верил в Бога, настолько же Иван укреплялся в марксистско-ленинской теории, самой прогрессивной и человеколюбивой из всех. Впрочем, оба они, отец и сын, шли по единому пути человеколюбия и добродетели: один – Божьими тропами, другой – научно обоснованным путем.
В институте Ивана ждала радостная встреча со второй школьной любовью, Машей Романюк, которую он когда-то выносил на руках из бурлящего потока под Успеновкой. После детской любви с Леной Гальченко, о которой речь впереди и которая осталась где-то позади, и подростковой любви с Любой Козловой это была любовь более высокого уровня и смысла. Помнил Иванка, как тогда, в ледяной реке, Маша, плотно прижавшись к его груди холодным дрожащим тельцем, тихо шептала ему на ухо:
– Неси меня, Ваня, неси!
Школьная любовь одноклассников в хабаровском институте переросла в юношескую. Таков процесс воспитания чувств. Ах, Маша, Маша, красивая и умная девушка, спокойная и отзывчивая! Любящие сердца лелеяли и берегли глубокие чувства, не спешили предаваться любовным страстям. Их любовь, не запятнанная бытовыми неурядицами, останется чистой, светлой и одухотворенной на всю оставшуюся жизнь, хоть молись на нее, когда нет иконы. Они вместе строили радужные планы на будущее, видели себя инженерами, представляли, какими они будут в трудовых коллективах: знающими, уверенными и авторитетными руководителями. Видели и счастливое семейное будущее; вот оно, уже не за горами! Когда Иван легко подхватывал любимую и кружил ее по комнате на сильных руках, Маша мечтательно закрывала глаза, приговаривая:
– Неси, неси меня, Ваня! Неси, как тогда, на переправе через бурную реку. Ты помнишь?
– Еще бы мне не помнить!
* * *
В один из таких безмятежных дней почтальон принес телеграмму: «Распишитесь в получении». Телеграмма была из Успеновки, от Доры. Что за новости? Прочитал и глазам своим не поверил: «Отца посадили, мать выслали». С этим коротким сообщением рухнула прекрасно начинавшаяся жизнь, рухнули все планы и мечты, которые еще вчера были такими близкими и реальными. Соответствующий циркуляр по линии НКВД без промедлений поступил и в институт. Комсомольского секретаря исключили из рядов ленинского комсомола. Институт вычистили от вражьего отребья.
Схожая участь, как под копирку, постигла и Машу Рубанюк. Родителей раскулачили, отца, Афанасия Терентьевича, посадили на десять лет, семью выслали на север, где места хватало всем. Машу, успевающую студентку, исключили из института. Девушка, к полной неожиданности для себя оказавшаяся дочерью врага народа, вся в расстроенных чувствах, уезжала к родной сестре, в далекий город Николаевск, откуда до северного Сахалина рукой подать.
Тяжелое расставание. Маше надо было на восток, в низовья Амура, а Ивану – на запад, к верховьям реки, чтобы понять, что случилось на родине. Прощальные объятия.
– Мы встретимся, Ваня?
– Мы обязательно встретимся, Маша!
Любовь пришла к ним как награда,
Как путь к счастливым берегам,
Но встала грозная преграда,
И сердце рвется пополам!
Ему на запад путь назначен,
А ей назначен на восток,
Их ждет разлука, не иначе,
И неизвестен ее срок.
Они встретились однажды, когда Маша приезжала в Свободный, а больше влюбленным не суждено было увидеться. Маша уехала, а семейство Романюк с годами укрепилось в Успеновке. Афанасий Романюк искупит вину перед страной в боях, вернувшись с войны при медали «За боевые заслуги». Его сын, Владимир Афанасьевич, станет в колхозе главным бухгалтером. Анисья Романюк, слывшая по селу крайне рачительной хозяйкой, будет заведовать колхозным зерновым двором. Еще и Анна Романюк отличится медалью за доблестный труд в годы войны. Стойких защитников колхозного добра воспитал «враг народа» Афанасий Романюк. Такая же история повторилась и в семействе Замула, где братья Иван Петрович и Павел Петрович расстреляны, а Николай Замула в 1942 году стоял насмерть за родину в Сталинградской битве, о чем свидетельствует справка Амурского краеведческого музея.
* * *
Иван срочно приехал в Успеновку. Вот он, дом родной, поставленный полвека назад родительскими руками. Но лучше бы Ваня в него не заходил. Во дворе деловито ходила красноперая наседка с цыплятами-огневушками. Закрепилась во дворе куриная порода, снятая Алексеем с проплывавшей стайки во время большого половодья. А Бобка, славная дворняжка, была посажена на цепь и просто сходила с ума от радости при виде молодого хозяина, одного из прежних, с которыми она жила душа в душу, хотя души у них были разные: одна – собачья, другие – человеческие. Наконец-то все будет как раньше! Вернулся настоящий хозяин! Истосковавшаяся собака рвалась с цепи, крутилась юлой, радостно лаяла и визжала одновременно. Даже слезы выступили на ее глазах от переполнявших чувств.
На шум из дома вышел хмурый хозяин. Увидев Ивана, он рассвирепел. Только что ему удалось изгнать из дома одних, как тут же является другой, их сынок!
– А ты что тут забыл? – услышал Иван грубый окрик. Он, конечно, не ждал дружелюбного приема, но буквально опешил от неприкрытой злобы во взгляде, в голосе и самой позе человека, захватившего чужой дом.
– Я хотел узнать, куда отправили маму. Может быть, вы знаете?
– Отправили куда надо! Еще раз появишься – вызову милицию, и тебя за ней следом отправят!
Иван со слезами на глазах выслушал озлобленную отповедь и под взглядом грустных собачьих глаз побрел со двора. Дом родной! Будет ли ему еще такой? Когда-то он вглядывался из зыбки в потолки и бревенчатые стены, светозарные лики икон, хранящие в доме согласие и покой. Потом путешествовал мальцом на неокрепших ногах по двору и огороду, открывая большой и неведомый мир. А сколько вложено труда в обустройство усадьбы им, Иваном, в отрочестве! Сейчас все это чужое. И памятный амбар со сладкими снами на пару с Любой-русалочкой – тоже чужой…
Притихшая дворняга, проводившая на днях хозяйку, которую увели со двора чужие люди, поняла, что отныне навсегда осталась без людей, которым была предана и привязана всю свою собачью жизнь. Уже несколько дней их не было дома, вот и молодому хозяину заказана сюда дорога. Что-то сломалось в жизни родного двора, и придется ей, старой, слабеющей собаке, одиноко тянуть век на железной цепи. Оставалась лишь память о прошлом. Картины лучших времен живо вставали перед ее глазами, едва прикрыть их, положив голову на вытянутые лапы, и открывать их уже не было желания.
Бобка молчала. Не ее собачье дело – вмешиваться в хозяйские разборки. В глазах непреходящие слезы. Но то были уже другие слезы, не те, которыми радостно блестели глаза в первые минуты встречи, а слезы безнадежной горечи и тоски от предстоящей разлуки. Бобка была умная собака, понимала человеческую речь, и ей стало ясно, что она в последний раз видит одного из своих настоящих хозяев.
Что-то случилось
В этом подворье,
Горе прибилось,
Горькое горе.
Тучи сгустились,
Мрак беспросветный,
Запропастились
Хозяева где-то.
Люди худые
Цепью сковали,
Дни, как пустые,
Тусклыми стали.
Эх, судьбы! Судьбы людские да собачьи! Разные и одинаковые! Почто оно не так, как надо? Когда-то Бобка, спасавшаяся от бешенства и угрозы пристрела, покинула родной двор, ушла в поле зимовать, под хозяйскую копну. Такая она, собачья жизнь. Сегодня Ивана выгнали, как паршивую собаку, из дома родного, дома-колыбели, под угрозой быть высланным за изгнанными родителями. Чем ему не собачья судьба?
Семейная родословная, дерево, пустившее корни на благодатной почве Приамурья. Сколько их было в первых поколениях поселенцев? Не сразу сосчитать. У пятерых братьев – от семи до десяти детей, лишь у дяди Коли поменьше, трое. Поставили чуть не десяток домов, которые теснились к изначальному, родовому. Не все из них сохранились. Впритык к отцову один из домов – дяди Коли, чуть в сторону – дом дяди Вани, вон он, красавец на всю деревню, с резными окнами и огромной террасой. Есть и другие, но все уже с новыми, откуда-то взявшимися хозяевами, и не к кому стало приткнуться. Опустела многочисленная родословная, словно налетевшая буря сорвала с березки осенним ненастьем пожелтевшую листву и разбросала по листочку в безвестных полях и чащобах. Где их искать?
Ты тот же листок судьбы непреклонной,
Она тебя спишет под чью-то потраву,
Не отрывайся от кроны зеленой,
Не покидай вековую дубраву.
Она тебе служит родительским кровом,
Только отпущенный век тот недолог,
Нет тебе места под снежным покровом,
Мерзлая осень пропишет некролог.
Ветер промозглый накинется грозно,
С веток сорвет, в ночку бросит смурную,
В полях, где шумели весенние грозы,
Тихо опустит на землю сырую.
Природа исполнит свой вечный обряд,
Березки оденутся новой листвою,
Сбросив обветренный желтый наряд,
Будут зелеными ранней весною!
Но сейчас-то куда пойти? Не под копной же ночевать! Вспомнил, что на окраине деревни жила добрая знакомая их семьи, Татьяна Лисовая, у которой муж умер, а ее большой семье всегда помогала Прасковья. Туда и пошел. Тетя Таня приняла Ивана как родного сына, обняла, вся в слезах от переживаний за трагедию семьи. Уже на закате века Татьяна Сергеевна Лисовая на какое-то время возглавит колхоз имени Чкалова. Ужель та самая Татьяна?
Узнав от нее, что и как произошло, Иван утром пошел в Средне-Белую, на станцию железной дороги. Он шел той же дорогой, которой намедни конные охранники гнали отца, взятого под стражу из зала суда. Шел и представлял отца-арестанта с его больными ногами, подгоняемого всадниками. Ему-то, Ивану, молодому и сильному, дорога была в нагрузку. Какова же она была отцу? Вспоминал отца, тоже молодого и сильного, насколько позволяла детская память, и всегда видел его в работе, в труде: то на стропилах возводимого дома, то на покосе с рожковыми вилами, забрасывающим пласты сена на высокий зарод, или за плугом по весенней вспашке. Не мог только вспомнить отца без дела, разве что за варкой вкуснейших супов и борщей на заимке, которыми маленький Ваня наедался от пуза. Или перед сном, когда он рассказывал сынишке славные сказки.
И это враг народа? Какому народу в Успеновке он был врагом? Не тому ли проходимцу, что поселился в отцовом доме? Нескладно, совсем нескладно как-то получается. Не увязывалась обрушившаяся на семейство страшная жизнь с теми идеалами, ради которых люди жили, трудились, учились. И кто сейчас он сам, Иван? Студент, исключенный из института… Комсомолец, исключенный из комсомола… Сын врага народа…
С невеселыми думами пришел Иван в Средне-Белую, оттуда поездом приехал в Шимановск, к Доре. К кому как не к ней, старшей и любимой сестре, обращаться теперь ему, оставшемуся не у дел? Дора жила у тети Марины, родной сестры матери. Маринка и Параска, две маленькие девочки, шедшие когда-то в далеком детстве за телегой в обозе переселенцев. Одно желание было у тех малолеток – присесть хоть на минуточку на движущуюся телегу, хоть на краешек, хоть по очереди, ведь не будут они, тонкие девчушки, тяжестью для сильной лошади. Так и сегодня сбросила судьба-судьбинушка со своей телеги Прасковью Ивановну, где-то мучается она без близкой поддержки и заботы, хоть и давно нет на свете злой мачехи. А может, сама судьба и стала ей той мачехой? И держит на привязи, стягивая удавки время от времени?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































