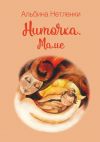Читать книгу "Иногда корабли"

Автор книги: Аля Кудряшева
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Аля Кудряшева
Иногда корабли
Последний звонок
Тем, кто ещё пока не может это прочитать
Посмотри на часы, видишь, стрелки горят в темноте
И крадутся легко, осторожно, по кругу, по следу:
Часовая шарахнется вправо, минутная слева
Нагоняет её, то есть тень помещается в тень.
«…»
Много ветра и много горячего дерева,
Первый час из последнего летнего дня.
Если стоит сегодня на что-то надеяться,
То на то, что мне будет не жалко меня.
Луч фонарика вязнет в потёках смородины,
Повисает на ветках, в паучьей сети.
Я не знаю пока что, что будет не пройдено,
Но я очень боюсь никогда не пройти.
Что-то ходит вокруг, невозможно печальное,
Луч фонарика ярко ложится на бинт.
Я люблю тебя медленно и с опечатками,
Потому что я плохо умею любить.
Если вспомнить – река покрывалась мурашками,
А потом уходила в лесок за спиной.
Если что-то случится – пусть будет нестрашное,
Я боюсь, когда страшное рядом со мной.
Если вспомнить – сентябрь. Невозможный и ласковый.
Взял – и бросил, как в прорубь, – не бойся, живи.
Вот на мне повисает пучок первоклассников,
Им не страшно со мной говорить о любви.
Я учусь у них счастью, учусь у них честности,
Так нечестно меняя на буквы любовь.
А они демонстрируют юные челюсти
В тёмных дырках от старых ненужных зубов.
Кем ты станешь потом? Я хочу воспитателем.
Я хочу балериной. Хочу моряком.
Вы не станете, вы уже стали – спасатели —
Непоследним пайком, предпоследним звонком.
Я хочу в туалет. Я хочу быть как бабушка.
Я хочу до звонка рисовать на доске.
Это что? Это лошадь? Да нет, это бабочка!
Точно, бабочка! Ты уже дружишь? А с кем?
И хватаешь как солнышко, как подношение,
Как единственный пропуск, как пряник и кнут,
Для неё – семилетней – лишь я утешение,
На ближайшие пять с половиной минут.
Вы не станете, вы уже стали – ваятели.
Грязным пальцем и бусинками на груди.
Я тебя ненавижу.
Люблю тебя.
Я тебя.
Что писать?
Можно мне в туалет?
Ну, иди.
Мне не страшно представить всех ведьм, даже с мётлами.
Мне почти что не страшно стоять на краю.
Я читала безумное, злобное, мёртвое.
Я держала в руках безысходность свою.
Говорила с несмогшими, даже с не ставшими,
Не боюсь нелюбви, тошноты, темноты,
Только самое страшное – самое страшное —
По косой, меж линеек: «Хочу быть, как ты».
Не хоти, подрасти, передумай, куда же ты.
В тесной вазе лениво томятся цветы,
Это лето почти что до капельки дожито,
Капля лета убьёт… Это лошадь? Нет, ты!
Это просто цветы, это стало традицией.
Дома будет покой, тишина и кровать,
Это я убиваю тебя эрудицией,
Потому что я плохо могу убивать.
Много ветра и много горячего дерева.
«Жи» и «ши» напиши обязательно с «и».
Вот я стала учителем, что я наделала.
Вот тебе моё счастье, не бойся, носи,
Притворяйся, как я, что ты сила, что ты сейчас переделаешь всё.
Что все выси – тебе.
Мы когда-нибудь встретимся – дней через тысячу.
И боюсь, что опять, как всегда, в сентябре.
Беспокойные чёлки, над бровью две родинки,
На коленках белёсо сияют бинты.
На последний урок мы приносим смородину,
В мягких ягодах вязнут щербатые рты.
Мне нельзя молоко.
У меня есть два братика.
Я хочу в туалет.
Я хочу моряком.
Без линейки, смотри, я рисую квадратики.
Можно я – через год – тоже буду звонком?
«…»
То есть тень помещается в тень. Что-то будет, да чёрт бы с ним,
Будет долго и счастливо, как там бывает всегда.
Луч фонарика медленно, нежно ползёт за автобусом.
Это лошадь? Да нет, это бабочка, бабочка, да.
Про языки
Она всю ночь училась своим наукам, каким-то нанайцам, а может быть, финно —
уграм. Или другим неведомым языкам. Раз в две недели он входит к ней рано
утром, стараясь не разбудить ни единым звуком, стараясь не отражаться среди
зеркал. Солнце забралось в ее золотую прядь. Первый столичный поезд приходит
в пять.
А первая электричка приходит в шесть. Она сопит в две дырочки, нос в подушку.
Он напевает, стоит под горячим душем. Хозяйский кот испуганно дыбит шерсть.
Она все спит. Так просто спокойно быть с ней рядом, сны ее рассмотреть цветные.
Он научился уже приносить цветы ей, но плохо пока умеет их подарить.
А солнце светит во всю неземную прыть. На стенке тень от листьев сквозит резная.
Она себя не любит – он это знает и тем еще смешнее ее любить. И убеждать ее,
и боготворить, носить на руках по улице – всё без толку. Она работает смайликом
в гуглтолке – по крайней мере, любит так говорить. Она всегда говорит
и немножко врет, его называет то мужем, то вовсе братом, то клятвы дает на сотни
веков вперёд. Да ну ее, Боже мой, кто ее разберет. А кто разберет – не соберет
обратно.
Он входит в комнату, небо бьет синевой. Находит ее часы под каким-то стулом.
Усталость стекает по гладко выбритым скулам. Он знает, что она уж давно
проснулась и просто смотрит цветные сны про него. Сердитый кот когтями диван
дерёт, глядит на него глазами цвета металлик. Она спросонья щеки ладошкой трёт.
Он улыбается: «Кто тебя разберет…»
И прячет в карман тихонько пару деталек.
Сто дней, сто ночей,
Плачет город – он ничей,
знаешь, жизни несчастливых
сходятся до мелочей.
Сейчас два часа тридцать восемь минут. Сейчас я сажусь за стол, беру карандаш
и пишу тебе то, чего от меня не ждут. А если ждут, ты когда-нибудь передашь.
Море плясало и дождь над ним причитал. Я этого не писала. Ты этого не читал.
Когда-нибудь он выходит ее встречать. Он надевает куртку, берет собаку,
на лестнице недовольно пинает банку и вежливо отвечает, который час.
До остановки, в общем, недалеко, но он шагает медленно, отражаясь в широких
мелких лужах, от листьев ржавых, в колючем небе, бледном, как молоко.
Он впитывает разрозненный звукоряд, прозрачный несезон, холодок по коже,
он думает, что любимые все похожи на мелкий дождь, танцующий в фонарях.
Он думает, что они все похожи на неоновые змейки на мокрых крышах, на то,
как осторожно на руку дышат, когда она несильно обожжена.
Она его обнимает. Слегка сипя, здоровается. Бросает собаке коржик. Он думает,
что любимые все похожи и улыбается этому про себя.
Когда-нибудь, например через пару дней, она сидит в автобусе, как живая, опасная,
как собака сторожевая, когда добыча распластана перед ней. Она сидит
и внутри у нее все лает и смотрит глазами цвета, как жидкий йод. По радио
какой-то мудак поет: «Ах девочка моя, ла-ла-ла-ла-лайла, ах девочка моя, ты такая
злая, как будто он совсем тебе не дает».
Она подходит к выходу, словно зомби. И слезы в ней дрожат, будто зерна в зобе.
Она ревет, вдыхая прогорклый смог, двадцатилетний лоб, а точнее лбица, как будто
весь мир старался к ней продолбиться, а этот придурок смог. И заяц жил, и лисица
жила, и львица – а медведь пришел и разрушил весь теремок.
Она стоит и коса у нее по пояс. И щеки мокры от слез. А у любви есть тот,
кто попал под поезд и тот, кто забрызган грязью из-под колес.
Когда-нибудь мы сидим с тобой вшестером – ты, я и четыре призрачных
недолюбка и лунный свет, и моя голубая юбка, и дымный и негреющий костерок.
Когда-нибудь мы сидим с тобой у огня и ты говоришь мне: «Слушай, кто
эти люди?» И я отвечаю: «Это все те, кто любят или любили неласковую меня».
И я говорю: «Вот этот отдал мне год, а этот два, а этот платил стихами, которые
внутри меня полыхали и отражались строчками у него. Полсотни месяцев, сотни
живых зарниц, бессонных и счастливых глазных прожилок – которые я тогда
у них одолжила и вот сейчас должна всё прожить за них. Вот видишь, складка,
горькая, пожилая, вот слышишь – смех неистовый, проливной – ты думал,
это было всегда со мной, а это я кого-то переживаю».
Быть может и сама того не желая – но вечно, как и водится под луной.
Время – наверное пять с хвостом. Острым карандашом этот текст написан о том,
что всё будет хорошо.
И острием самым подведена черта.
Я этого не писала.
Ты этого не читал.
Ей двадцать пять, у нее не жизнь, а несчастный случай.
Она все время спешит и все время не успевает.
А он говорит ей в трубку: «Маленькая, послушай»,
И она от этого «маленькая» застывает.
Не отвечает и паузу тянет, тянет,
Время как будто замерло на часах.
И сладко чешется в горле и под ногтями,
Ну там, где не почесать.
Ей двадцать пять, у нее не нрав, а пчелиный рой.
Сейчас все пройдет, сейчас она чай заварит.
Она сама боится себя порой,
А он ее маленькой называет.
Сосед нелепо замер с раскрытым ртом,
Размахивая руками.
Двухмерный, как будто бы он картон,
А может, бордюрный камень.
Ей двадцать пять, у нее не вид, а тяжелый щит,
У нее броня покрепче, чем стены в штольне.
Как посмотрит пристально – все вокруг затрещит.
А он не боится, что ли?
Он, наверное, что-то еще говорит, говорит,
Что он не придет, что прости, мол, что весь в цейтноте.
Она не слышит. У нее внутри что-то плавится и горит.
И страшно чешутся ногти.
Шарлотта Миллер
Шарлотта Миллер выходит из дома утром, но так темно, что в общем неважно, что
там. Поскольку внутри Шарлотты Миллер и так так муторно – как будто бы ей
под сердце вкрутили штопор. Шарлотта Миллер не моется и не молится, выходит
из дома без шарфа и без ключа, идет к остановке, бормочет из Юнны Мориц, как
снег срывается с крыш, всю ночь грохоча. И снег срывается, тычется в грудь,
как маленький, в ботинки лезет, греется, тает, ёрзает. Шарлотте хочется стать
не Шарлоттой – Мареком. А может, Йозефом. Лучше, конечно Йозефом.
Я буду Йозефом, буду красивым Йозефом – твердит она, покупая билетик
разовый, я буду носить пиджак непременно розовый и буду носить кольцо
с голубыми стразами. На этом кольце будет инициалом ижица (она залезает
в маршрутку, сидит, ерошится. Я буду трахать всё, что хоть как-то движется, и всё,
что не движется, но со смазливой рожицей. Я буду жить по гостям и бухать по —
черному, владеть уютной берлогой и Хондой Цивиком. Я буду ученым-физиком —
ведь ученому положено быть сластолюбцем, неряхой, циником. Я буду ездить
на школы и ездить в отпуски, кормить на море чаек и кашалотов. Я буду считать
следов песчаные оттиски. И главное там – не встретить свою Шарлотту.
Нет, понимает Шарлотта, нет, я не жалуюсь, но обмануть судьбу – так не хватит
денег всех. Шарлотта – это судьба, от нее, пожалуй что, и на морском берегу
никуда не денешься.
А если Мареком – проще нащупать истину? Тогда бы я обманула судьбу заранее,
была бы Мареком, парнем своим и искренним, без денег, без жилья и образования.
Работала бы медбратом, любила б Шумана, мечтала бы когда-нибудь стать
пилотом…
Нет, понимает, в кресле второго штурмана немедленно бы оказалась моя
Шарлотта.
Куда мне деться, рыдает она неделями, я от себя на край бы света сбежала бы.
Шарлотта себя ненавидит за поведение, сама она не выносит чужие жалобы.
Она бы себе сказала в ответ: «Рыдалище, чудовище, истерище, да пошло ты!»
Она бы себя послала в такие дали, что… и там бы не избавилась от Шарлотты.
Шарлотте сложно слезы и сопли сдерживать, внутри у нее не стихает, бурлит беда.
Такое бывает, если поешь несвежего или внезапно влюбишься не туда. Но если
от первого может помочь лечение, таблетки, клизмы, пост и визит врачей,
то от влюбленности сложно – ведь в общем чем её сильнее глушишь, тем
она горячей. Шарлотта ела последний раз, вроде, в пятницу, а нынче, пишут
в календаре, среда. А значит, это не лечится, значит, тянется, такая зима, подруга,
беда, беда.
А скоро Новый год – и вокруг так весело, снежинки, елки, утки в печах шкворчат.
Шарлотта сходила в гости во время сессии и там влюбилась в заезжего москвича.
Он не похож на тех, кто во сне её зовет, он умный, худой, язвительный, ростом
маленький. Она не любит таких – он похож на Йозефа и самую малость чем —
то похож на Марека. Во сне к ней приходит высокий и положительный, слепой,
глухой капитан далекого флота. И ей бы остаться с ним и прекрасно жить и жить…
тогда бы, быть может, она не была Шарлоттой.
Шарлотте Миллер не пишется и не грёзится, Шарлотте Миллер снятся в ночи
кошмарики, в которых она опять целуется с Йозефом, который вдруг оказывается
Мареком. Шарлотта застывает женою Лота, слипаются снег и соль под ее
ресницами. Пожалуйста, просит она, пожалей Шарлотту, а? Пускай ей лучше
совсем ничего не снится. Пускай она изменится, будет бестией, она будет красить
губы и улыбаться. Такая зима, Шарлотта, такое бедствие. Приходится быть
Шарлоттой – и всё, и баста.
А ехать долго – по пробкам, по грубой наледи, кассир в маршрутке, снежная
карусель. Потом она соберется и выйдет на люди и будет суетится и жить, как
все. А нынче – сидит в маршрутке, ревет, сутулится, рисует варежкой солнышко
на стекле. Глядит, как толстые дети бегут по улице и толстые мамы что-то кричат
вослед. Весна нескоро, реки морозом скованы, в душе бардак, невыигрыш по всем
счетам. И Йозеф с Мареком едут в свою Московию, и в дождь превратился снег
на ее щеках.
Она сидит в маршрутке, от мира прячется, боится, что вытащат, перекуют, сомнут.
Не трогайте Шарлотту, пока ей плачется. Не трогайте, как минимум, пять минут.
Три поколения
Антону Т.
0.
И опять не сбылось – говорит себе старый доцент,
Наблюдая в окно наднебесную алую муть,
И опять не сбылось – шепчет он, не меняясь в лице,
И – представьте себе – ничего не мешает ему.
Он не вспомнит себя и соратников прошлых фавор,
Он закроет окно – не горяч, чуть нелеп, не сердит,
Закрывая окно, мрачно сплюнет в стихающий двор,
Или, может, не сплюнет – но кто его будет судить?
Закрывая окно, он увидит шумящий фонтан,
Обнажившихся барышень, моющих платья в воде,
И ничто не толкнет его в локоть – ты помнишь, вон там,
Было то, что ты думал восполнить, не видя нигде:
Этот вечный сквозняк, тот июньский белесый склероз,
Полумрак остановок – их мокрую сизую тишь.
Ну так что, говорит он, Господь, я немного подрос,
А теперь что ты скажешь? И где ты меня приютишь?
1.
У усатого школьника голос врезается в ребра
Этих ребер шпангоуты, ногтя железистый привкус,
И в армейском свидетельстве, помнит, написано «добрый,
Любит робких животных, не любит опасностей, риска,
Любит тонких брюнеток». И правда же, любит брюнеток,
И вот ту, что здесь рядом, он любит. Он пробует водку.
Но ведь, черт побери, хоть с биноклем обыщешь планету,
Только дьявол назвал бы их робким и нежным животным.
Он грызет этот ноготь, грызет выпускную повязку,
Он уже поступил в медицинский, чтоб ближе узнать их,
Но закрыты мосты – те мосты с Петроградки до Васьки,
И стоят золотые любови в расхристанных платьях.
В эту ночь, видно, кто-то погиб. Потому что иначе
Слишком много любви в этот горький большой перекресток.
Я еще небольшой – говорит он, – но кто-то назначит
Нам вернуться сюда. И едва ли нам будет так просто.
2.
Привет, мой милый, ты один? А я ждала тусЫ,
сходи в магаз, возьми в кредит дерьмовой колбасы,
Возьми дешевого вина, салфеток и еще
Того, кто убежал от нас, не попросивши счет,
Возьми его, не говори, что он дурак. Постой,
Ты проводи хоть до двери того, кто ждет мостов,
Скажи ему, что нужен вам, ну, хорошо, и нам,
Скажи – его тут ждет диван, пусть будет дотемна.
Ах, не бывает дотемна, ну, пусть он будет тут.
Пусть он останется у нас, пока не позовут.
Нет, нет, поверь, он не любой, он брат или сестра.
Мне просто страшно быть с тобой до самого утра.
А ты клянешься мне все в том, что я гляжу во сне,
И я не Бекки, ты не Том, все это Новый Свет,
Ах, нынче не дают в кредит, не Англия, поди,
Ни колбасы (прижми к груди), ни счастья впереди.
Представь, что через двадцать лет, когда ты будешь сед,
Залезешь в свой истертый плед – не Англия, мой свет,
Все те же сны, подросший сын, усталая страна,
Но вот дерьмовой колбасы осталось дохрена.
Не говори, что он дурак – мы все ему должны,
Не говори, что всем пора, мы чересчур нежны,
Объятья голоса лишив, движенья – мастерства.
Когда ты будешь чуть плешив – как опадет листва.
Давай пройдемся, здесь, смотри, красивые дома,
Вот здесь сверкание витрин, здесь – старая тюрьма,
Вот здесь – приют, а здесь прибой, а здесь… ну, не пора.
Мне очень страшно быть с тобой до самого утра.
0.
И опять не сбылось – веселится плешивый доцент,
Он в пижаме уже, с нежной челюстью в теплом бокале,
Он уже посмотрел в Одиссее, что будет в конце,
Но вцепляется в раму, как будто бы хочет руками
Прикоснуться к фонтану, почувствовать слабую дрожь,
Голубую сирену милиции, пьяную дуру,
И еще как-то утром войти в непросохшую рожь
И ловить там детей. И не думать, не думать, не думать.
0.1
И опять не сбылось. Остается красиво уйти,
Сквозь железистый ноготь, сквозь челюсть он плачет во тьму:
А теперь что ты скажешь? И где ты меня приютишь?
И – представьте себе – ничего не мешает ему.
Но какое-то марево нянчит его изнутри,
Слишком мало рассветной зари, слишком много росы.
И истерзанный бог, провожая его до двери,
Говорит: очень страшно с тобой. Принеси колбасы.
Посвящение
Сион со всех четырёх сторон окружён долинами:
на западе – долиной Гихон, на юге – Гинном,
на севере и востоке – Тиропеон. ©
Поднималось солнце, безлучное и большое,
И не то чтобы не было лучшего за душою,
Ты и с худшим был бы рад, говорлив, смирен,
Но, зовя его, ты не слышал в тоске ответа,
На песке появлялись рисунки такого цвета,
Что на счастье не увидишь в календаре.
Поднималось солнце разлучное, но разлука
Не бывает без цвета, вкуса, хотя бы звука.
Пусть и горечь в ней, но и горечь имеет вес,
Не имеет его лишь плоскость, вершина, точка.
Только время уходит в песок, только камень точит,
Только время ни грамма не весит в той синеве.
Но ведь это и есть то счастье, в котором страшно,
Где нельзя случиться умным, хорошим, старшим,
Где ты есть единственный, то есть наутро вставший,
То есть тот, кто ответит раньше, чем тот, другой,
Золотой рассвет скользит невесомой ширмой,
Здесь исчезла вершина, поскольку ты стал вершиной,
Самый первый, самый нежный, самый нагой.
Как сказать им, тем, кто остался, кто остается,
Как испуганное сердце под горлом бьется,
Как ты стал другим, никем для других не став.
Как шуршит клинок, с утра возвратившись в ножны,
Как скользит изумрудная ящерица в подножье,
Как уходит в песок, как служит ему, как сложен
Самый маленький
Растрескавшийся
Пьедестал.
Про ангелов
Восьмого мая они просыпаются среди ночи.
Старший из них говорит: «Черемуха зацветает».
Средний из них говорит: «Чепуху ты мелешь».
Младший шепчет: «Мама моя святая,
Защити нас всех, пока ты еще умеешь,
Неприкаянных одиночек».
Она говорит: «Всё хорошо, сыночек».
Девятого старший под вечер приходит черный,
Говорит: «Там толпа, шли по головам, топтались по душам».
Показывает ушибы и умирает.
Средний будто кожу с себя сдирает,
Воет волком, уткнувшись в его подушку.
Младший плачет: «Папенька, ты ученый,
Куда мы теперь без старшего?
Ведь нам и не снился ни опыт его, ни стаж его».
Отец отвечает ему: «Ничего страшного,
Если что – спрашивай».
Среднего ищут весь день и находят к вечеру,
Во временном котле
В ременной петле.
Над его кроватью солнечный теплый след еще.
Младший смотрит безвыходно и доверчиво,
Спрашивает: «Мама, я буду следующим?»
Одиннадцатого он просыпается, думает: «поглядим-ка»,
бережно сдувает с цветов пыльцу,
что у нас нынче слышно?
Завтра в прошлом году погибает Димка,
Прямо в подъезде, лезвием по лицу.
Завтра в прошлом году зацветает вишня.
А сегодня солнце взойдет, солнце зайдет
И ничего не произойдет.
Двенадцатого он просыпается ровно в семь.
Улыбается, ставит чай, начинает бриться.
Успевает увидеть, как черемуха серебрится.
Утро пахнет поджаристыми коржами,
Отец выходит из спальни в одной пижаме.
Мать говорит: «Не бойся, я тебе новеньких нарожаю».
Входишь в тапки, выходя из-под одеяла,
Что-то в этом есть от классических тех деяний,
О которых так много было говорено.
Если рано встаёшь, то в полдень бывает полдник.
То есть речь становится чистой, почти не подлой.
Я встаю в семь утра. И это, конечно, подвиг,
Пусть не подвиг-подвиг, но в общем-то всё равно.
Я встаю в семь утра. Это время начала света,
Бог сказал Адаму: «Придумай, чем будет это»,
И Адам, не проснувшись, сказал: «Это будет слон».
Он придумал слона разнеженными руками,
Так спросонья и нас родители нарекали,
Так случилась вода водой или камнем камень,
Потому что чувство бывает первее слов.
Потому что и слон есть слон, да и роза – роза,
Это не грамматика, это метаморфоза,—
Поджидая рассвет, придумать, как их зовут:
Малыша и слона, асфальт, магазин у дома,
Темный хвостик перезрелого помидора,
Эту девочку с оборками у подола,
Имена городов, котят, голубей, зануд.
Если солнце еще не взошло – то остались шансы,
Но уже розовеет небо, пора решаться,
Называть имена – и растаять в себе дневном
Но еще важнее сейчас, до конца недели,
Сделать так, чтобы рельсы звенели, а мы гудели,
Чтобы что-то стало красивее в самом деле,
И чтоб роза осталась розой, а не слоном.
«…»
Я встаю в семь утра – и это, конечно, поздно,
За окном февраль пахнет хлебом, бензином, розой,
Пахнет гель для душа – мята и лемонграсс,
Бесконечный будильник заходится нервным тиком
Расступается снег под огромным моим ботинком.
Это час до рассвета, большая земная стирка,
Постирался, отжался от пола двенадцать раз.
Вот двенадцать людей для меня – и часов не боле,
И двенадцать разных названий для слёз и боли,
И четырнадцать слов «люблю», и тринадцать «нет».
Просыпается слон, просыпаешься ты, пока что
Не имеющий имени, пахнет горелой кашей,
Просыпается на столе порошок от кашля,
Тает розовый снег на сыром до бровей окне.
Входишь в тапки, потом одеваешься и выходишь,
Думал, всё для тебя придумано, но ведь вот лишь
Тридцать метров пустой дороги, а дальше сам
Сочиняешь, страдаешь, придумываешь, стираешь,
Выжимаешь ненужное, нужных случайно ранишь,
Нужно было всё же вставать хоть немного раньше,
Над тобой расцветает рассветная полоса.
Но единственное, что с Адамом, со мной и с ними —
Это вдруг замереть у двери, придумать имя
Для слона и розы, для тех, кто нами крещен.
«…»
Вот Адам просыпается. Клен нарекает кленом,
А рябину – рябиной, а лист он зовёт зелёным,
Ну а девочку, конечно, зовут Алёной,
А котенка, конечно, Иосифом, как еще.