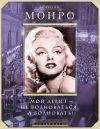Текст книги "Дрожащий мост"
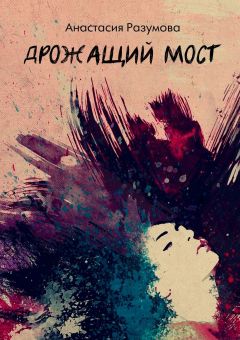
Автор книги: Анастасия Разумова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Слепые, как всегда, сидели на стульчиках кругом, сложив ладони на коленях, будто послушные школьники или члены тайного братства. В центре обычно устраивалась сотрудница и читала им вслух. Кто-то в это время умудрялся вязать, ничего не видя. Кто-то крутил пальцами гладкие бусинки-четки. Некоторые ловко клеили конверты. Их руки редко дремали.
Сегодня они выдвинули в центр лакированный черный столик на стремительных ногах, тот, что раньше стоял у входа, на него складывали шляпы и сумочки. На столике стояла фотография Карповича. Молодого, с блестящими глазами и залихватскими усиками. Знаки отличия – царской армии! За портретом поблескивала маленькая урна в форме греческой вазы.
Никто не сказал ни слова, когда я вошел. В комнате нудно гудел комар. Рыжебровый старичок обмахивался женским веером. Остальные не шевелились. Меня кто-то робко тронул за локоть. Обернувшись, я увидел доброе мутноглазое лицо Наденьки, самой молодой. Пару раз наблюдал ее в городе с двумя детьми. Девочке – лет десять, мальчишке – шесть, молочные зубы только начали выпадать. Дети заменяли Наденьке глаза. Они брали ее под руки с обеих сторон и рассказывали, что впереди, что по сторонам. Я сам слышал: «Мама, а на деревьях такие маленькие зубастые листики! А за нами едет большой желтый экскаватор, и гусеницы у него в глине. Впереди тетенька с ящиком, продает мороженое. Мама, сказать, какое она продает мороженое?» Мировые дети!
Наденька пошлепала ладошкой по пустому стулу рядом с собой. Я посидел у Карповича минут десять. Мне принесли знаменитый чай с чабрецом. Была какая-то высшая несправедливость, что этот чай, который мне нахваливал Карпович, я пью сейчас без него. Хотя двести лет жизни – куда уж больше. Лиза не прожила и девятнадцати.
– Вы нам поможете? – прошелестела хорошо одетая седая женщина в стильных черных очках, не поворачиваясь ко мне. Она не была похожа на инвалида, скорее, на пожилую певицу, которая прячется за очками от назойливых поклонников.
Рядом тут же оказалась сотрудница общества, забрала у меня пустую чашку, склонилась головой к голове. Стало еще жарче от ее раскаленного, кислого дыхания.
– У него никого не осталось, кроме нас, – сказала она, в это «нас» как будто заключая и меня, отчего я смутился. – Он просил развеять его прах с пристани. Ведь наш Карпович был настоящий морской волк и мечтал упокоиться в воде.
Я вспомнил недавнее купание в обмелелой речке, теплый болотистый дух, совсем не вязавшийся с морскими просторами и приключениями.
– У тебя единственного быстрые ноги и зоркие глаза, – сказала сотрудница. – И велосипед.
– И доброе сердце, – добавила Наденька. Улыбка ее, не сосредоточенная на моем лице, а рассеянная по всей комнате, была восхитительно грустной.
– Мы командируем вас на пристань, молодой человек, – сказала седая женщина в красивых очках. – Развейте прах нашего товарища над водой. Исполните его последнюю волю.
Мне стало нехорошо, правда. Не то чтобы я какой-то неженка, испугался урны с прахом. Нет. Я всегда думал, что это по-другому делается. Торжественно, что ли. Самые близкие люди, самые преданные друзья и родные. Никак не случайный мальчишка-курьер, который завез газеты.
А они уже подходили к урне, осторожно перебирая своими палочками по полу, и некоторые целовали ее, будто святыню, и плакали, прощаясь с Карповичем. Сотрудница общества вручила мне тяжелый каменный сосуд, на ее белых ресничках дрожали слезы.
– В путь, – прошептала она.
И слепые подхватили, как послушные школьники:
– В путь! В путь!
Я оказался на душной улице с ватными ногами и прахом Карповича в руках. Пристроил урну в корзину, поверх всех посылок. Потом решил, что морской волк не должен отправляться в последний путь вот так – среди почтового барахла, париков, тряпок, электрических массажных поясов. Я прижал урну к себе – получилось, к сердцу – и поехал. Каменный бок быстро нагрелся. Выезжая на солнцепек из редкой, сквозной тени деревьев, я шептал:
– Потерпите, пожалуйста. Еще чуть-чуть.
Пристань, конечно, была на другом конце города. И, конечно, в эту пору более удручающего места для старого морского волка трудно было представить. За массивными воротами скрывалось приземистое здание грязно-желтого камня с корабликом на килевидном фронтоне. Чуть ниже – выложенная квадратными плитами площадка с парой пустующих скамеек. В углу, строгой ладьей на шахматном поле, возвышалась стеклянная будка. В будке кто-то сидел, в открытую дверь лениво летела шелуха от семечек. Пахло рыбой. Причал был сух и гол. Сваи почти во весь рост выступили из зеленоватой воды. Грузные пароходы, набычившись, спали беспробудным сном и во сне ржавели. Солнце ослепительно запрыгало по воде. Я зажмурился. Оставил велосипед у скамьи. В обнимку с урной двинулся к причалу, излучавшему жар вместо желанной прохлады.
– Эй! – без особого усердия окликнул меня кто-то из будки. – Туда нельзя.
Пришлось развернуться. В будке сидел полураздетый человек и грыз семечки. По лицу его, по розовому безволосому пузу и расщелине меж грудей бежал пот. Я сразу понял, что долго спорить со мной он не сможет.
– Понимаете, у меня тут… прах, – я вытянул урну вперед.
Человек вздрогнул и отшатнулся.
– Че-го?
– Это старый моряк, Карпович. Мой родственник, – сказал я. – Он просил перед смертью развеять его прах над рекой. Понимаете? Последняя воля.
Человек вдруг накинул на плечи белую рубашку с шевронами, стесняясь своей наготы перед прахом Карповича. Прокашлялся. Оглянулся. Пристань была пуста, словно от нее только что отчалил Ной со всем живым на земле.
– Ну-у, – нерешительно протянул человек. – Тут запрещено посторонним…
– Воля покойного, – возразил я.
И он сдался. Может быть, в нем проснулся морской волк.
– Только быстро.
Я прошел по мосткам, к самому концу причала. Солнце заливало все вокруг. Приятно пружинящие под ногами доски напомнили деревянную террасу крымского дома, только вытянутую на несколько метров руками какого-то силача. На террасе бабушка сушила густо-оранжевые салгирские абрикосы, и в эту пору у меня всегда болел живот от пиратской добычи.
Под причалом тихо плескалась вода, покрытая сине-зеленой пенкой.
Урна неожиданно легко открылась. По спине пробежал холодок. Я оглянулся. На берегу стоял человек в расстегнутой белой рубашке и смотрел на меня во все глаза.
Тогда я перевернул урну над водой, и из нее вылетело беловатое облачко пыли. Часть ее растворилась в воздухе, часть упала на мостки и мои кеды. В реке пыль потемнела, обретая осязаемость, тяжесть. Наверное, в этот миг надо было что-то сказать. Или хотя бы подумать что-то хорошее. Жаль, что я ничего не знал о Карповиче, даже то, что он был моряком. Я смотрел в воду, пока прах не растворился полностью и на поверхность не вернулась слепящая солнечная рябь, легкая и радостная.
Уже возвращаясь назад, подумал: а что же делать с урной? Вот она, у меня в руках – все еще тяжелая, гладкая и теплая. Снова подошел к носу причала, опустил пустой сосуд в реку. Булькнули пузырьки воздуха, каменная урна качнулась и ушла под воду, мелькнув на прощание черным зевом, словно раскрытым ртом. Я представил, что совсем скоро погребальный сосуд врастет в илистое дно и однажды в нем поселится какой-нибудь рак-отшельник. Вечное торжество жизни, даже забавно. Проходя мимо человека в белой рубашке, кивнул ему строго, без улыбки.
С маршрута я сбился и в театр неумолимо опаздывал. Не хотелось давать Очкарику пищу для недовольств, поэтому не стал заезжать в рыболовный магазинчик, как обычно по пути. Магазинчик этот я любил с детства. Хозяин – человек старый и добродушный – смотрел на меня лукаво, усмехался в усы, желтые и густые под носом, стекающие к подбородку заиндевевшими жидкими хвостиками. Он понимал, что ничего я не куплю, а прибегаю просто так, поглазеть на густые перелески удилищ, поплавки и тубусы, свинцовые грузила, мелкоячеистые садки и раколовки, на дивные россыпи блесен и мушек, напоминающих новогодние игрушки. В углу стояло ведро с прикормкой, иногда хозяин просил меня нарыть червей под замшелой колодой за магазинчиком.
Однажды я все-таки купил блесну – маленькую золотую рыбку, блестящую и прохладную, с двумя хищными крючками. «Зачем, у нас даже спиннинга нет?» – удивился отец. «Вот это штука, – неожиданно вступилась Лиза, подержала ее на ладони и вернула. – Иллюзия, которая стоит кому-то жизни».
Каждый раз, проезжая мимо (а только за последний месяц я проезжал раз пятнадцать), я покупал новую блесну. Они висели у меня над столом, эти металлические рыбки. Когда в раскрытое окно дул ветер, стучали друг о дружку, будто кто-то играл печальную мелодию на глокеншпиле. Знай я парня, собирающего такие странные штуки, как блесны, сам покрутил бы у виска. Но это единственные вещи, которые я не хотел бы уничтожить в мусорном костре.
В театре был мертвый сезон. Невыносимое место в любой сезон, если честно. Второе заведение, где можно встретить столько людей с тонким артистическим складом, – это сумасшедший дом. У них даже в бутафорском цехе все с мозгами набекрень. Как-то привез красную ткань, а усатая, похожая на пожилую рысь тетка (сценограф, сказали потом) раскричалась, что это – пионерский уголок, а не кровавый подбой.
Коробка была большой и тяжелой. Хорошо, что воздух в гулком здании никогда не нагревался выше майских заморозков, все легче тащить барахло на чердак – вотчину ненормальных художников, которым ничего не стоит ткнуть тебе пальцем в грудь и скомандовать: «Вот так стой и не шевелись» – и убежать куда-то на полчаса.
Я поднимался по черной лестнице. Парадная – с тяжелыми гранитными ступенями, начинающимися за кованой аркой – открывалась только для зрителей. Между этажами курила печальная артистка. Неброской «французской красотой» она напоминала мою новую знакомую Сто пятую – такая же худая и большеротая. Лицо ее терялось в дыму. Поэтому я даже вздрогнул от ее цепкого, ледяного прикосновения.
– Ненавижу тебя, Генри! – прошептала она, корча злую гримасу. – За собственную низость – ненавижу!.. Тьфу ты, глупость какая, да? Не идет, не идет…
Я пожал плечами. Артистка печально выдула клуб дыма, но локоть мой не отпускала.
– В синем домике жила очень красивая девочка, – сказала она, нахмурив брови. – А в красном – очень добрая, но некрасивая. Обе любили апельсины, страсть как!
Я послушно стоял меж этажей. Сумасшедший дом. Чтобы я еще раз сюда…
– Ехал однажды на велосипеде Иван. Дурак не дурак, а так. К красивой, конечно, ехал, апельсин вез, – сказала артистка. – Но тут – пф-ф, ш-ш-ш – гвоздь в колесо. Что тут делать? Клей нужен и заплатка на камеру.
Вот сдувшееся колесо она здорово изобразила.
– А в окне красного домика уже добрая девочка стоит, у нее и клей, и заплатка, и насос желтенький в руках. Иван вздохнул, да делать нечего. Свернул к ее домику. Апельсин протягивает. Добрая девочка выбежала, радостная. Залатала камеру, надула. Ведет Ивана к себе.
Вдруг артистка выпучила глаза и зашептала вкрадчиво, будто ведьма:
– Да только недо-обрая она уже была. Потому что это она гвозди по дорожке раскидала. Двадцать лет девице – и ни одного жениха! Будешь тут доброй.
Она пожевала губы, посмотрела на меня сквозь дым:
– Ты спросишь, а что Иван? – хотя я ничего не спрашивал, она продолжила с тоской в голосе. – Так и стал жить с некрасивой и недоброй. А красивая пошла в театр служить. Справедливо, скажи?
Артистка наконец отпустила мою руку. Фантазия ее иссякла, интерес ко мне затух. Подозреваю, на мне только что была отыграна какая-то сценка.
Чердачные художники бурчанием встретили посылку, и я поспешил исчезнуть. Когда сбегал вниз, артистка все еще сидела на широком подоконнике, колупала ногтем краску и болтала ногами.
– Позови меня на свидание, – сказала она.
– Э-э, – сказал я.
Старше она была раза в два. Когда дым развеялся, это было хорошо видно.
Вообще-то, я ее давно знал. Она играла Офелию («Какого обаянья ум погиб…» и все такое прочее). Но еще раньше – вела наш кружок.
Воспитывали меня, что тут говорить, одни женщины. Отец за месяцы нефтяной жизни отвыкал от нас. Его работа – героическая, как всякий тяжелый физический труд вдали от дома, тем не менее, горчила легким, но постоянным недовольством матери. Оттого образ его – могучего, сильного, смелого человека с обветренным лицом – покрывался мелкими трещинками недомолвок. Я избегал отца, боясь, что в наших ровных отношениях вдруг что-то лопнет, и я тоже буду недоволен им, подобно матери.
– Как дела, сын? – спрашивал он, пытливо заглядывая мне в глаза.
– Хорошо, – отвечал я, стараясь вложить в одно слово задор, мальчишескую задиристость, искрометность – то, что он хотел услышать во мне.
Отец чувствовал фальшь и больше ни о чем не спрашивал, пока не приходила пора уезжать на работу.
– Будешь вести себя хорошо?
– Конечно!
Однажды он вернулся с обожженными по локоть руками и больше не уезжал.
Мать записала меня в театральный кружок, потому что я не интересовался ни спортом, ни рисованием, ни интеллектуальными играми. Мне кажется, родители всегда понимали: удачной у них получилась только Лиза. В этом дурацком театральном кружке, кроме того, что я оказался там единственным мальчиком, ничем больше похвастаться не мог. Неудивительно, что артистка меня не вспомнила.
Как-то в кружок привели детей из приюта, похожих друг на друга стрижеными головами, растянутыми на коленях колготами и агрессивно-затравленными взглядами. Нам предстояло вместе играть мюзикл. Театральные девочки боялись подходить к сиротам. «От тебя хозяйственным мылом пахнет. Ты что, хозяйственным мылом моешься?» – брезгливо спросили одну девчушку. Девчушка в растянутых колготах покраснела. Ее вызвали на сцену и включили музыку. Театральные переглядывались насмешливо. Она запела.
Мне этот мюзикл не нравился, был он какой-то ненастоящий, приторный, для взрослых. Если бы его написал ребенок, все было бы совсем по-другому: жестче и честнее. Но взрослым кажется, что в мире детства почти нет зла, ну, какие-нибудь серые волки, которым можно вспороть брюхо – и все вернется на круги своя. Даже не помню, кем я был в этом мюзикле. Старательно открывал рот за девчоночьими бантами.
Девочка из приюта пела так хорошо, как будто по-настоящему. Как будто не для взрослых пела, а для души, что ли. Что-то про пустыню, высокие барханы, закрывающие солнце, про долгую дорогу к дому. Правильно пела – не про приключения, а про то, как бывает одиноко и тоскливо, про дни молчания, месяцы молчания. Я теребил от волнения кулису, до того меня тронул неожиданно чистый, без кривлянья голос, но еще больше – наше с ней нежданное родство. Это было единственное хорошее воспоминание о театральном кружке, куда я проходил ровно пять месяцев, а потом с ревом выбил отставку.
Лиза говорила, что не все театры похожи на наш. Не знаю. Может быть. Я не любил театр с его демонстративными волнениями. Настоящие переживания – совершенно другие. Они так глубоко, что не видны. Ни одного актера не знаю, кто сыграл бы невидимые переживания. Даже Лиза соглашалась: «Ты прав в том, что они иногда чересчур прямолинейны. Я бы тоже предпочла больше недосказанности – такой маленький зазор, куда могла бы втиснуться со своими мыслями и переживаниями».
Как-то раз мы отправились в театр всей семьей. Отец сидел с таким видом, что, будь у него в руках спортивное обозрение, он развернул бы и читал весь спектакль. У матери заболела голова еще перед антрактом, она беспрестанно терла виски, а в перерыве проглотила целых три таблетки из полупустой синей склянки. Я скучал. Я уже видел изнанку всего этого, что там делается за пыльными кулисами (вставляются шпильки, пахнет изо рта, все ругаются, курят, едят прямо руками из картонных коробочек быстрой доставки, завидуют, спешат в химчистку или забрать детей из школы), и не верил никому из них. Если честно, мои родители были лучшими актерами, чем эти, на сцене. По крайней мере, у родителей получалось делать вид, что мы семья, мы счастливы, вместе ходим в театр по воскресеньям.
Единственная причина, почему мы не ушли с этого спектакля, – Лиза. Глаза у нее горели, она шепотом повторяла слова вместе с актерами. «Порядочные девушки не ценят, когда им дарят, а потом изменят», и все прочее.
– Ты что, уже смотрела? – спросил я.
– Это же Шекспир, – улыбнулась она…
Я не соврал Сто пятой об армии, что мог бы там остаться. Странное решение для тихони с женским воспитанием, который собирал розы на варенье и играл в детском мюзикле. Никому об этом не говорил. Мать уверена, что после школы я отправлюсь в институт, и еще на пять лет можно спокойно забыть обо мне. Никогда не думал, хотелось бы мне воевать. Мог бы я убить человека. Хотя вру. Думал. И уверен – мог бы. Того, кто сделал это с Лизой, убил бы не раздумывая. Но все это – только слова, трескотня, словно барабан зарядили бумажными шариками. Я ведь ничего не сделал для Лизы. Ничего, кроме бессильной ночной ненависти, когда воображаешь, как мерзкая голова разбивается в кровь, но ты продолжаешь бить еще и еще.
Все, что нам было известно, – у этого гада большой размер ноги при сравнительно маленьком росте, и ботинки – на каблуке: «Что-то вроде казаков», – сказал следователь. Все, что они нашли, – случайно сохранившийся после дождя след. «Вероятно, она знала его и доверяла, потому что пришла сама».
Когда я избавился от артистки, вышел из театра и сел на велосипед, что-то случилось в небе. Оно будто опустилось ниже. Легло на плечи, и от тяжести захотелось распластаться прямо на асфальте. Вороны шумно летали над улицей, садились на крыши и снова взметывались в чуткой животной тревоге.
– Гроза! – крикнул мальчишка на улице. – Гроза будет!
Я тоже поднял голову. Наверху сгущалась синь. И тут вдруг небо ахнуло – в недвижном воздухе колыхнулся поток свежего, прохладного ветра. Где-то звонко хлопнуло окно, надулся бордовый тент летнего кафе, что-то разбилось и покатилось. Появились люди, наводнили тротуары, беспорядочно, торопливо. Я трезвонил в звонок: отойдите, куда вы лезете…
В багажнике оставалась пара пакетов. Успеет ли до грозы девчонка в веснушках? Наверное, ей будет несладко, когда задрожит земля. Я успел. В контору вернулся к пяти часам. Небо набрякло влагой, но затаенно молчало. В комнатке было все так же душно. Очкарик сидел за перегородкой, медленно разбирал квитанции и каждую разглядывая чуть не под лупой. С видимой неохотой он принимал работу и выдавал деньги пунцовым от жары, уставшим ребятам. Я приблизился к конторке. Очкарик изучил мои бумаги, скривил лицо:
– Почему измяты? Вот тут на сгибе дата почти стерта, могу и не принять!
Перед ним стоял стакан с лимонадом, пузырьки весело поднимались по стенкам. Вентилятор обдувал заставленное коробками убежище. Вот бы засунуть бумажку ему в рот. Но пришлось виновато улыбнуться, потому что у меня к нему было дело. Я оглянулся и спросил:
– Слушай, друг. Тут девчонка с утра была. Номер сто пять. Уже отстрелялась?
Очкарик глянул на меня, как на микроба, и продолжил разглаживать квитанцию, которая была совершенно не измята. Подлюга.
– В веснушках такая, – сказал я.
Очкарик хмыкнул.
– Да понял я. Как пришла, так и ушла.
– Что?
– Не работает она больше.
– Почему?
– Потому. Я тебе объяснять это должен?
– Не надо объяснять. Просто по-человечески скажи.
– Да откуда я знаю. Пришла зареванная. Откуда я знаю! – раздражился Очкарик. – Меня не касается.
У меня кулаки чесались, честное слово. Но я даже тут сдержался.
– Дай мне ее адрес, – попросил спокойно. – У тебя ведь есть.
Очкарик снова хмыкнул и отвернулся. Скрепя сердце отсчитал мне деньги, положил на блюдце и подтолкнул в окошечко.
– Что тебе стоит? Вон журнал, открой и прочти, – сказал я.
– С какой стати? – ответил он. – Меня ваши шуры-муры не касаются.
– Будь ты человеком, – попросил я. – Только адрес. Или как зовут, а?
– Иди отсюда, а то уволю к черту, – рявкнул вдруг Очкарик.
Я знаю, что это все очень долго копилось. Словно гроза в небе. Не успел Очкарик охнуть, как я уже ворвался в затхлое убежище за плексигласовой перегородкой, схватил его за грудки и поднял над стулом. Он заверещал.
Я просто хотел его тряхнуть хорошенько. Но тут вдруг увидел, как болтаются в воздухе его голые ноги. Оказывается, он сидел, опустив ступни в таз с водой. Рядом стояли огромные ботинки. Июльский зной на дворе, а у него ботинки на каблуке, размера так сорок пятого. А сам он – плешивый карлик. И все замкнуло. Словно гроза. Лиза, рельсы, цветы, по которым муравьи ползут. Людишки, которым лучше не жить на белом свете. Оттиск каблука в сырой земле.
Гроза.
Я швырнул его на стол, и бумажки – его любимые, бережно перебираемые с утра до вечера бумажки, – тут же окрасились кровью. Я поднял его снова и бросил на перегородку, за которой он торчал весь день, невыносимый ядовитый гриб. Он расплющился лицом по плексигласу и сполз, оставив тошнотворный кровавый след. Он визжал тонко, словно женщина. А я ведь никогда не был особенно силен физически. Я мстил ему за Лизу, за девчонку в веснушках, мстил за себя – что мне всегда теперь паршиво и одиноко.
Меня схватили парни-курьеры. Что-то кричали в лицо, пытались успокоить. Думаю, они одобряли меня – за Очкарика-то. Мы ведь все его ненавидели. Но то, что я начал колошматить всех вокруг, кусаться, пинать коленками, они, конечно, не стерпели. Вытащили меня из конторы и бросили у круглых мусорных баков, где вонь стояла такая, что даже в разбитый нос просачивалась.
Не знаю, почему мать приехала в участок. Кто ей позвонил? Может, это я кричал: позовите мать. Тогда я самое трусливое и отвратительное существо на свете, потому что она совсем не должна была всего этого слышать.
– Ты обвиняешь его в убийстве сестры? На основании… ботинок? – говорил коротко стриженный здоровяк в форме, и тон у него был такой, словно он очень-очень удивлен.
А я несколько секунд знал, что это Очкарик. Помрачение или озарение – не скажу, что это было. Но уже прошло.
– Не обвиняю, – ответил я. Рот мой был полон крови, и когда я заговорил, кровь потекла по подбородку. Мать вскрикнула. – Вы говорили, что она, скорее всего, была знакома с убийцей и доверяла ему, потому что сама пришла на Концевую… – мать прижала платок к глазам. – Моя сестра не могла знать и уж точно – доверять этому ничтожеству, – я кивнул в сторону Очкарика.
Очкарик протестующе вякнул. Где-то очень далеко громыхнуло.
– Что же тогда? – спросил здоровяк в форме строго, будто директор в школе.
Что? Гроза, – хотел я сказать, – девчонка с веснушками. Прах, растворяющийся в воде. Дрожащий мост. Мы все чего-то боимся. Потому что мы все чертовски неприкаянные люди. Понимаете?
Пусть бы меня посадили за решетку. В тот миг я был готов и даже жаждал этого. Только зря позвали мать. Кто ей позвонил?
Сначала мне дали умыться над ржавой раковиной, после увели куда-то, но не в камеру. В пустое помещение без окон с голым столом посредине, жутко похожее на место для пыток. А потом выпустили. Мать крепко взяла меня под руку, и мы вышли на улицу. К нам, будто только и ждал, приковылял Очкарик. Правда, он был без очков, которые я разбил первым же ударом в конторе.
– Когда это случилось… с твоей сестрой, – сказал он, – я лечился. У меня был паралич, если хочешь знать. А вам всем кажется, что я позлить вас хочу.
Он развернулся и пошел, прихрамывая, неловко раскидывая руки в стороны. Ни разу до этого не видел, как Очкарик ходит. Он ведь все время сидел за столом, сделает два шага к стеллажам – и обратно. И коробки составлял, как бог на душу положит.
Мать крепко держала меня под руку. Это не сумерки, – подумал я. Не так уж долго мы были в участке. Гроза, вот что. И когда я это понял, хлынул дождь.
2
Лилия, девушка, с которой я целовался перед экзаменами, позвонила на исходе сентября.
– Привет! – сказала она. – Нашла твой номер.
– Привет, – откликнулся я. – Понятно.
На самом деле, я был рад ей. Не как другу или девчонке, а как кому-то, кто еще не знает о моих летних приключениях. О том, что за мной теперь наблюдает специалист из кризисного центра для несовершеннолетних. Раз в месяц по вечерам к нам приходит женщина, сложенная из нескольких плоских скрипучих щепок. Ее широкоугольный блокнот разлинован именами подопечных: маленьких воришек, хулиганов, затаившихся психопатов, любителей таблеток и порошков. Женщина спрашивает, все ли у меня в порядке и о чем я думаю. Наверное, она мнит себя великим знатоком несовершеннолетних душ. Я отвечаю, что все хорошо, ни одной дурной мысли, в школе записался на факультатив по химии, готовлюсь к поступлению в институт, с товарищами обсуждаем проблемы Мирового океана и прочее бла-бла-бла. Мать всегда стоит в дверях, даже волосы на затылке шевелятся от ее дыхания.
Мне кажется, родители чувствуют свою вину. А может, им это внушили психологи: дескать, переживая горе, вы забыли о сыне. В общем, мне прибавилось хлопот. Еще и успокаивать мать, что уж она ни в чем не виновата. Однако летнее происшествие сдвинуло что-то вокруг. Как будто мои родители с удивлением поняли: этот глиняный истукан способен перемещаться и даже выйти из-под контроля. Со мной стали считаться – вот что произошло.
Да, я самодовольная свинья в глубине души. Мне хотелось покрасоваться перед девчонкой стародавней дракой с Очкариком. Лилия отлично подходила для того, чтобы покрасоваться какой-нибудь этакой дичью.
Она позвала меня в кино. В первый раз, в мае, тоже было кино, такое занудное, что мы сбежали. Перед кассой продавали жареный арахис в серебристой фольге. Поэтому ее губы отдавали соленым, когда ей вздумалось поиграть в Мата Хари. Лилия училась в гимназии, где преподавали что-то невероятное. Например, у них было сексуальное воспитание. Произносила она это так, будто к ним в класс каждую пятницу заявлялась порнозвезда, не меньше, и учила девочек всяким фантастическим штукам. На самом деле, приходила толстая школьная медсестра, развешивала плакаты с распиленными пополам мужскими и женскими репродуктивными органами, в такой предельной обнаженности терявшими всякую притягательность. В исполнении медсестры сексуальное воспитание оказалось не более интересным, чем ботаника.
– Скука, и ничего особенного, – признавалась Лилия.
Мы договорились встретиться за полчаса до кино. Что-то она хотела мне рассказать. Я подозревал, что и ее лето было полно приключений, а я оказался последним в списке телефонов, кому она еще не пересказала эти приключения. У кинотеатра я прождал минут пятнадцать. Успел составить уйму слов из названия «Орбита». Мы с сестрой читали вывески и вечно соревновались, кто придумает больше слов. Лизин рекорд не побит до сих пор.
Еще я успел подумать: а вдруг мы с этой Лилией за лето так изменились, что друг друга не узнаем. И вообще – точно ли ее зовут Лилия? Но узнал издалека. Она шла по тротуару знакомой продуманно вихляющей походочкой, как Мэрилин Монро в фильме «Ниагара», в светлом безразмерном плаще, в котором выглядела еще более хрупкой и маленькой, чем я ее помнил. Стрижка новая – короткая, рваная. Я знал ее с длинными пепельными волосами, которые она причудливо укладывала корзиночкой и просила ни в коем случае не трогать, потому что все это «щепетильно». Мне кажется, она не очень понимала значение слова «щепетильно».
Глаза у нее были красивые, что и говорить. Огромные и синие, как будто от другой девчонки.
– Привет, – сказала она очень сдержанно, даже грустно.
– Привет, – откликнулся я.
Была она страшно бледной, несмотря на то, что накрасилась каким-то вызывающим краплаком: и губы, и щеки. А под глазами – почти черные тени. Умыть ее захотелось, серьезно.
– Ты очень хочешь в кино? – спросила она, глядя в сторону.
И обрадовалась, когда я ответил отрицательно. Мы опять взяли жареного арахиса, нашли уединенную скамейку на задворках кинотеатра, где ветер тихо гонял выцветшие фантики по земле и натужно гудели холодильные блоки. Лилия первая села на спинку скамьи, ногами – на сиденье, будто гигантская чайка на жердочке. Я устроился рядом.
– Тоскливая осень, – сказала она. – Скорей бы снег.
Теперь, когда она сидела так близко, что я мог разглядеть в ее глазах тоненькие красные жилки, а под слоем румян – крупные поры, было понятно: на уроках сексуального воспитания ей не откроют ничего нового. Ее лето тоже было сокрушительным, но в каком-то ином смысле.
Лилия задумчиво грызла арахис, в уголках губ собиралась слюна.
– Мне нужно выговориться, – сказала она. – Ты не против?
Не знаю, что движет девчонками, когда они рассказывают одному парню о несчастной любви с другим. Может быть, это извращенная форма женского кокетства? Или и вправду – такая сильная боль, что все равно, с кем делиться? Голос у нее ходил ходуном, пока она говорила об этом малом из кемпинга. Какой-то знаменитый спортсмен, между прочим. Она посмотрела на меня с затаенной гордостью, готовая уже произнести имя. Но это было бесполезно – спортом я совершенно не увлекался, даже в плане имен (чем в детстве раздражал отца, «Твоя чахоточная наследственность», – говорил он матери, а она отвечала: «Скажешь, это я хотела сына?»).
У Лилии со спортсменом случилась настоящая страстная любовь на берегу моря. По-взрослому, вот так-то. Она полчаса вываливала подробности душераздирающей любви, вплоть до минут, точно сценарий писала. Должен признать – что-то в этом было, что-то волнующее.
Я ведь серьезно подозревал, все ли у меня в порядке. С точки зрения психической, прежде всего, потому что эти отклонения начинаются в голове. Физиология только подчиняется. Да, я серьезно думал, не гей ли я. Женское воспитание, раз. Никакой тяги к спорту и прочим увлечениям под «гормоном риска», два. Девчонки меня занимали, да. Но с ними мне хорошо просто болтать, три. Это самое главное. Даже после поцелуев с Лилией у меня ничего не колыхнулось, никаких там тугих узлов внизу живота и прочего, что говорило бы о возбуждении. Единственное, что утешало, представители моего пола тоже нисколько меня не волновали.
Когда Лилия, сидя верхом на скамейке, в красках живописала все эти песчинки на коже и мускусный запах (боги мои, мускусный запах! Она так и говорила), я вдруг задышал чаще. Глупость, конечно, несусветная.
Пылкая любовь их за одно лето перезрела в яростные ссоры и финальное расставание, и ничего-то родители Лилии не заметили.
– Я к экстрасенсу ходила, – сказала она, опустив руку в пакетик с арахисом и там оставив. – Такая милая женщина. Спросила меня: хочешь его приворожить? А я ей: нет, лучше избавьте меня от привязанности. Тогда она включила магнитофон. Застучали барабаны. Я лежала на таком коврике, который как будто из травы сделан. Да, циновка. А она закурила благовония, приказала дышать «по-собачьи» и представлять, что он уплывает вдаль на лодочке. Я сразу стала отключаться… Знаешь, как это называется? Холотропное дыхание. Метод гипноза.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?