Текст книги "Танки идут ромбом"
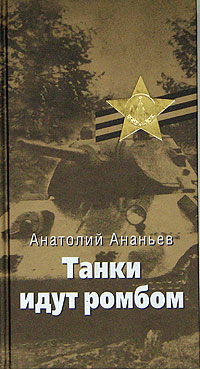
Автор книги: Анатолий Ананьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Ананьев Анатолий
Танки идут ромбом
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Второй месяц батальон майора Гривы стоял в Соломках и так прижился в этой безлюдной, полуразрушенной деревушке и солдаты так привыкли в тишине, что как-то не верилось, что скоро снова начнётся бой, что снова, как под Москвой, как у берегов седой Волги, загрохочет земля от залпов, запылают крестьянские избы и в чадном дыму поползут по пашням, по заброшенным опустевшим полям желтокрестные танки, подминая гусеницами едва-едва выбросившую колос пшеничную осыпь, а небо, это голубое чистое летнее небо, усеется пятнами зенитных разрывов; как-то не верилось, что вновь, как в сорок первом, как в памятное лето сорок второго по донским степям, потянутся по взгорьям и перелескам курской земли вереницы отступающих колонн к переправам, сгрудятся на станциях эшелоны и тысячи беженцев на скрипучих подводах, угоняя и увозя все, что можно угнать и увезти, страшным половодьем потекут по пыльным просёлкам на восток. Как-то не верилось во все это. Думая о предстоящем бое, солдаты думали о наступлении. Многие надеялись на открытие второго фронта – должны же союзники в конце концов открыть этот злополучный фронт! Но союзники уже готовились принять другое решение. На военном корабле под глубочайшим секретом премьер-министр Англии Уинстон Черчилль в эти напряжённые дни отбыл в Вашингтон. Он сидел в мягкой каюте, больше думая о своей безопасности, чем о тех событиях, которые происходили в мире, и, тихо поскрипывая пером, писал в Москву: «Я нахожусь в средней части Атлантики по пути в Вашингтон, чтобы решить там вопрос о дальнейшем ударе в Европе после «Эскимоса»… Если ничего не случится, моя следующая телеграмма будет отправлена из Вашингтона». В пути с ним ничего не случилось, он благополучно прибыл к месту назначения и, как и обещал, сразу же после совещания с президентом направил телеграмму в Россию. Спокойным, холодным тоном оповестил он Советское правительство о том, что союзники не смогут открыть второй фронт в этом году, потому что «имелась надежда, что в апреле 1943 года в Великобритании будут находиться двадцать семь американских дивизий, в действительности же теперь, в июне, имеется лишь одна и к концу августа будут лишь пять», и ещё потому, что «десантные суда втянуты в предстоящую большую операцию на Средиземном море». Эту операцию-вторжение в Сицилию, – носившую кодовое название «Эскимос», Черчилль считал настолько грандиозной, что она будто бы могла привести или, точнее, уже «привела к отсрочке третьего наступления Гитлера в России, к которому, казалось, велись большие приготовления шесть недель тому назад». Черчилль закончил свою телеграмму так: «Может даже оказаться, что Ваша страна не подвергнется сильному наступлению этим летом». Трудно, конечно, представить, чтобы английский премьер-министр был плохо осведомлён о действительном положении дел. Как раз в те дни, когда он сочинял это послание, в России, на двух фасах Курской дуги, немцы уже сосредоточили мощные ударные группы: одну – в районе Орла, другую – в районе Белгорода. Командующие группами фельдмаршал фон Манштейн и фельдмаршал фон Клюге уже получили последние наставления в ставке Гитлера и вылетели к своим войскам.
Между тем жизнь на фронтах шла своим чередом. Солдатам, за долгие месяцы обороны привыкшим к тишине, все же не верилось, не хотелось верить в скорые бои.
Стрекот кузнечиков, шелест подсыхающей травы, иногда приглушённый, иногда острый и звонкий – трущиеся листочки пырея как скрещённые клинки, – и небо над головой, высокое, безоблачное, всегда вызывающее ощущение вечности; и ещё-нестареющая память, уводящая в прошлое, к родным местам, к теплу, уюту, та самая солдатская память, остужающая в зной, согревающая в стужу, без которой, как без винтовки, как без шинели, нет бойца; и ещё, может быть, самое главное – ненависть к врагу, лютая жажда мести. Если бы сейчас спросили Царёва, о чем он думал, он не смог бы ответить точно, о чем. Просто было приятно лежать на спине, подставив солнцу оголённые до колен белые ноги, прислушиваться к шелесту травы, смотреть на небо и вспоминать; нечасто солдату, да ещё на фронте, выпадают такие минуты.
Подошёл Саввушкин, низкий, сухощавый и цепкий, как клещ. Карманы брюк его были туго набиты семечками. Он молча присел рядом с Царёвым.
– Уйди, – попросил Царёв.
– Травы жалко?
– Уйди, говорю, слышишь? Не плюйся над ухом.
– Зря прогоняешь. Спросил бы лучше: может, новости у меня какие есть?
– Какие у тебя могут быть новости?
– Есть.
– Ну бреши, – все так же не глядя на Саввушкина, равнодушно согласился Царёв.
– За «языком» пойдём сегодня.
– Кто сказал? – встрепенулся Царёв.
– Я говорю, Саввушкин!
– Тьфу! – Царёв опять лёг на спину. – Уходи, добром прошу, уходи, покуда не встал…
– Как хочешь.
Царёв расправил пилотку и снова прикрыл ею глаза. «Есть же на свете такие люди, – прислушиваясь к удалявшимся шагам Саввушкина, подумал он. – Придёт, растревожит и пошёл себе как ни в чем не бывало». Но на этот раз Царёв ошибся. Вскоре и его и Саввушкина вызвал к себе командир взвода лейтенант Володин.
Тюменский лесник Царёв был широк в плечах, приземист, ходил валко, как умеют ходить только коренные сибиряки; в больших ладонях, с детства знавших топор и лопату, – только взглянуть на эти ладони! – чувствовалась медвежья сила. Он был медлителен, вял, но, если уже брался за что, ворочал как ломовая лошадь. Саввушкин рядом с ним казался робким и хрупким. Покатые плечи, впалая грудь и тонкие сухощавые ноги придавали ему совсем мальчишеский вид. Родился и вырос он в Ставрополье, работал продавцом в сельпо и слыл первым бегуном в районе. В деревне так и звали его чемпионом. Эта кличка незаметно перекочевала за ним и в армию.
Царёв и Саввушкин считались в полку лучшими разведчиками. Лейтенант Володин гордился ими, как своими воспитанниками; капитан Пашенцев называл их «надёжной парой» и приберегал для особых заданий; знали об этих двух солдатах и в штабе полка, и даже в штабе дивизии. Вот почему, когда сегодня нужно было срочно достать «языка», выбор пал на Царёва и Саввушкина. Инструктировал их сам командир батальона майор Грива. Задание важное, без «языка» возвращаться нельзя. Что ж, Царёв готов, Саввушкин – тоже; не раз и не два ходили они к фашистам в тыл, брали «языка», постараются и сегодня. Передний край противника знаком, всю весну стояли дуло в дуло с фрицами на этом участке, изучили. Ведь батальон лишь месяц назад отвели во второй эшелон. Отсюда, от Соломок, до передовой всего несколько километров – прямо по шоссе, через лесок – и вот они, окопы.
Вышли на шоссе, когда солнце было ещё высоко.
Шли молча.
Железные подковки каблуков сухо скрежетали о дорожный гравий.
За поворотом открылось пшеничное поле. Неровным желтоватым клином сползает оно в лощину и теряется в густом ивняке. На раздольной, как волна, высоте, на самой её вершине, в пыльной дымке копошатся люди; они растянулись по гребню, словно наступающая пехота, в длинную редкую цепь. Царёв приостановился, взглянул на них из-под ладони: закладывают траншею. «Ещё один оборонительный рубеж!» А по склону, над засохшими, почерневшими стеблями прошлогодних подсолнухов, то тут, то там, будто поставленные на дугу оглобли, торчат стволы вкопанных в землю орудий. Одна бата-рея, вторая, третья… Да здесь целый дивизион! Откуда? Неделю назад Царёв проходил по этому полю – ничего не было. Вот штука! Он обернулся, намереваясь поделиться с товарищем своим неожиданным открытием, но Саввушкин, приотстав, гнал перед собой, как футбольный мяч, консервную банку.
– Чего гремишь!
– Проминка. Ногам проминка.
«Мальчишка, дурь в голове, э-эх!»
Спустились в лог, потом шоссе снова вывело на косогор, и перед разведчиками развернулась холмистая с перелесками даль. За лесом в голубой дымке тонут белгородские высоты. Там – фашисты. И оттого высоты кажутся суровыми, насторожённо холодными, чужими. А здесь, по эту сторону леса, в балках, на пригорках, на плоских вершинах холмов и по склонам – всюду двигаются едва заметные фигурки солдат; вгрызаются в землю, опутывают окрестность ломаными зигзагами траншей и ходов сообщений. В перелеске, среди нежных белоствольных берёз, стоят укрытые зелёными ветками танки; издали они похожи на копны; много копён, и веет от них не пряным сеном, а удушливо-горьким запахом бензина и металла. В лощине, как чёрные колья, подняли к небу жерла тяжёлые миномёты. Они гнездятся по самой кромке кудрявого ракитника. Над кустами клубится дымок походной кухни. «Сила-то, сила какая!» – мысленно воскликнул Царёв, удивляясь и поражаясь тому, что видел вокруг. И хотя эта сила окапывалась, закреплялась, готовилась к упорной обороне, все же радостно было сознавать, что она есть, что вот она, ощетинилась жерлами и ждёт только взмаха чьей-то могучей и твёрдой руки.
– Будут дела, чемпион, смотри! – Он хлопнул Саввушкина по плечу.
Тот удивлённо взглянул на Царёва:
– Какие дела?
– Смотри, брат, силища, а?
– Это-то?… Эт-то я и сам вижу.
– Ни черта ты не видишь, чемпион. Брось тарахтеть своей жестянкой, сапоги портишь.
ГЛАВА ВТОРАЯ
На въезде в Соломки, почти у самой обочины шоссе, виднеется пятнистая, цвета летней степи палатка. В ней живут девушки-регулировщицы. День и ночь стоят они на развилке, пропуская бешеных мотоциклистов, лихих шофёров, медлительных и шумливых хозяйственников. Здесь пролегает одна из главных артерий фронта, и на ней беспрерывно пульсируют красные флажки загорелых, запылённых – только глаза и зубы – девушек. Командует регулировщицами угрюмый рыжеусый сержант Шишаков. Он проверяет документы у проезжих и строго, как свёкор-ворчун, следит за девушками. Редко кто задерживается у палатки – стоит только присесть кому-нибудь, Шишаков хмурится и сердито произносит: «Проходи, проходи, товарищ, здесь нельзя». Особенно недолюбливает он соломкинских, из батальона майора Гривы, – блудливый народ. Лишь один лейтенант Володин пришёлся ему по душе. Каждый раз, приходя на развилку, лейтенант приносил с собой пачку-две крепкой сибирской махорки и почтительно, как подарок, вручал старому сержанту: «Держи, папаша, отводи душу». Шишаков крутил рыжие усы, смотрел хитровато, из-под бровей, и качал головой, дескать: «Вижу тебя, лейтенантик, насквозь вижу, жука масленого!» Махорку тут же пересыпал в объёмистый, как наволочка, кисет, затягивал его узелком и, кряхтя, прятал в бездонный брючный карман. Разговор обычно начинался с «как живёшь» и заканчивался волновавшим тогда всех «вторым фронтом». Не стесняясь в выражениях, Шишаков вовсю костерил Черчилля, Володин поддакивал ему, а сам то и дело украдкой поглядывал на дорогу – хоть бы машина, хоть бы мотоцикл! Наконец появилась машина, сержант, смоля толстую, в палец, самокрутку, отправлялся проверять документы, а лейтенант заходил в палатку к девушкам. Они угощали его чаем и охотно слушали разные фронтовые истории, которые Володин сам когда-то слышал, но о которых рассказывал обычно как очевидец. Нравилась ему Людмила Морозова – белокурая весёлая регулировщица: рассказам лейтенанта она не верила, смеялась над ним, называла «хвастушей», но ухаживания принимала благосклонно и однажды даже согласилась прогуляться с ним днём по селу. Но Шишаков не отпустил её. Это случилось недавно, вернее сказать, вчера. Володин ждал Людмилу возле развалин двухэтажной кирпичной школы, ждал почти дотемна, а потом ушёл в санитарную роту к фельдшеру Худякову.
Комбатовский мотоцикл, пыля, обогнул стадион и скрылся за плетнём. Володин отошёл от окна. Теперь можно было снова расстегнуть воротник и снять пояс. Полуденная жара спала, но в комнате упорно держалась нестерпимая духота. Сегодня лейтенант особенно тяжело переносил её. После вчерашней выпивки (а выпивал он в санитарной роте у фельдшера Худякова, где справлялись чьи-то именины: или старшей сестры, или самого фельдшера, – Володин так и не мог припомнить теперь) болела голова и чувствовал он себя разбитым. Ни за что не хотелось браться, начатое утром письмо к матери так и лежало на столе неоконченным. Лечь бы и уснуть, забыть обо всем на свете; ни тебе разведчиков, ни этой проклятой девчонки… Он вспомнил, как вечером ходил на развилку к Людмиле и как вместо Людмилы с ним, пьяным лейтенантом, разговаривал рыжеусый сержант Шишаков; сержант рассказывал о своей молодости. Вот старый черт! Володин прошёл к печке, вернулся к окну и опять прошёл к печке. И, уже не останавливаясь, зашагал взад-вперёд, медленно, заложив руки за спину, точь-в-точь как только что делал это уехавший на мотоцикле майор Грива.
Майор приезжал инструктировать Царёва и Саввушкина, которых отправляли за «языком»; Володин вспомнил, как долго и назидательно говорил майор, как слушали его разведчики, то и дело повторяя: «Понятно, понятно!» – но Царёв все же переспросил, дадут ли минёра, чтобы расчистить проход к проволочным заграждениям; вспомнил ещё, как сам он стоял у окна и больше смотрел на дорогу, на дремавшего у ворот в коляске комбатовского мотоциклиста, чем на расстеленную на столе карту, – он знал наизусть эту карту с красными и синими линиями наших и вражеских траншей – и с нерешительностью думал о том, попроситься ему с разведчиками на задание или нет. Только когда солдаты вышли, Володин сказал командиру батальона: «Разрешите и мне с ними?» – но голос был так нерешителен и сам он казался таким вялым и сонным, что майор только недоверчиво покосился и ничего не ответил.
Ни о майоре, ни о Цареве, ни о Саввушкине, ни о ком не хотелось сейчас думать Володину; снова, как и утром, его охватил приступ гадливости: «Нахлестался, как дурак. И верно, что – пе-ехота!» Пятернёй пригладил волосы, лениво потянулся и прилёг на ободранный скрипучий диван. Чтобы как-нибудь избавиться от неприятного ощущения, взял со стола «Правду» и – в который раз сегодня! – прочёл сообщения с фронтов. «Поиски разведчиков». Поиски! Завтра и про нас напишут так: «В районе Белгорода предпринимались поиски разведчиков…» Повернулся на бок и столкнул с дивана ногой сапожную щётку. Поднял её, повернул в руках: вот чего не хватало ему сегодня – щётки! Именно сапожной щётки! Володин чуть не вскрикнул от радости. Сейчас он навощит сапоги – и на развилку!… Решение пришло мгновенно, и он уже не пытался ни отменить его, ни как-либо изменить, даже не искал оправдания перед собой, – ведь только вчера дал клятву не ходить туда! – просто почувствовал себя свободно и легко, и эту лёгкость хотелось продлить как можно дольше. Когда вошёл старший сержант Загрудный доложить, что Царёв и Саввушкин уже отправились на задание, Володин не стал его слушать, попросил принести махорки.
– Закурить? – переспросил Загрудный.
– Пачку. Неужели забыл?
Старший сержант по-бычьи упрямо посмотрел на лейтенанта:
– Ребята не одобряют…
– Что не одобряют?
– Зачем она вам, девчонка эта…
– Вот что, Загрудный, – резко сказал Володин. – Не лезь в мои сердечные дела. Хочешь уважить, принеси, что прошу, а нет – сам достану.
Сначала тропинкой за огородами, потом краем оврага Володин шёл к развилке.
Может быть, впервые в жизни он чувствовал себя так хорошо и бодро, может быть, впервые в жизни так жадно смотрел на окружавший его мир и впервые, созвучный его душе, этот удивительный мир открывал перед ним свою красоту. Он видел все разом и видел каждую травинку в отдельности, любовался тем, что было рядом, у ног, и в то же время не мог оторвать взгляда от перелесков и холмов на широком, как размах, горизонте; прислушивался к звукам угасающего дня и прислушивался к себе, как бы проникал в глубь себя; и ему казалось, что все вокруг и он сам до краёв наполнены счастьем. Смешным и нелепым сном казалась ему теперь прошедшая в пьяном чаду ночь. Нет больше того Володина, взъерошенного и пьяного, а есть другой – чистый и звонкий; и оттого, что между тем и другим лежала теперь черта и эту черту провёл он сам одним решительным росчерком, – именно это и радовало его сейчас. Было приятно идти краем оврага, слышать пение иволги и знать, что все прошлое – прошло, а будущее – будет; и ещё знать, что есть на свете белокурая Людочка, которая, наверное, очень ждёт.
Людмила Морозова дежурила на посту. Когда Володин, обогнув пригорок, вышел на дорогу и увидел её, ещё не зная, а только догадываясь, что это она, – сердце взволнованно забилось. Он остановился и смотрел теперь только на неё. Смотрел неотрывно, проникаясь нежностью. Все в ней казалось милым: и кирзовые сапоги с широкими голенищами, и узкая защитного цвета юбка, и гимнастёрка с офицерскими карманчиками, туго обтягивавшая грудь. Сейчас она стояла неподвижно, опустив флажки, и смотрела на восток: там, за её плечами, на тонущей в синеве равнине, чернели, как точки, бог весть когда сметанные стога.
Володин ждал: сейчас Людмила заметит и окликнет его, улыбнётся, кокетливо запрокинет голову, и пилотка скользнёт по мягким белым волосам.
Он вздрогнул, услышав за спиной хрипловатый голос сержанта Шишакова:
– Пришёл? Ну что ж, коли пришёл, садись, потолкуем.
Говорил Шишаков степенно, и хотя Володин ещё не оборачивался и не видел его, по шелесту отрываемой газеты и по тому недружелюбному тону, каким произнёс сержант слова, понял, что у старика сегодня плохое настроение. Володин достал приготовленную для встречи махорку и все так же, не оглядываясь, как бы говоря этим: «Бери и уходи!» – протянул пачку за спину.
– Ишь ты, сибирская, – заметил старик слегка потеплевшим голосом. – А нам вчерась опять саратовскую давали. И то ладно, и то спасибо. Да что дали-то, осьмушку на три дня! Хоть кури, хоть смотри, а при нашей службе сколько за день пройдёт да проедет всякого народу? Каждого угости. Попросит, где ж отказать? Достаёшь… Ты, лейтенант, присаживайся, потолкуем.
Было слышно, как Шишаков разгрёб сапогами траву и, покряхтывая, по-стариковски тяжело и грузно сначала припал на колени, затем сел и вытянул ноги. Долго ещё сопел и мостился, усаживаясь поудобнее, ладонью стряхивал что-то с гимнастёрки и сладко причмокивал губами. Володину неприятно было слушать возню старика; он знал, что если сейчас повернётся, увидит в радостно дрожащих руках знакомый огромный кисет, увидит багровое рыжеусое лицо с прищуренными от удовольствия глазами, сгорбленные покатые плечи с наискось пришитыми погонами и на погоне – прилипшую засохшую макаронинку. В прошлый раз он видел такую макароннику – надо же умудриться забросить её на погон и ходить не замечая. Нет, Володин не хотел оборачиваться, уже одно то, что Шишаков был рядом, досадно коробило лейтенанта. А девушка продолжала стоять к ним спиной и любоваться надвигавшимися с востока сумерками. За чёрными стогами, за уже померкшей в сизом тумане дубовой рощей засыпала тревожным сном родная земля.
– Садись, – снова пригласил Шишаков. – Разговор есть.
Ладонью на ощупь выбрав место, Володин нехотя сел.
– Так вот дела какие, – с минуту помолчав, продолжал Шишаков. – Ты, лейтенант, вот что, ты лучше не приходи сюда больше. Слышь, добром прошу.
Подавляя в себе неприязнь к ворчливому старику, Володин обернулся и как можно спокойнее спросил:
– Что случилось?
– Не ходи, не положено сюда.
– Скажи толком, что произошло? Шишаков поднял брови, внимательно посмотрел в юное лицо лейтенанта.
– Хороший ты человек, рад бы для тебя и поступиться, но – приходить больше не приходи. Я, брат, порядок люблю. Порядок, он везде нужен. Даже и в семье и то без порядку не бывает. Ты вот приводишь сюда, а я, можно сказать, грех на душу беру. А на кой черт мне под старость грех этот? Я, брат, на службе, и у меня своё начальство есть. Случай что, кого к ответу? Меня. Где ты, скажут, сержант Шишаков, был? Куда смотрел, скажут, сержант Шишаков? Не тебя ли, старого дурака, предупреждали? Давай-ка отвечай теперь! А каково мне хлопать глазами, а?
– Ничего не понимаю.
– Тут и понимать нечего. Сказал не ходи – отрезал. Вот и весь разговор, – Шишаков достал кисет, свернул новую цигарку. – Сегодня утром ротный наш приезжал. Говорит, на двенадцатом посту и на седьмом троих комиссовали по беременности. Куда, спрашивается, отделённый смотрел? Теперь лычку с него снимут. А у меня в отделении – сколь уже месяцев? – ни одного случая. Ротный к награде обещал за отличную службу, а ты мне все подпортить можешь.
– Ты что, сдурел? Да я же просто…
– Просто, не просто, знаем мы вас!
Оттого ли, что лейтенант смотрел на него пристально и зло, или просто от боязни, что сказал резко и прямо, Шишаков предостерегающе поднял над головой руку. Володин усмехнулся, заметив этот боязливый жест, встал и, не обращая внимания на окрики приободрившегося Шишакова, пошёл к Людмиле.
По шоссе прямо на развилку двигалась большая колонна автомашин. Пришлось остановиться на обочине и переждать колонну. Мимо пронеслась, обдав тёплым ветром, легковая машина. Володин не успел разглядеть, кто сидел в машине – полковник или подполковник? Следом за легковой прошли крытые штабные грузовики, а за ними на небольшой дистанции – мощные «студебеккеры» с прицепленными к ним длинноствольными противотанковыми орудиями. Они двигались попарно, с двух сторон обтекая регулировщицу. Из-под колёс брызгами разлеталась дорожная галька. В клубах пыли трепетал над головой девушки красный флажок. Он то скрывался, как в тумане, то снова был виден хорошо и отчётливо, и тогда казалось – не колонна мчалась по шоссе, а флажок летел над автомашинами.
Когда опустело шоссе и пыль, оседая, свалилась за обочину, Володин вышел на дорогу.
– Людмила! – позвал он.
Девушка оглянулась. Сначала на лице её появилась улыбка, будто она действительно обрадовалась встрече; потом озорно заблестели глаза, и она засмеялась, пока ещё беззвучно, но явно осуждающе, и от этого смеха Володину сразу стало как-то неловко. Торопливо оглядел себя, смущаясь и краснея, потрогал звёздочку на пилотке – все как должно быть. И вдруг услышал за спиной негромкое покашливание. Повернул голову: Шишаков стоял рядом и с усмешкой смотрел на него.
Володин почувствовал, как кровь прилила к вискам. Вплотную придвинулся к сержанту и прошептал:
– Старый мерин!
– Ну-ну-ну! – пятясь, зачастил Шишаков. Больше не говоря ни слова, Володин зашагал по шоссе в деревню.









































