Текст книги "Игра в игру"
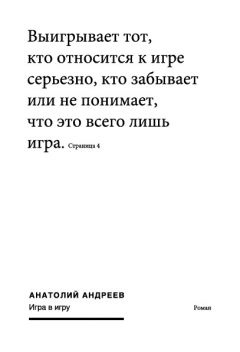
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 8. История человечества
Все началось с Адама и Евы, как известно. А вот почему, Ваше Сиятельство (сокращенно В.С., то бишь W.C.)? Не с колеса, например, или там с прически Евы, а с отношений А. и Е., а, W.C.? Почему?
Да потому что отношения мужского и женского начал, разума и души, стали основой человеческого измерения…
Впрочем, читайте роман, и все станет ясно. Все романы – это краткие истории человечества. Кстати, о романе…
Нет, о романе некстати. О романе потом. Сначала об истории человечества.
Итак, отношения мужского и женского начал. История человечества – это история возникновения и развития разума. А история развития разума – это история его войн с душой. Самая известная и популярная у людей форма войны – это любовь. Вот почему все романы – краткие истории человечества. В сущности, мои отношения с Машей, например, или Еленой, а также с Электрой и Каролиной, кратко и сжато повторяют всю историю человечества. Мне не надо рассказывать историю, я знаю ее по своей жизни. Я всегда чувствовал себя историческим персонажем, жизнь которого вмещает в себя больше, нежели жизнь обычного человека. А для обычных людей истории просто не существует. Есть только здесь и сейчас. Есть только миг между прошлым и будущим, главное в котором – торговля и ремесла. Мало того, что они живут не на Земле, летящей в космосе, а где-то на окраине Минска, они еще живут вне времени. Вне пространства и времени, W.C.. Если бы я был Богом, создавшим подобную породу, мне было бы нестерпимо стыдно. Я был бы Богом Красного Цвета. Вот почему, исходя из лучших побуждений, я считаю, В.С., что Вас нет. Я с уважением отношусь к самой номинации – Господь Бог. Люди – это абсолютно не божественное что-то, они просто компрометируют само начало, их сотворившее. Вы бы придумали что-нибудь поинтересней, W.C., не сомневаюсь, или, на худой конец, отреклись бы от них. Реальный масштаб человека – это масштаб его нереальной мечты. Скажи мне, о чем ты мечтаешь, и я скажу – кто ты. О чем мечтают люди всех времен и народов? О количестве нулей, вписанных собственной дрожащей рукой в чек, который они мечтали бы обналичить в небесной канцелярии, опередив всех своих конкурентов. Их мечта – дорого стоит. Какие люди – такая и история. Блошиные бега, главный приз на которых – все тот же чек. Вместо истории мы ковыряем мифы, лучшие из которых – древнегреческие. На мой вкус они поинтереснее евангельских и древнерусских. В последнее время даже придумать толком ничего не могут. Елена, Афродита, Тесей, Зевс, Геракл, Электра, Мария…
Все на круги своя.
Кем же являюсь я, в таком случае, – я, человек одной книги, преодолевший суету цивилизации и живущий в столице культуры, у себя в квартире? Если бы мои мечты исполнились, Вам пришлось бы туго, а, Ваше Сиятельство?
Давайте подробнее поговорим о героях, о великих людях, усилиями которых творилась сама история. Роль «личности» в истории: тема достойная нашего внимания. Казалось бы, великие даются обыкновенным людям в назидание и поучение, чтобы последние время от времени чувствовали свое ничтожество. Как бы не так.
Первая часть биографии великих, та, когда они творили свои шедевры, в которых в недоступной для простого смертного форме выражено восхищение психологией цветника, интересует людей постольку, поскольку существует вторая часть, когда великие обязательно (это фундаментальный закон!) обнаруживают свое ничтожество. Пушкин окажется бабником, Лермонтов – монстром, Гегель и Гоголь – занудами, Мольер и Гете – продажными; алкашей и наркоманов среди великих – не счесть, подонков столько же, сколько и гениев.
Получается: мы не только хуже, бездарнее, но и лучше этих сомнительных избранников. После того, как ознакомишься с неизбежным теневым обрамлением, с мусором и сором, становится гораздо легче: охотно прощаешь этим мерзавцам свою неполноценность, следствие их гениальности, ибо другим следствием гениальности является их вопиющая ублюдочность. Самыми лучшими оказываются самые обычные. Как вы, да я, да целый свет. Гении ненормальны во всех отношениях, а мы – во всех нормальны. Одно стоит другого. Люди, я уверен, и о Христе слушают с тайным удовлетворением, подозревая, сколько же грязи скрывается за такой благодатью. Что делал великий Назаретянин до тридцати трех лет? А? Это большой вопрос.
Но не дай Бог преподнести им биографию человека, отличавшегося достоинством (не в их понимании, а в моем)! Такого унижения они не потерпят. Человека, который реализовал личность в себе, они посчитают своим главным врагом, хотя еще и не видели такого. Порадовать их?
Неужели человеческое счастье – это счастье не быть человеком?
Я не помню, чтобы пришедшее ко мне понимание наполнило меня счастьем. Нет, все же не так. Женщины на фоне моего понимания человека – вот мое счастье. Женщины если и не нейтрализуют понимание, то обогащают его, служат противовесом, спасают от самого себя. И чем глубже понимание – тем больше я ценил окружающих меня женщин.
При этом я все сильнее и сильнее презирал тех, кто бессознательно окружал себя живыми существами, любил «жизнь», по убеждениям таких же жизнелюбов. Коты, собаки, жены, дети, внуки, яблони, кусты малины – вот цветник жизни. Все цветет и пахнет. Человек сам становится частью цветника, млекопитающим, папой, дедушкой или тетей, понимание только угрожает цветнику, а потому его избегают, словно суховея, превращающего все в пустыню. После человека остается цветник, а после понимания…
Nihil ne canem vel catum reliquit. Ничего не оставил, даже кошки и собаки. Это о таких, как я.
Женщина для мужчины из цветника – просто скво, самый красивый цветок цветника; для меня же – спасение от понимания. Когда приходит понимание, женщина становится больше, чем женщина.
Получается, что мое счастье состоит из двух частей, из двух половинок, из двух полушарий. И этого я никому не объясню. Вот нажил себе проблемку. Это уже даже не «горе от ума», потому что и «горе от ума» они понимают по-своему: их ум и их горе делают их счастливыми.
Моя проблема – это понимание, несовместимое с жизнью. Людей, подобных себе, – я просто не знаю. Доигрался, блин.
Приятно было с Вами побеседовать, W.C.. Но я так и не услышал внятных возражений. Что-то после грозы на поле Вы стали неразговорчивы.
Или это были не Вы?
Глава 9. Маша
Порядок, как известно, бьет класс. Так вот сейчас я продемонстрирую вам класс. Не ищите в моем повествовании логики порядка, ибо это больше, чем порядок: это класс.
Я расскажу вам о Маше, что является нелогичным во многих, если не во всех, отношениях. Близко к абсурду. Как говаривали в старину, quid hoc ad Iphicli boves? Какое отношение это имеет к быкам Ификла (между прочим, брату-близнецу Геракла)? Казалось бы, никакого. А я все равно расскажу.
Вы думаете, что делала Маша вблизи ратуши?
Конечно, ждала своего суженного. Собственно, она уже прибыла на свидание. А вот он отчего-то запаздывал (как потом выяснилось, по исключительно уважительной причине; если бы он пришел на свидание, игнорируя свою выдуманную причину, он бы не заслуживал уважения). Вот почему Маша, преисполненная чувства собственного достоинства, а также злости на него, заставившего ее торчать возле ратуши на виду у всех, как дуру, легко откликнулась на слова случайного прохожего (это был я, с любовью в сердце торопившийся на свидание с Еленой):
– Здравствуйте. Меня зовут Геракл! Я счастлив!
– А меня зовут…
– Иола?
– Нет, вовсе не Иола. Не угадали.
– Но ведь не Деянира же…
– А вот тут вы правы. Деянира – это модная певица. Меня зовут Мария. И я убита горем.
– Я могу вам помочь?
Сострадание к симпатичной девице, по-моему, всегда украшает мужчину.
– Гусь свинье, извините, не товарищ. Вы счастливы, я нет. К тому же вы явно спешите к другой.
Умный мужчина должен ухаживать за умной женщиной так же, как и за полной дурой: в этом сказывается ум мужчины.
– Спешу. Но я не могу пройти мимо вас.
– Начнем знакомство с подлости и предательства?
– Нет, с честности. С дурацкой честности.
– Может, и мой Платон сейчас так же честен с кем-нибудь.
– Вряд ли. Кроме меня на это никто не способен.
– В ваши годы уже можно позволить себе быть честным. Извините. Платон мерзавец.
– Платон вам друг? У меня иногда возникает ощущение, что я живу в Элладе. Посмотрите на ратушу: колонны, портики, анфилады. Рядом Геракл. А тут еще Платон с Гермогеном на горизонте. Эгейского моря разве что не хватает. И Минотавра. Лернейская гидра ни к чему: я брезглив.
– Как вас зовут, честнейший Геракл?
В ответ я протянул ей паспорт.
Сначала Маша не хотела принимать меня как мужчину, который у нее уже отнят Судьбой. Это был девичий способ сопротивления неизбежному – способ столь же бессмысленный, сколь и необходимый для самоуважения. Но Судьба в каком-то смысле была на моей стороне. Во-первых, мне очень и очень помог Платон (он расклеился и повел себя не по-мужски, чем и весьма даже подтолкнул Машу в мои объятья); а во-вторых, я был по-юношески напорист и неотразим.
Через полгода я шептал Маше на ушко (в день ее рождения: ей исполнилось ровно девятнадцать лет):
– Боже мой, за что мне эти тонкие руки, мягкие, нежные сгибы на локтях, напоминающие ямочки, знаешь, какие ямочки («М-м-м…» – выразила нечто невыразимое Машенька)? да, да, а губы какие, закрой, нет, раскрой, нет, прикрой («М-м-м!»), а волосы мягкие («Чистые», – бессознательно, на автопилоте промямлила Маша), мне их схватить хочется в пучок, потом впиться в них, потом («М-м-м-м-м!»)…, а это что? грудь? нежная спелая грудь? это перси, персики мои сладкие, убери свои волосы и спрячь губы, не мешай мне, не мешай, ах, не мешай («М-м-м…»), почему ты так неудобно лежишь? неудобно, опять неудобно, неужели непонятно, что ноги надо вот так («Зачем ты все комментируешь, а, зачем, зачем?..»), а что нельзя? надо молчать? не могу молчать, не могу, не могу («А-а-а… М-м-м…»), а это что у нас? быть не может, розочка раскрылась, сама, sub rosa, а росы сколько, нет, нектара, ты не ладошкой закрывай мне губы, а губами своими, вот так, м-м-м, да, так, а-а-а («М-м-м!»), м-м-м-м-м-м-м-м… это что? не знаешь? и я не знаю, дай мне губы, губки, губошлепки, ой, какие славные, мягкие, где руки мои, которые твои, обними меня, вот так, да, персики, розочки… («М-м-м…)
Время остановилось. Это был первый звонок. Вам когда-нибудь удавалось остановить время? Вряд ли это искусство. Это большая удача. Возможно, счастье.
Вы думаете, это означало, что я разлюбил Елену? Нет, это означало, что я полюбил Машу, в то время как дома меня ждала Электра. Подобный сюжет даже в воображении моем никогда не складывался, потому что он казался мне нежизнеспособным. Я терпеть не могу не одобряемых жизнью сюжетов. Мне казалось, что одна любовь непременно должна вытеснять другую, согласно какому-нибудь закону Архимеда, воле Зевеса или закону компенсации; в моем же случае они нелогично дополняли друг друга. Каждое чувство в отдельности на время заслоняло другое и заставляло мое сердце сладко замирать от счастья. Но все вместе, собранное в один пучок, уже травмировало меня: три счастья превращались в боль. При этом даже мысль отказаться от одной из моих женщин усиливала боль.
Жизнь крупно удивила меня, игрока. Дело в том, что я не играл ни с одной, ни с другой, ни с третьей; но отношения со всеми тремя уже явно приобретали черты игры. Я честно запутался и потерял контроль над ситуацией. Я просто не знал, чего я хочу и чего мне следует хотеть как джентльмену и приличному человеку. Передо мной стояла стена счастья, необозримая и неохватная, готовая, к тому же, в любой момент рухнуть и погрести меня под своими сияющими обломками.
А вот в этом месте самое время рассказать об эксперименте с собакой Павлова, о собачьей истории, к которой я обещал вернуться.
Собственно, я о себе, но начну с собаки. Бедную Собаку (кажется, пса в насмешку звали Цербером), честную как сама природа, люди в белых халатах быстро обучили двум несложным трюкам, так сказать, привили ей условные рефлексы. Перед приемом пищи ей всегда демонстрировали круг, а перед Ужасными Неприятностями, например, побоями, – овал. Понятно, да? Круг – и у Собаки слюнки текут в предвкушении райского удовольствия (как у меня при мысли о встрече Машей); овал – и Собака начинает злобно рычать на весь мир, ибо оттуда вот-вот грядут побои. Круг – овал, круг – овал. Позитив – негатив.
И вот настал роковой день. Милый сердцу круг на глазах бесконечно изумленного пса стал сплющиваться и, в конце концов, приобрел зловещие очертания ненавистного овала. Как прикажете реагировать на круг, из которого высунулось мурло овала? Пес, поджав хвост, чуть не захлебнулся полившейся было слюной. И чудный пес начал сходить с ума, точнее, с того, что у него в голове вместо ума.
В этом бесчеловечном эксперименте – вся суть человека. Я не только о Павлове, я о себе.
Любовь была для меня кругом, спасательным Кругом, который вовремя подбросила мне Судьба со своей великолепной яхты. И вдруг Круг не только перестал держать меня на плаву, он стал тянуть ко дну. Я перестал доверять собственному опыту и стал тихо сходить с ума.
In venere semper certant dolor et gaudium. В любви тоска соперничает с радостью.
Порождая безумие.
Черт бы побрал их всех вместе взятых.
Глава 10. Ревность
Именно в этот момент Судьба, говорящая на каком-то латинском наречии, кратко и неясно, показала свою неограниченную власть над людьми. Дождавшись, пока я окончательно запутаюсь, она, «сжалившись» надо мной, забрала у меня жену. У меня большие претензии к Судьбе, ибо она, и никто другой, заставляет относиться к жизни как игре. В ответ я готов сделать Судьбу персонажем моего романа. Пожалуйста. Займите свое место на сцене. Поиграем вместе.
Итак, Электра покинула меня, и передо мной встал выбор: какую из двух любимых женщин предпочесть? Машу или Елену?
При мысли о Елене в душе моей воцарялось спокойствие. С ней все было ясно, понятно, предсказуемо. Елена была парализована ядом любви ко мне. И это, признаюсь, тихо радовало и волновало меня. Жена, царство ей небесное, была озабочена сохранением «морального лица», она была всю жизнь верна каким-то загадочным принципам, по отношению к которым мне должно было быть стыдно за мое «аморальное существование». Елена просто измеряла жизнь тем, насколько мне было в ней хорошо. Она абсолютно растворялась во мне. У нее даже был своеобразный комплекс: быть беспроблемной. Не быть в тягость. «Я тебе не мешаю? Нет? Ты уверен?» И это меня слегка раздражало. Я не боялся ее потерять, потому что знал, что никогда не потеряю.
Что касается Маши… Однажды она вскользь обронила: «Мне с тобой солнечно хорошо. Но иногда физически (вот бы никогда не подумала!) меня по-прежнему тянет к глупому Платону. Я как бы раздваиваюсь. Помимо своей воли. Представляешь?»
Эта фраза отравила мне жизнь, стала той каплей яда, которая парализовала меня. Я враз почувствовал себя беспомощным и беззащитным. Я любил, но, оказывается, не в силах был противостоять более молодому конкуренту. Что скрывалось за Машкиной репликой, в которой, не сомневаюсь, не было злого умысла или тонкого расчета (лучше бы они были!)? Иногда ее слова были настолько смутны и неточны, что ее приходилось переводить. За первым чувством она не видела причины, побудившей ее сказать какую-нибудь галиматью. В сущности, в такие моменты она не говорила, а мурлыкала (я млел от ее голоса, м-м-м…). Я так желал, чтобы эта фраза была корявым набором милых звуков, не несущих для меня гибельный или оскорбительный смысл, но приставать к ней с расшифровкой ее «загадочного» текста считал ниже своего достоинства. Более того, текст в данном случае казался мне убийственно ясным и точным. Я мучился, она, разумеется, не замечала моих из пальца высосанных страданий.
Как бы то ни было, Машка проболталась. Она не принадлежала мне всецело, как Елена (тут во мне просыпалось привычное раздражение к Елене, маячившей безупречным монументом на периферии моей жизни). Мои чары утрачивали силу, а Машкины околдовывали меня все сильней.
И я, догадываясь, что совершаю ошибку (опять кольнуло раздражение по адресу Елены), но больше всего на свете боясь ее не совершить, сделал предложение Маше.
Согласие Марии (она благоразумно, по-взрослому, взяла неделю на раздумье) испугало меня не меньше, чем обрадовало. Вот уж поистине: желанное, счастливо идущее в руки, – не ценим, а то, что при этом неизбежно теряем, – кажется больше, чем приобретение. Человеку всегда мало. Мысль, что я вольно или невольно предаю Елену (мне сразу стало не хватать ее жертвенной любви), не давала покоя, терзала и заставляла опускать глаза. Вообще, я узнал о себе немало нового. Я не ожидал, что во мне отложено и зарыто столько женского, легко отзывающегося на душевные волнения. Оказывается, совесть всегда была мерилом всех моих поступков, но вот поступки (где ты бывала в эти мгновения, Судьба?) чаще всего были мелкими, не масштабными, не судьбоносными.
Мне предстоял разговор с Еленой, и я не стал его откладывать.
– Ты делаешь ошибку, – спокойно сказала Елена. – Тебе нужна жена, которая будет твои интересы ставить выше своих. Я не о себе, я о твоем благе забочусь. А Маша ждет, что ты ее будешь носить на руках. Разве нет? Извини, я не хотела сделать тебе больно. Желаю тебе счастья.
Я задумался. Стоит женщине (иногда дуре набитой, мнение которой я ни в грош не ставлю) бросить глубокомысленное замечание, как оно начинает казаться мне исполненным сокровенным смыслом. Привычка расшифровывать, переводить с женского на мужской, сильно осложняет мне жизнь. Дескать, эти женщины не ведают, что творят, но творят чудеса. К тому же эти вечные мифы о глубине женской интуиции…
Я колебался. И в этот момент встретил Каролину (вновь случайная встреча окажется не случайной; но до меня это дойдет позднее). На улице моего города, в Троицком предместье (недалеко от того места, где я встретил Машу, только гораздо ниже). Каро была чем-то озабочена, и очень глубокомысленно сплела следующее:
– С Машей жизнь – огонь и риск. Это настоящая женщина, если судить по твоим словам. Умная женщина. Верная ветреница. А может, и неверная. Она сама себя до конца не знает. Я уверена. Знаешь, как у нас бывает? Еще утром я клянусь тебе в верности, а вечером что-то происходит. Как карта ляжет. За это вы нас и любите. Маша. Даже не думай.
Маша не была умной женщиной (хотя она была далеко не дурой). О чем толкует умная женщина? О том, что женский ум может заменить роскошную задницу. Машкин ум никак не мог конкурировать с ее задницей, и меня это вполне устраивало.
Уже сам факт того, что Каро выбрала Машу, должен был бы насторожить меня. Где была моя голова? Где?
Где, где… В Караганде. Каро – это классика при всей ее загадочности: послушай ее и сделай наоборот. Но я не жалею. Я ни о чем не жалею. Кроме одного: я упустил шанс с Еленой. Этот вариант, предложенный судьбой, виноват, Судьбой, мог бы стать роскошным. Не судьба. В смысле, именно Судьба.
Уже став молодым мужем, однажды я тихо вошел домой с охапкой роз, обожаемых Машенькой. В спальне Маша заканчивала телефонный разговор: «Перезвони мне завтра. Да, да, завтра. В полдень». В интонации – что-то шустрое, юркое и вкрадчивое. В полдень – это когда меня не будет дома, когда она будет одна (моя жена не работала, она училась).
Я сложил колючую охапку прямо у порога спальни, прошел в кабинет и уткнулся лбом в Стену, прямо в «Резервацию культуры» (о ней речь впереди, сейчас не до этого), не замечая высоких смыслов, за которые задевали, возможно, мои невидимые рога. Стена перестала меня волновать. Сейчас она интересовала меня разве что в качестве места, куда можно приткнуть свою неразумную голову. (Если продолжать играть в игру «какая латинская поговорка подходит к этой ситуации?» – то явно напрашивается всем известная, замусоленная народом, в которой, однако никто ничего не понимает, а именно: Quos Juppiter perdere vult, dementat (кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума). Я разочарую всех любителей легких отгадок: не вставлю этой затасканной поговорки. Приберегу ее для более подходящего момента.)
– Какие розы! – воскликнула за моей спиной Маша (интонация – чистейшая слеза на голубом глазу; не слышал бы ее разговора – был бы счастливейшим человеком на свете; опять же – Судьба: нет бы вернуться минутой позже).
– С кем ты говорила по телефону? – промычал я.
– По телефону?
– Да. По телефону.
– С подругой. Какие розы!
Заметьте: не «какой у меня муж, притащивший такие «какие» розы», а «какие розы, доставленные, кажется, мужем». Есть разница. Акцент не тот. Собственно, Елена меня об этом предупреждала.
Ревность, болезненная, ядовитая, похожая, почему-то, на махрово-пышную розу, обволакивала меня своим эфиром со всех сторон. Мысли струились мутным потоком, смывая любой фундамент, на котором начинало вызревать хоть какое-то решение. Это была не только любовь. Не совсем любовь. Больше, чем любовь. Шекспир был прав. Я знал, что для ревности не надо оснований, она принципиально безосновательна. Знал. Но моя жена была моложе меня почти на тридцать лет. Это была не ревность, а приближение старости, и я цеплялся за жизнь. Если это так, то Маша меня не поймет. И я сказал на всякий случай:
– Ты никогда не увидишь меня молодым, а я никогда не увижу тебя старой. Понимаешь?
– Нет, – сказала Маша, ослепительно улыбаясь. Ее невозможно было представить старой.
Все правильно: она устраивает свою судьбу, а все эти вещи, делающие меня одиноким и беззащитным – не для нее. Где ты, моя Елена? Но сердце тут же давало знать: к Елене оно меня не пустит.
Как ни странно, Маша по телефону действительно разговаривала с подругой (я ведь не пошел на работу, отменил важную встречу и дождался телефонного звонка: я безобразно расклеился). Тем хуже. Мне стало казаться, что своими интонациями Маша «готовит» (бессознательно, конечно) меня – и, что характерно, себя! – к появлению вовсе не подруги. Усыпляет бдительность. Заставляет меня растрачивать порох на ложные страхи, чтобы я потерял концентрацию и пропустил самое важное (которое для нее, само собой, окажется полной неожиданностью).
Следующая фаза ревности оказалась совершенно неожиданной для меня – и потому еще более жгучей. Чем самозабвеннее Маша отдавалась моим страстным ласкам, тем более я ее ревновал. Я ревновал ее уже потому, что у нее была трепетавшая в моих ладонях грудь, мягкий и отзывчивый на грубоватые прикосновения живот. Все мое…
– Можно, я поцелую тебя в душку?
– М-м-м… В какую?
– В душку возле ушка. А вот душка выше брюшка. Теперь душка-побегушка… Побежали…
– М-м-м…
– Душка ниже брюшка…
– М-м-м!
Я самозабвенно целовал ее, словно отбирая у кого-то сладкую добычу, урчал и озирался в темноте, как дикий кот. Я живо представлял себе все ее прелести в любое время суток и в любой ситуации – и на меня накатывала волна беспричинной острой (хочется сказать тупой) ревности. В конце концов, сам факт того, что она была женщиной, любящей меня, любящей, способной любить, становился для меня источником страданий. Мне трудно было простить ей то, что она обладает всем женским, что она делит это женское со мной. Мое внимание всякий раз неуловимо переключалось на такой нюанс: она хотела это делить, она хотела принадлежать мужчине. Сегодня мне, а завтра – кому-нибудь другому. То, что я, Геракл, являлся представителем мужской половины человечества, я как-то упускал из виду. Я и был отчасти другой. Мне это не нравилось. Я плевать хотел на диалектику, с помощью которой всегда себя укрощал (в такие моменты я реагировал на нее, как бык Ификла на красную тряпку). Мне хотелось по-детски простой игры: я и Машка, и больше ничего.
Такой глупости (которую я про себя деликатно называл безумие) я от себя не ожидал. Я ежился от приступов колючей, дьявольски болезненной ревности – и бежал к Машке, чтобы убедиться, что она все еще моя. «Где мои персики?» «Здесь, на месте». Убеждался, и это только усиливало мою ревность. Моя девочка обнимала меня, была со мной ласкова и внимательна, но это странным образом не исключало, а, скорее, предполагало возможное присутствие рядом с ней кого-то еще, какого-то другого мужчины рядом с этой женщиной, моей ласковой девочкой. Сама возможность и, так сказать, законность ее интереса к противоположному полу моим нездоровым воображением рассматривалась как величайшая несправедливость.
Горько-сладкий кошмар огненного цвета, тягучий, густой, лавой опиумного тумана мутил мне мозги, отбирал волю и делал посмешищем в собственных глазах. Я буквально ловил минуты просветления, чтобы укрепить волю и сознание и уговаривал себя: «Это возрастное, это пройдет. Все пройдет, все, все. Все!» Но эта молитва мало помогала. (Кто не ревнует, тот не любит. Qui non zelat… Тьфу! Какими же примитивными остолопами иногда бывали древние мудрецы! И словарь латинских пословиц, пущенный моей меткой рукой, летит в Стену и напарывается на хрупкую Бабочку раскрывшимися шелестящими страничками. Сочный звук удара. После чего словарь кульком падает вниз, словно подбитый лобовым стеклом нерасторопный нетопырь. На минуту становится легче.)
Моя неуверенность в Маше, точнее, уверенность в том, что она в любой момент может меня покинуть (несмотря на то, что она сама сейчас думает иначе: знаем мы цену бессознательному!), превращалась в неуверенность в себе. Я уже начинал постепенно злиться на себя – верный признак выздоровления через погибель. Так лисовин, в погоне за колобком попав в капкан, откусывает себе лапу, чаще всего, заднюю лапу (хочется почему-то назвать лапу «ногой»), так сказать, жертвует частью во имя целого.
Рано или поздно кульминация должна была наступить. Однажды за крепким утренним чаем я ни с того ни с сего брякнул:
– Где мои персики?
– На месте. Согласно закону природы. Посмотри мне в глаза. Ты что, ревнуешь?
Я честно, по-мужски, как оловянный солдат, образцово не увиливая от ответа, отчеканил:
– Да. Моя ревновать. Ошэнь ужасно.
После этого, словно Пьеро, достал из складок халата пистолет. Настоящий, не бутафорский. Где я его взял? Выиграл на спор у господина Ольгина. Я утверждал, что женский гормон феромон не имеет запаха, Ольгин же доказывал прямо противоположное. Он цинично полагал, что запах женщины, ее природная маркировка – это и есть феромон, который не отобьешь никакими духами. Так у меня в руках оказался пистолет. Я приставил его к виску (хотя был соблазн направить на нее), крутнул барабан и нажал на спуск. Последовал холодный металлический щелчок. «Человек стреляет, Судьба пули носит», – пронеслось в моей пустой голове. Homo proponit…
– Дурачок, – сказала она, ласково отбрасывая мою руку с пистолетом в сторону.
Никто, кроме меня, не знал, что произошло на самом деле. Только что, на глазах у Маши я сыграл в русскую рулетку: в барабане был один патрон. Желтенький, тяжеленький. Равнодушный ко всему на свете. Какая была бы точка пули! Моя жена Маша, разумеется, ни о чем не догадалась, а мне стало жутко стыдно за свое ничтожество. А если бы мозги по стенкам? Умер бы со стыда.
Это было предельной точкой унижения. Я где-то переиграл. После холодного щелчка, звук которого снился мне по ночам, я стал медленно приходить в себя.
Не заиграться – самое великое из всех известных мне искусств.
Смотрите. Вуаля. Фокус-покус с чистыми руками. Психологи утверждают: зависть и ревность – форма проявления нелюбви к себе. Браво. Это глубокая посылка. Но если абсолютизировать ее, обойтись с ней некритически, то она немедленно, но верно, превратится в глубокое заблуждение. Чтобы эта великая посылка обратилась в великую истину, надо иметь в виду следующее: иногда, в определенных конкретных обстоятельствах, зависть и ревность могут выступать формой именно любви к себе, пылкой и конструктивной.
Вот она, божественная зыбкость истины, где я, человек-амфибия, чувствовал себя, как рыба в воде, и где обычные люди трепыхаются, как мамонты в болоте. Им подавай твердь иллюзий: зависть – это… (следует одномерное определение); ревность – это…
Мои объяснения для них – игра в слова. А для меня их истины – пустая игра слов. Кто прав? Конечно, они. Их же больше. Цирк, ей-богу.
Все сказанное касается не только зависти или ревности. Буквально всего. Например, цивилизации. Души. Достоинства. Любви. Продолжать? Хорошо. Мужества. Да, да. Вы думаете, почему я стал общаться со Стеной? Потому что от Стены не так отскакивает, как от людей. Parieti loqueris.
…Я любил, она любила, нам было хорошо – и именно это все вместе взятое и было плохо. Таких ресурсов наивности, таких залежей непосредственных, греко-шекспировских ощущений я в себе не предполагал.
Честно сказать, меня это отчасти даже радовало, не приводило в восторг, а именно тихо радовало, ибо это было свидетельство бьющих через край жизненных сил. Когда я понял это, то быстро успокоился. Стал опять самим собой. Было похоже на то, что я излечился, справился со своей болезнью. Боюсь, речь шла именно о болезни, о временном ослеплении, затмении рассудка. Я, оказывается, страшно боялся потерять ее. Точнее, я боялся, что у меня уже не достанет сил удержать ее естественным образом, силой своего мужского обаяния. Стена в душе моей дала трещину, и сквозь нее в меня просочился, вселился демон страха, подзадориваемый духом неуверенности в собственных силах. Я стал объектом атаки демонов зла.
Возможно, повторюсь, проблема заключалась вовсе и не в любви. Это был один из первых звоночков: силы жизни убывали, и это свято место заполняло противное, леденящее (но свежее, набирающее мощь!) дыхание смерти.
В тот момент, когда я понял это, я даже постарался вызвать приступ ревности, ощутить в себе всплеск жизненных сил. Побыть молодым.
Но ревность, капризная, как и любовь, уже ушла.
И это вдвойне огорчило меня…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































