Читать книгу "GENIUS LOCI. Повесть о парке"
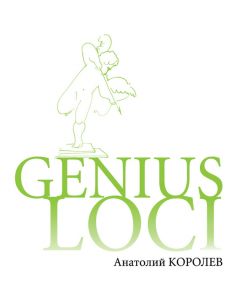
Автор книги: Анатолий Королев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Анатолий Королев
GENIUS LOCI Повесть о парке

От автора
Оглядывая свое прошлое, я вдруг понял, что потерял почерк.
Впрочем, уверен, свой почерк основательно подзабыли все люди моего поколения.
Даже последние письма матери я уже писал на дисплее, предпочитая шрифт VERDANA шрифту ARIAL. А между тем, друзья, у меня был когда-то забавный играющий почерк, ручная личная конница, и я хорошо помню, как он – мой почерк – рождался под нажимом пера… ах да! Забыл, – я же потерял вместе с почерком в придачу еще и стальное перышко, и деревянную ручку с металлической вставочкой, куда в тесную щель – по дуге – вставлялось перо, клювик для пития чернил.
Бог мой, начнешь перечислять потери – для счета не хватит и всей жизни… что ручка и перышко! ХХ век кончился…
Так вот, в первом классе я усердно выводил прописи по идеальному образцу из набора самых правильных букв. Это была сплошная мука. Мои каракули были ни капельки не похожи на эту когорту кичливых заглавных букв алфавита! Как хотелось слизнуть языком этот парад совершенства из острозаточенных А, овальных О, или изумительных К.
Промучившись целый год, я приобрел, в конце концов, ужасный набор кривых буквочек и нестройных цифр, которыми мазюкал свои первые предложения:
МАМА МЫЛА РАМУ
Или
2х2=4
Королев, ты пишешь как курица лапой!
Как я стыдился своих сорняков, которыми засорял безупречные голенькие тетрадки, где на молочной белизне страницы красовались совершенные параллельные линии для строки, и отвесно маячила розовая черта для полей. За нее нельзя было ни в коем случае заступать! А я заступал. То и дело за край обрыва свешивались мои кривые оладьи и прочие чернильные языки.
Но была отдушина в этом царстве ранжира – промокашка.
Ее вкладывали в каждую тетрадь для высушивания чернил.
Мягкая розовая площадка свободы.
Тут можно было вволю покуролесить, написать что-нибудь сикось накось, засорить перышко так, что на тетрадь рухнет клякса, или взять, да нарисовать тайком от учителя:
Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая,
Ручки, ножки, огуречик…
Вот и вышел человечек!..
Короче, сколько лет прошло, но я не забыл тебя, школьная промокашка, ведь ты научила меня свободе.
В один прекрасный день с ее пушистого коврика, как джин из бутылки, вырвался на волю мой заточённый дух, мой истинный почерк, армия букв собственного изготовления, которая захватила простор всей моей жизни, пока не увидела на горизонте пасть пишущей машинки ЭРИКА, которая с грохотом клавиш слопала всю мою бесшумную конницу.
Смены пишмашинки на комп я уже не заметил.
Так вот, друзья, эту повесть о парке я писал от руки! Я убрал со стола машинку с глаз подальше.
Почему?
Потому что только почерк позволял мне страстно слиться с написанным текстом. Ведь текст – это роды из бездны. А почерк пуповина из тьмы…
Больше того, я начал писать на гладкой мелованной бумаге, но вскоре понял, что моя шариковая ручка скользит слишком быстро – она обгоняет мысли. Потому ее надо слегка притормозить. Тогда я подобрал для работы стопку тонких страниц самой нежной папиросной бумаги; шарик встретил сопротивление шероховатого листа, и скорость письма гармонично совпала с темпом постава. Кроме того, когда я переворачивал исписанный лист, он продолжал радовать глаз изнанкой почерка, которая легко проступала на обороте странички, как синеватая кровеносная сеть повести…
Эти оба оттиска содержания – прямой и оборотный – наполняли мою душу неизъяснимым восторгом: ай, да Пушкин, ай да сукин сын.
Короче, моя повесть о парке – GENIUS LOCI – это еще и последний памятник моей собственноручной коннице русского алфавита, погибшей в песках времени, моему ныне почти забытому почерку.

А. КОРОЛЕВ
P.S. Иллюстрациями в книге о парке стали именно избранные странички из моей рукописи, тут вам и почерк, и разные почеркушки на полях – еще одно вольное подражание Пушкину, который любил рисовать вокруг облачка рифм на листе разные лица, носы, чертенят, свой профиль и дамские ножки… чтобы держать под рукой вдохновение.

1. ЗЕЛЕНЫЙ СЛОВАРЬ
В одном частном письме английский поэт восемнадцатого века Александр Поуп рекомендовал при устройстве сада советоваться во всем с «гением местности» и сообразовывать усилия садовника с физиономией и характером окрестной природы. Сказать, конечно, легче, чем воочию увидеть этот незримый гений, или тем более проникнуться его духом и подчинить свой садовый почерк его неслышной диктовке. Гений местности – сама тайна. Да. Но часто незримое и тайное легко замечает ранимый глаз ребенка.
Так и случилось.
Именно ему вдруг открылся в летней парковой сени, в переплете сучьев и веток, в пятнах темно-зеленой листвы гений местности. Трудно сказать, как тот выглядел, – ребенок промолчал, проводив его полет насупленным взглядом. Хотя, впрочем, следы какой-то потусторонней встречи позднее мелькают на страницах его пиитических книг. Таких встреч было несколько, и лицо встреченного двоится в памяти: то это грозный облик шестикрылого серафима пустыни – ангельский образ, лицо которого закрыто двумя крылами, то – темная личина духа отрицания:
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия…
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд.
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасною мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Итак, мальчик проводил насупленным взглядом горний полет в свежей парковой чаще. Ему уже гневно кричали: «Alexadre! Alexadre!» A он упрямо отмалчивался, любуясь страшными громадами стволов и уходя все дальше в глубь пустой темной аллеи к стене света вдали.
Мальчик родился в день Вознесения, тем самым Провидение предначертало ему насильственную смерть, воскресение из мертвых и приобщение к небу. Он неповоротлив и тучен. Своей молчаливостью он приводил темпераментную мать в отчаяние. Вот и сейчас она нервно ходит взад и вперед у дорожного экипажа, ломая руки и беспрестанно хлопая слабой дверцей кареты, которая никак не хочет закрываться. Она необычайно хороша собой, в прелестном дорожном платье с завышенной талией и глубоким вырезом на груди, с обязательной по тогдашней моде кружевной шалью на плечах и в капоре. Капор скрывает нежное лицо молодой женщины от солнца. Ее тонкие руки в светлых шелковых перчатках до локтя, в кулачке стиснут маленький зонтик. Прелестные черные локоны серпантинами вьются вдоль ее атласных щек. Она удивительно смугла. Недаром ее прозвали прекрасной креолкой. «Alexandre! Alexandre!» – кричит в парковую даль француз-гувернер, сложив руки рупором. Он стоит в точке схода трех лучевых аллей, не зная, по которой сбежал его несносный воспитанник. От крика лошади тревожно шевелят кончиками ушей. Живописную картину завершает прелестная девочка в соломенной шляпке, она в двух шагах от матери, и сонный мужчина в глубине кареты. Ему бы надо выглянуть, узнать, почему зовут Александра, а заодно поторопить кучера с отъездом (оторвался валек), но ему лень и не хочется ссориться с месье эмигрантом, с Надин, с самим собой, наконец. Уютная тень лежит на его лице. В конце концов, гувернер приводит к экипажу за руку маленького беглеца. Но что это с ним? Неповоротливого мальчика трудно узнать. Юная мать с тревогой оглядывает лицо сына: куда подевались привычная набычливость и неуклонная тайная мысль в себе? Alexandre прыщет дикой веселостью, девочка бросается ему на шею, и дети нежно обнимают друг друга, пытаясь спрятаться в раковине братско-сестринской любви от вечной раздражительности родителей. Мать ловит на себе взгляд сына и вздрагивает – он глядит слишком взросло. На миг он показался ей смуглым бесенком с рожками. Она перекрестилась…
Но мы забежали вперед лет этак на двести, да и карета уже трогает с места. Кучер, привстав на козлах, хлещет кнутом по лошадям. И все теряется в дымке пыли и столетий. Лучится то ли на заднем стекле дормеза, то ли на лбу вечности радужная звезда. Но вот и ее задувает африканская мгла.
Бывают счастливые местности, в которых природа отступает, окружая некую пустоту красотой. Может быть, эта пустота уже ждет человека? Наша местность издревле была из таких вот счастливых, радующих глаз. Лесной порыв здесь внезапно иссяк, отдав свободе целый амфитеатр террас, уступив цветам и снегам живописные склоны. Провидение, чтобы окончательно приковать взор незримою цепью, вложило излучину реки в низину. Оперило стрелку южных бореев в сторону Лебяжьей горки, тогда еще безымянной. Брошенные ледником скалы стоят по пояс среди цветов. К молчанию столь глубокой цезуры слетелись певчие птицы. Из лесов на солнце шагнули кусты диких роз и орешника. Обогащая местный словарь на чистых скрижалях простора, запестрели незабудки, васильки, желтые многоточия пижмы, запятые гвоздик, синие точки и алые прописные. Не было лишь человека – любоваться и читать это великолепие. Дубовая роща на макушке Лебяжьей горки казалась священной, так широка была ее тень и высока трава между корнями. И она стала священной Перуновой рощей, попала в тенета человеческих чувств, в силки эмоций. Оцепенела под взглядом окрестностей. В шелесте листьев ухо слышало предсказание судьбы, кроны вещали, бурлили с настойчивостью родника, бьющего из-под земли. Этот шум можно было пить. Вокруг него была поставлена ограда из свежих веток. Неосторожно ступившего в рощу ждала счастливая смерть. Убитого покрывали цветами, а сцеженную кровь разливали по дуплам. И столько вольной дикости было в этом скопище белых камней и конских черепов, в густых зарослях шиповника, в гудении лесных пчел, в пересвисте соловьев, что первый квадрат решено было заложить именно здесь, среди хаоса кривых и случайных зигзагов. Одним углом квадрат лег на заповедную рощу, и впервые дубам пришлось изведать вкус топора, злую горечь пилы. Священная роща – подобием кузнечных мехов – всей грудью дышала туманом опилок и духом смолы от щепок, раскиданных по солнцепеку. Квадраты обычно беременны кубами, чертежи – сечениями и разрезами. В этом нет ничего ни от дьявола, ни от Бога. Вся геометрия от человека. Над квадратом выросли монастырские (деревянные) стены, и там, внутри, появился первый побег нашего Аннибалова парка, если можно побегом назвать десяток кустов и пяток деревьев – небольшой монастырский сад. Его образ был первым поучением человека дикой красоте окрест, уроком и укором языческому пейзажику, лесной шум которого змеиным шипом колобродил за монастырской оградой, сыпал на паперть пчелиными роями. Плоть взывала к духу, и над окрестностями вырос грозный «Азъ», он был озвучен колокольной медью, а у подножия буквы примостился рукотворный образ средневекового мира; он был резко делим на две неравные части: большую – царство греха и меньшую – внутри квадрата – царство благодати. Стена квадрата означала ограду райскую, а кучка яблонь, груш, дикого винограда в окружении кустов шиповника и смородины означала райскую кущу, а сам квадрат был образом истинно должного, макетом Эдема. Миниатюрность и скудность садика в расчет не принимались, взор видел радужные мириады бездонного сада, где первым садовником был сам Господь. В кущу под «Азом» строго подбирались плодово-ягодные сласти и цветочные сливки: розмарин, рута, шалфей, гладиолус, божественный символ Богоматери – белая лилия. Сверху сад был отчетливо разрезан крестом узких троп. На пересечении координат добра и зла был выкопан в глубь Лебяжьей горки колодец. Райский вид должен был радовать глаз, услаждать слух птичьим пением и насыщать обоняние душистыми ладанами диких роз, шафрана и мирры. В нижней половине креста (на месте незримой опоры для ног Спасителя), как бы в мысленном центре услады, стояла яблоня с наливными яблочками – символ того райского прадерева, от которого начался путь человеческого изгнания. Яблоня придавала монастырскому садику некоторую горечь вопроса: как в самой гуще добра, в сердцевине райского яблока могла родиться червоточина падения? Почему источник вселенского потопа начинает струиться из ранки самого совершенства? Как поцелуй стал укусом?
Яблоки с этой яблони клевали только птицы, плоды ее монахами игнорировались. Она росла только для этических нужд. Этика в свою очередь становилась эстетикой. Круг замыкался. Круг непорочности и вечной весны, вписанный в квадрат, где краснели не цветы, а капли крови Христовой, где лилейно белела не плоть лепестков, а сама непорочность. Так эдемское садово-парковое ремесло (искусство вообще) стало орудием пересоздания жизни. Тут лежали начала нашей эстетико-жизни, ее лекала и циркули, кольца ее садовых ножниц, ямка от острой циркульной ножки.
Но сказать, что это была лишь ботаническая реплика к окрестным дикостям, нечто сродни средневековой выставке достижения христианского хозяйства, значит иронией отделаться от сокровенного смысла. В рамках нашего квадрата – углом на дубовую рощу – уже тогда шла открытая борьба двух миропорядков, двух цитат. Первой (из Аврелия Августина) о том, что «два града – нечестивцев и праведников – существуют от начала человеческого рода и пребудут до конца веков». И второй (из Киево-Печерского патерика) о том, как небо указало Антонию-пустыннику место для фундамента первой отечественной церкви… «И тотчас пал огонь с неба и пожег все деревья и терновник, росу полизал и долину выжег, рву подобную».
Здесь налицо два подхода к нечестивому окружению: меланхолическое сосуществование двух градов бок о бок до конца времени, и гневная ежедневная опала всему тому, что так вольно раскинулось на все четыре стороны от квадрата. Вот где истоки многого, например, схизма третьего Рима, или недавний агитпроповский пыл белых исполинских букв на кумаче: даешь рай немедленно! Тень будущей опалы мрачно бродила по перелескам, внимая сладкому щебету Содома и Гоморры соловьиной Палестины. Дух должной красоты был пока запечатан в квадрате, как джинн в бутылке. Дебри качали листвой. Оперенье переливалось адскими огоньками. В природе не было канона, одно это делало ее злом, порослью греха, пищей пожара. Но и тут не обошлось без горечи вопроса: если все это пиршество сотворено Божьим промыслом, то кто тиснул на этой картине печать зла? Если все вокруг от Него, место для зла одно – человек?
Райская куща внутри квадрата просуществовала совсем недолго, вертоград свело на нет кладбище. Монастырское кладбище. Куща стала первой жертвой могучей самоубийственной силы. Сначала могилы потеснили цветники, затем извели душистые заросли сирени, винограда, смородины; стихло пенье птиц, которым больше негде было вить гнезда, злее стал гул медоносных пчел. Последним пало древо познания и зла.
Выкапывая яму в самом почетном месте для гроба настоятеля, монахи-землекопы повредили яблоневые корни, и деревце засохло. Но странное дело! Как только сад извели под корень, он набрал силу и тихо засиял за оградой ночью – светом полной луны, днем – сиянием северного солнца. Порой над частоколом можно было различить колыхание яблоневых крон, темную круглость плодов, услышать свежий шум листвы; этот неясный мираж действительно стал садом нетления, корнем благочестия, ветвью чистоты, побегом грядущего. Но это еще не все. Сквозь симметричный парадиз проступила с той же дремучей силищей Перунова роща – дубовой мореной доской под тихие краски: желток, ляпис-лазурь, позолоту. Одна красота всплывала сквозь другую. Словом, наша натура демонстрировала свою подводную тайну, тайну погребенной живой красы, тайну китеж-красоты…
О мощи недовоплощенного писал еще Платон (в «Федре»).Так, он заметил, что «сады Адониса», «сады из букв и слов» плохи тем, что их видно. Слово должно быть устным словом оратора. Сила в незримом.
Аннибалов парк всегда был слишком уязвим в своем надземном подробном облике. А пока он снился только окрестным соснам и елям, чаще во время грозы, когда небо раздирали громовые глотки, и огненные столпы озаряли магический чертеж – призрачные аллеи, водяные партеры, боскеты и беседки, лабиринты и эрмитажи. А вскоре послерайский уголок под северным небом впервые тряхнуло на волне русской истории. В лето от сотворения мира 6934-е прокатила взад и вперед горячим утюгом по самобранке армия литовского князька Витовта. В одну из палевых плешин угодил и монастырский квадрат, обгорели дубы, из тех, что росли у самой ограды, огненной буквой пылал в ночи «Азъ». Вскоре квадрат и глагол восстановили, но роковая тень судьбы уже нависла над благословенным затишьем. А однажды в узкие воротца въехали два брата-чернеца с царственной свитой. Один из них, по легенде, был сам Иоанн Четвертый, Грозный. В те дни он корчевал западные российские крамолы; настоятель был казнен, монахи разбежались. Впрочем, легенды противоречат друг другу… спаленный квадрат затянуло малиной. Орешник затопил могилы. Дожди источили кресты. Так постепенно уточнялись координаты будущего парка, чертеж оседал из поднебесья на живописные террасы, он оказался на самом острие того копья, которым Московия целила в балтийское горло Ингерманландии. И однажды на Лебяжью горку (все еще безымянную) с малиновой заплатой, на сосны и ели, вдоль приречных склонов хлынуло море. Незримые волны затопили по самую макушку деревья, воронками обозначили местоположение полян, завитками пены – кроны лип. Желание обычно искажает черты любого лица, абрис любой местности, тем более желания государственные.
Пролегли через райские купины контршарпы и флеши, морская соль изъела дикие розы и белой изморосью легла на стволы. Берег добыть тогда не удалось, и причальными сваями стали деревья. Балтийские штормы гуляли по рощам, мокро хлопали в перелесках, летали пенными веерами над туманными молами. Так грезила государственность. Россия хотела быть берегом. В сих крайностях ливонских и прочих кампаний, получив окрестные земли со всеми смердами от Годунова, думный дьяк посольского приказа Щелкалов решился только на цветник перед усадьбой. Всего лишь на круглое душистое пятнышко, где вперемежку росли барвинок, лаванда, васильки, ноготки, пионы и желтый пивеник. Оставим в покое варварский вкус думного дьяка, важно другое – на смену квадрату пришел круг, овал, и у этой геометрии были уже свои правила жизни. Овал не объявлял анафему постороннему – некрещеному – миру, он еще как бы не знал, что с ним делать. Скорее, он даже вступал в тайный союз с окружением по принципу: все храм Божий, нет в природе ни зла, ни добра, один человек – сосуд греха. От цветника перед домом было проложено несколько узких просек, где через ельник, где сквозь березовые рощи. Они разбегались, как спицы в колесе. Сказать, что это были аллеи, еще нельзя. Просеки рубили для хозяйственных нужд, чтобы проехала телега. На просветы в лесу, как на приметные ориентиры, стали слетаться птицы. Дьяк любил слушать певчих птиц, а от вечного камня из поднебесья – от ястреба – певчую птицу могла спасти только густая чащоба. Деревья вдоль просек росли стеной, мешая друг другу и толкаясь ветвями.
Одновременно с пестрым цветником и прааллеями на выезде из усадьбы был поставлен мощный поклонный крест, а невдалеке заложена часовня Нечаянныя радости. Домашние затей дьяка не одобряли: не то время, чтобы показывать силу, в спицах колеса им мерещилась дыба, а в цветник было положено слишком много красного, порой цветущая клумба казалась лужей крови. После Грозного всюду мерещилась кровь. Но дьяк отмахивался от зловещих знаков судьбы – Годунов шел в гору, царь Федор Иваныч жил в грезах своего слабо-умия. Прореженный топорами лес терял первозданную дикость, набирали рост душистые липы, шире становилась кленовая тень. В летний день в благословенных кущах пело разом по две сотни птиц: соловьи, щеглы, пеночки, синицы, дрозды, овсянки, и вдруг все забилось в падучей, мутно вскипело изнанкой осиновой рощи от порыва грозы. В Угличе пролилась кровь девятилетнего Дмитрия, упавшего в припадке на нож, и алые брызги долетели до рокового цветника. Капли налипли к чашечкам мака, пиявисто всосались в барвинок. В ненастные ночи по липовым закоулкам и в кронах дубов стал мерещиться дворне убитый мальчик, как бы весь телом из быстрой воды, в белой рубашонке до колен, а в горле у него торчала красная щепка. Быть беде! Когда от Годунова прислали дьяку малый колокол для будущей церкви, пустили слух, что этот колокол один из тех снятых в Угличе по царскому указу… Словом, европейское море отступило вспять, зато нахлынуло Смутное время, думного дьяка закрутило щепкой в волнах, понесло на самую быстрину, а однажды кинуло волною на кол. Цветник вытоптали. Анемоны разбрелись по лугам, амарант зачах в зарослях пижмы. Часть пихт порубили на лес для недостроенной часовни. Ястребы стали свободно пролетать в зеленых туннелях, цапая певчих птиц. Вновь в свои права вступили дубовая роща и ель, дубы зашагали к дому, ель почти сомкнула узкие просеки, только центральная аллея держалась силой мощеного камня. Щебет смолк на целых сто лет до зимы 7208 года, когда сначала был отнят у Щелкаловых годуновский колокол так и не построенной церкви, отнят и отправлен на переплавку для шведской кампании, а затем кончился и сам злосчастный год Нарвского поражения – год 7208 от сотворения мира, – взамен которого в сентябре наступил 1700 год от Рождества Христова, и лет этак еще через десять вся эта землица была отдана царскому любимцу графу Головину.
Так произошло новое уточнение координат Аннибалова парка, теперь он очутился не на границе с мифической Ливонией – или Речью Посполитой, а на пути между старой и новой столицами – Москвой и Питер-Бурхом.
Страшно сказать: граф! Тем более – писать… И все-таки Головин приехал в усадьбу ранней весной 1712 года, сырым мартовским вечером. Карета въехала на центральную аллею, и под железными ободами заскрипел камень – остатки мощеного проезда. Граф крикнул кучеру остановить, сошел размять ноги и незаметно уединился в тесную боковую просеку, продираясь порой сквозь еловый заслон. Он никогда раньше не бывал здесь, но чувство владельца смело двигало его окоченевшие члены. Повсюду лежал узкими полосами снег, сосны ненастно шумели в вышине мокрыми шапками. Вечер еще был светел, и сквозь черный частокол стволов вдали – на западе – виднелась винно-вишневая ткань заката. Молодцевато вышагивая, граф легко ставил узкий сапог-ботфорт на землю. В нем бродила военная кровь, дышалось легко и победно. Виды дикого леса, чуть тронутого рукой человека, веяли печалью. Просека привела к останкам потешного чердака (беседки) над краем террасы, откуда открывался просторный обзор на местность, на старую усадьбу, на излучину реки в низине. Группа сосен, дубовая роща, хребты гробовых елей, свободный беспорядок дерев среди пятен осевшего снега, блескучая линия туч на горизонте – все это поражало сердце сгустком хмурой и гордой красоты. Печаль еще тесней обступила душу, но Головин не собирался так легко сдаваться темному набегу вечера. По натуре он был воитель. В графском глазу тикала полководческая жилка. С быстрым наслаждением граф Головин набросал в уме контуры будущих аллей, очертания водных партеров, пунктиры запруд, шеренги боскетов, голландские фонтаны, облик нового дома, фронтоны, колонны, беседки, эрмитажи и – глубокий вздох – отметил царапиной на мысленном плане будущий склеп с мраморной урной в глубине ниши, на которой начертано латынью… но надпись никак не сочинялась. Зато родилась мысль о «грудной штуке» (бюсте) в центре площадки, наверху мраморного столпа, изображающей бога войны Марса… Граф задумался, он был равнодушен к аллегориям, воображение влекло к победным кумирам, к великому Александру, к Аннибалу. Возвращаясь, граф уже решил провести здесь остаток своих дней и встретить смерть, любуясь своей последней победой над дикой натурой – пейзажным парком. В глазу блеснула слеза, закатные позументы играли на его скорбном лице. Вернувшись к карете и прыгая на подножку, граф объявил застывшему камердинеру: «Vivat le pare de Annibale!» (Да здравствует парк Аннибала!). Камердинер молча закрыл дверцу, наверное, он не разобрал слов.
В начале лета по просекам Аннибалова парка запрыгал зеленый кузнечик, человек в весткоуте изумрудного цвета, «архитект-цивилис» и садовник Антонио Кампорези. Он не был итальянцем, и как его звали на самом деле, история умалчивает. Его имя – след горячей италомании, которая тогда охватила Европу. Зеленому кузнечику было поручено разбить регулярный парк и руководить постройкой загородного графского особняка. В средствах было приказано не скупиться. Так под сень северного неба шагнули доселе неслыханные принципы ландшафтного искусства. К пустоте сошлись имена Браманте, Шарля де Эклю, Бекона. Последний, например, озарил русский простор законом ver perpetuum, «вечной весны». Парк, по его мнению, должен являть собой волшебную картину всегдашнего цветения. Зимой о зелени лета будут говорить вечнозеленые кущи можжевельника, купы сосновых крон и обелиски гробовых елей. Апрель добавит к этой суровой зелени розовое пламя цветущего шиповника, май зажжет огни желтофиоли, распушит кисти сирени, засыплет клейкую листву снежком от цветущих яблонь. Лето усеет землю брызгами роз, гвоздик, ноготков. Осень, сбросив кленовый и прочий пожар листопада, вновь надолго прикует взоры к вечной зелени елей и сосен, только гроздья рябины простоят до самых снегов, украшая холодный колер ржавью киновари. Две другие великие тени – де Эклю и фон Зибольд – накрыли Лебяжью горку с окрестностями платком фокусника, и, когда плат был сдернут ловким Антонио Кампорези, горка оказалась срытой, а взгляду графа и его первых гостей открылась милая Петрову сердцу Голландия. Все было сделано с размахом того топориного века, который Пушкин сравнил с кораблем, спущенным со стапелей на воду под грохот пушек. Когда клубы порохового дыма рассеялись, со стрижиного полета можно было увидеть на дальнем пространстве сцены повседневной русобалтийской жизни: женщин за шитьем или пишущих письма, поваров над котлами, царя над верстаком во дворце, рыбаков, тянущих сети, пейзан, пасущих фарфоровый скот на тучных полях под звуки свирели. Все было поэтично и обязательно просто по манере исполнения. Проникая через надутую ветром парусину облак, лучи солнца освещают далекие и близкие предметы. На заднем плане видны густые заросли деревьев, ветряные мельницы, романтические кладбища, водопады из гротов. Любимые пейзажные темы – это силуэты темных деревьев на фоне светлого неба и выразительно очерченных облаков, светом выписан каждый лист на дереве и каждый цветок на кусте жасмина или жимолости, светотень глубока и одновременно легка и прозрачна. Искусный резец «архитекта» срезает лишнее, подчеркивает красоту барочных линий, обнажает античные торсы в дождливых далях. Наша сирая натура жмурилась от такого внимания. Голландия вываливалась из кармана садовника, как из рога изобилия. На аллеях и травянистых партерах Аннибалова парка визитерам и вояжерам грезились – в рост дерева – мокро-матовые виноградины, лопнувшие гранаты с глотками, полными лаковых зубов, персики, лимоны, дыни. Купы карликовых дубов и сосен эффектно рисовались среди жареной дичи и пятнистых омаров. Словом, царил вкус «маленьких голландцев»… Река вдоль парка превратилась в цепочку прудов с островками любви. Березы с тыльной стороны особняка были вырублены, уступая место цветочным газонам, травяным бордюрам и партерам с симметричными грудами стриженых тисов и можжевельника, а там, где вскоре встанет беседка «билье-ду» (любовная записка), был помещен на видном месте муляж турка в чалме, курящего кальян. Турок – любимое шуточное блюдо Петровской эпохи.
И все-таки, по существу, это не было явлением Голландии. На деле – под северное небо пришла Франция.
Вскоре французский язык стал родным языком русского света, а первым любимым словом стало «миньон», что значит милый.
И эта внезапная загадка еще ждет своего бытописателя.
Работы по превращению парка в усладу для глаз и образцовое зрелище в духе нового времени растянулись почти на двадцать лет. За эти годы над парком Аннибала и его музой – графом Головиным – дважды нависал меч Немизиды, и каждый раз из-за женщины. Бес попутал графа поволочиться однажды за Марией Даниловной Хаментовой по прозвищу Гамильтон. Взаимности он не добился, но злосчастное волокитство случилось незадолго до того, как камер-фрейлина стала наложницей Петра. А между ними при разрыве сказано было много дерзостей, и граф в пьяном гневе даже приложил длань полководца к ангельской щечке. Ангел была злопамятна, и после восшествия на ложе послала графу записку, от которой кровь остановилась в жилах старого волокиты. Фаворитка грозила кинуться в ноги самодержцу-бомбардиру и покаяться в грехе, которого не было. Причем дату этого самого греха рисковая Гамильтон переносила на некий вчерашний день! Было от чего оледенеть. Граф даже подумывал бежать в Англию. Строительство и отделка дворца и парка были остановлены. Интрига между тем развивалась, Гамильтон медлила расправляться с обидчиком, кроме того, риск был слишком велик – увенчать рогами самого венценосца. А вдруг гнев будет столь велик, что головы не сносить обоим? Во всяком случае, она медлила запускать когти в мышь, по-кошачьи играя добычей. Стриженый тис в парке потерял прежнюю гладкую отвесность и пошел в рост, пуская брыжжи. Вновь поднял голову подлесок. Ели стали перебегать дорогу от парадных ворот к подъездному крыльцу. Идеальная голландская лужайка превратилась в лохматый выгон для скота. Неитальянец Антонио Кампорези дважды укладывал вещи, но его удерживали. Гамильтонка красовалась в платьях, похожих на цветники из-за обилия искусственных роз и бархатных ноготков, граф прыскал на эти мертвые клумбы росой из бриллиантов. Это коварно позволялось. Но вдруг фортуна переменилась, раскатился смех Немизиды, Гамильтонка была определена в любовницы царского денщика Орлова, а в 1719 году казнена через усекновение головы. Петр и тут не смог сдержать порыв просвещения. Отрубленная голова была сначала поднята собственноручно, показана народу с пояснениями о строении внутренних органов, а затем по указу была отдана в куншткамеру, где и сохранялась в склянке с хлебным вином. Гроза пронеслась стороной, постаревший зеленый кузнечик в неизменном весткоуте с широкими полами весело скакал по аллеям, где вновь развернулись работы по шлифовке и отделке земли, воды и растительности. Только теперь Антонио стало ясно, что он никогда не уедет домой. Этот парк был вершиной его гения, расстаться с ним было свыше всяких сил.









































