Текст книги "Страх"
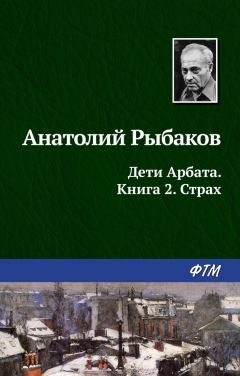
Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
21
Шарок был измотан, недосыпал – допросы шли каждую ночь, доклады начальству каждый день, совещания у Молчанова через день, подследственные – кадровые троцкисты и децисты, доставленные из тюрем и лагерей, показаний не давали, ничего не боялись, ни пыток, ни палок, ни «конвейера», ни угрозы расстрела, ненавидели Сталина, ненавидели органы госбезопасности, ни на какие приманки не попадались, не верили ни единому слову следователя. Люди с многолетней лагерной хваткой, они отвечали так, что ни за одно слово не уцепишься, а чтобы наговорить на себя и на других – об этом не могло быть и речи. Были верны Троцкому до конца, и заставить их показать, что Троцкий – террорист, убийца и шпион, было невозможно.
От этой проклятой работенки у Шарока даже волосы стали выпадать.
Мать как-то утром уткнулась глазами в его затылок.
– Чтой-то ты, сынок, будто лысеть начинаешь…
Он чего-то рявкнул в ответ, мать обиженно поджала губы, уж правду-истину нельзя сказать, ведь родной сын, жалко ведь, извелся весь, так и заболеть недолго.
За эти три недели сплошных ночных допросов Шарок сильно переменился. С теми, с кем можно быть грубым, наглым, нахальным, он всегда был груб, нагл, нахален, но черную работу оставлял другим, исполнителям, не хотел пачкать руки.
И подростком никогда не дрался – боялся ответного удара, этого страха не мог преодолеть и сейчас. При нем валили человека на пол, били резиновыми палками, Шарок наклонялся, тряс ему голову, требовал признания. Но сам раньше никого не валил, не бил резиновой палкой, не топтал сапогами.
Теперь же он сам швырял на пол, топтал сапогами, бил резиновой палкой.
Вывела его из себя Звягуро Лидия Григорьевна, доставленная из сибирской ссылки, старый член партии, исключенная еще в 1927 году, децистка, сторонница Сапронова, а это самые бешеные, самые непримиримые фанатики, сволочи и сукины дети!
Даже разговаривать отказалась.
– Где мой сын Тарас?
Какой такой Тарас? Нет в деле никакого Тараса, и в старом, доставленном из архива деле в графе «семейное положение» ясно написано: «Детей нет».
– У вас нет детей.
– Откуда это вам известно?
– Вот ваше дело, допрос 1927 года.
– Тогда не было, сейчас есть.
– Сколько же лет вашему сыну?
– Семь.
Шарок с удивлением воззрился на нее. Сын. Семь лет. Кто польстился на эту уродливую старуху с выпирающими зубами? И вот, пожалуйста, родила. Впрочем, в местах заключения любая баба – баба, хоть столетняя, с двадцать седьмого года по тюрьмам и лагерям, но вот забрюхатела, в ее-то годы, странно!
– Поздненько вы обзавелись ребенком.
– Моя забота.
– Конечно, – устало рассмеялся Шарок, – сработали… Так где он, ваш сын?
– Я у вас спрашиваю, где мой сын?! Меня привезли с Ангары в Красноярск, провели внутрь управления, Тарасик остался внизу, в приемной. Больше я его не видела. Меня вывели во двор, посадили в машину, потом в поезд и доставили сюда, к вам на Лубянку. В дороге я объявила голодовку, голодаю и сейчас, требую, чтобы мне сказали, где мой сын и что с ним.
Шарок с интересом смотрел на нее. Кажется, он получает свой шанс. Такие, как она, обычно не боятся за судьбу родных, они всех и вся отринули от себя во имя политики. Но эта старуха, оказывается, живет не одной политикой, она живет сыном.
– Напрасно голодаете, – сказал Шарок, – прекратите голодовку, помрете – ваш сын останется сиротой.
Он придвинул к себе чернильницу, блокнот.
– Точно: фамилия, имя, отчество ребенка?
– Фамилия моя Звягуро, зовут сына Тарас Григорьевич.
– Где его документы? Метрики?
– У него нет документов, нет метрик.
– Почему?
– А какое это имеет значение?
– Лидия Григорьевна, – мягко сказал Шарок, – я готов вам помочь. Органы, изолируя родителей, обязаны проявлять заботу о малолетних детях. О вашем ребенке, вероятно, тоже позаботились. Если это так, то надо правильно оформить документы, чтобы потом вы могли его найти. Если же он ушел из приемной сам, то объявим розыск. Для этого нужны приметы.
– Обыкновенный мальчик, семи лет, белобрысый, голубоглазый, не произносит «р», одет в белую рубашку и коричневые штанишки. Пальто из синего сукна, на вате, теплый серый платок, валенки… Документов при нем нет, у него вообще нет документов, это мой приемный сын, я его подобрала в Сибири, родители его погибли. Знает свое имя – Тарасик, знает меня как маму – Лидию Григорьевну.
Все ясно. Старая дева, привязалась к своему Тарасу, совсем ошалела, ради него пойдет на все.
– Усыновление оформлено? – спросил Шарок.
– Вы задаете странные вопросы. Как я могла оформить усыновление? Ведь у меня нет паспорта, куда его вписать. Но Алферов, ваш уполномоченный, в курсе, я ему официально написала.
– Да, – задумчиво проговорил Шарок, – дело очень сложное. Никаких формальных прав на этого ребенка вы не имеете. Не ваш ребенок. И давать вам о нем сведения мы не обязаны.
– Он мой сын, – сказала Звягуро, – я его воспитала. Своей матерью он считает меня.
– Да, да, конечно, – согласился Шарок, – по-человечески я вас понимаю. Но формальную сторону мы не имеем права игнорировать – ни я, ни кто-либо другой. В стране тысячи заключенных, и мы можем говорить только об их законных родственниках. Поймите нас! Мало ли кто кого объявит своим сыном или дочерью! Мальчик – сирота, он, я думаю, попадет в детский дом, вот и все.
– Пока вы мне не сообщите о его судьбе, я не сниму голодовку.
– Не ставьте себя в глупое положение. На вашу голодовку никто не обратит внимания. Какая голодовка в общей камере? Вы не берете свою пайку, но вас подкармливают соседи.
– Как угодно, – отрезала Звягуро. – Пока мне не дадут точной справки, где мой сын, я голодаю и никаких разговоров с вами не веду.
– Ну хорошо, я узнаю, сообщу вам, что он в таком-то детском доме, там-то и там-то. Дальше что?
– Буду знать, где он. Пока мне этого достаточно. Вы можете меня расстрелять. Но, пока я жива, я хочу и имею право знать, что с моим сыном.
– Ни на что вы не имеете права, я вам это объяснил. Он вам не сын, даже не приемный сын, просто чужой ребенок, никто на ваши жалобы не обратит внимания.
Он замолчал, разглядывая Лидию Григорьевну. До чего страшна, черт возьми! Но фамилия громкая – Звягуро! Была в учебнике истории партии, теперь, правда, выброшена. Если такую расколоть, то можно поправить неудачу с Рейнгольдом.
Шарок откинулся на спинку стула.
– Лидия Григорьевна! Вы умный человек и опытный политик. Вы хорошо понимаете бесполезность и тщетность своих претензий. Я не обязан разыскивать случайно встреченного вами сироту. С голоду он не умрет, поместят в детский дом, под фамилией, которую вы никогда не узнаете, и в какой детдом его отправили, тоже никогда не узнаете. Все это вы хорошо понимаете, но, видимо, ваша привязанность к мальчику сильнее такого понимания. Это очень человечно, и я вам сочувствую: наши с вами дела пройдут, забудутся, вот этот кабинет, – он обвел рукой комнату, показал на стол, – эти бумаги, мы с вами, а ребенок останется – ему жить. И вы должны жить ради него. Я понимаю, идеи, взгляды – все это очень важно, значительно, но ребенок важнее и значительней. Буду говорить с вами прямо. Мы не только узнаем про вашего сына, но и поможем вам вернуться к нему. Но и вы помогите нам.
Она сидела, все так же опустив голову, и смотрела в сторону ускользающим взглядом.
Шарок продолжал:
– Оставаясь в том качестве, в котором вы сейчас находитесь, вы не нужны вашему приемному сыну, простите, как его зовут?
Она не ответила, сидела с опущенной головой, глядя в сторону, и взгляд ее по-прежнему ускользал.
Шарок оценил ее молчание: пытается угадать, что он ей преподнесет, готовится к отпору, а может быть, и к согласию.
– Оставаясь в вашем положении, вы обречены на тюрьмы, лагеря и ссылки, – продолжал Шарок, – вы видите, что делается. Партия усиливает борьбу с антипартийными, антисоветскими элементами…
Он нарочно подчеркнул слово «антисоветский» – они всегда негодовали, протестовали, когда их так называли. Но Звягуро по-прежнему молчала.
– Борьбу с антипартийными, антисоветскими элементами партия доведет до конца, – сказал Шарок, – дело оппозиции проиграно, народ и партия отвергли ее, никаких шансов она не имеет. Представляете ли вы опасность для партии, для народа? Нет! Достаточно шевельнуть пальцем, и вас не будет. Возвращайтесь к партии, к народу, помогите строить социализм, ведь ради этого вы и пошли в революцию.
Шарок сделал паузу, ожидая реакции Звягуро. Но она по-прежнему молчала, сидела, опустив голову, глядя мимо Шарока, будто шарила взглядом по тюремному полу.
– Я знаю, что вы ответите: я родился, когда вы уже были в партии, и не мне вас убеждать. Но не я вас убеждаю, вас убеждает партия, народ вас убеждает, если угодно, ваш сын, которого вы бросаете на произвол судьбы.
Он опять сделал паузу, но эта Звягуро чертова все молчала и сидела все в той же позе…
С другой стороны, ее молчание обнадеживало Шарока – слушает, не возражает.
– Помогите политически обезвредить Троцкого. Он руководит из-за границы деятельностью террористических и подрывных групп на территории Союза. Действовал через «Объединенный центр» в Москве, куда входили, с одной стороны, Зиновьев, Каменев и другие зиновьевцы, с другой – бывшие видные троцкисты Смирнов и Мрачковский. По приказанию этого центра убит Киров, готовились террористические акты против товарища Сталина и других членов Политбюро. Вы об этом ничего не знали? А вот от меня узнали. И помогите нанести последний удар по Троцкому и троцкизму. В этом нам помогают многие бывшие зиновьевцы, троцкисты и децисты. Помогите и вы. Мы не собираемся вас судить. Мы хотим, чтобы вы засвидетельствовали, что такая террористическая организация существовала, что директивы о терроре давались. Что, где, как, кому – это вы решите сами. Это вопрос технический. Важно подтвердить: Троцкий руководил заговором из-за границы через Зиновьева, Каменева, Смирнова, Мрачковского и еще некоторых лиц… Все честные люди нам помогают, и вы помогите. Никакого предательства вы не совершаете. Отказаться от ошибочной линии, отказаться от бесполезной борьбы не стыдно, не зазорно. Зато, сохранив свою жизнь, вы сохраните и жизнь своего приемного сына. Вы ведь знаете, что такое наши детские дома, к сожалению.
Ее молчание начало раздражать Шарока, он повысил голос:
– Лидия Григорьевна! Я вам все объяснил, и достаточно ясно. Вы должны сделать выбор. Я не настаиваю на немедленном ответе. Я вас не тороплю. Подумайте, завтра я вас вызову.
Не поднимая головы, она спросила:
– Что будет с Тарасом?
– Как только я получу от вас положительный ответ, я тут же приму меры. Более того, мы привезем его в Москву, покажем вам, оформим усыновление и поместим в лучший московский детский дом, а если пожелаете, то отправим к вашим родным, у вас, – он перелистал дело, – у вас в Ярославле, кажется, есть племянник, пожалуйста, отправим вашего Тараса к нему.
– Понятно, – тихо проговорила Звягуро, – а не соглашусь участвовать в этой комедии, ничего о Тарасе не узнаете и ничего для него не сделаете.
– Абсолютно ничего, – подтвердил Шарок, – мы можем вам помочь только в порядке исключения, если вы поможете нам.
Он смотрел на нее спокойно, даже как будто участливо, но в душе торжествовал: идейная, до революции еще сидела в каторжной тюрьме, у нас восемь лет мотается по тюрьмам, лагерям да ссылкам, и вот такую он сломает, нашел уязвимое место, нашел ахиллесову пяту. Сама назвала своего Тараса.
А ведь районный уполномоченный Алферов ничего об этом Тарасе не написал, дал характеристику: кадровая, непримиримая децистка, а вот что мальчика воспитывает, не написал, знал об этом, от самой Звягуро знал, но не написал. Понимал, не мог не понимать значения такого обстоятельства для следствия, а не упомянул. Почему? Ладно, разберемся. А эта тетка никуда не денется.
– И с другими вы тоже вступаете в подобные сделки?
– Вступаем. В отдельных случаях. В большинстве случаев никаких сделок не требуется.
– Детьми шантажируете.
– Лидия Григорьевна! – сурово произнес Шарок – У меня нет времени на дискуссии. Я вам предложил простой, прямой, безболезненный выход из положения, одинаково выгодный вам и нам. Вы отлично понимаете, что мы добьемся от вас нужных показаний, у нас есть для этого достаточно мощные средства. Я хочу обойтись без них. Всякая оппозиция в нашей стране будет уничтожена раз и навсегда, тем, кто это понимает, кто будет помогать нам, мы сохраним жизнь, тех, кто будет сопротивляться, уничтожим. Я долго с вами вожусь только потому, что вошел в ваше положение. Хотите, примите мои условия, не хотите – я не ручаюсь ни за вашу жизнь, ни за судьбу вашего приемного сына.
Она подняла голову, посмотрела на Шарока. Такой ненависти Шарок никогда не видел, он даже испугался, ему даже стало не по себе. И она вдруг, подумать только, она, сволочь, стерва, плюнула ему в лицо. Это произошло в одно мгновение. Шарок отшатнулся, плевок попал ему на грудь. Ах ты рвань, падаль!
Шарок встал, носовым платком вытер гимнастерку, подошел к Звягуро, поднял ее голову, она с вызовом смотрела на него, он стукнул по этой поганой харе кулаком справа, потом слева, голова у нее моталась между ударами, как у Петрушки, уродина с выпирающими зубами, не человек даже, отвратительная обезьяна! Он бил ее справа, слева, не давая свалиться со стула. А она, стерва, молчала, ни звука, ни стона, гадина, даже глаз не закрывала, смотрела на него с ненавистью.
В конце концов она свалилась со стула… Шарок вызвал конвоиров, и они утащили ее в камеру.
С этой ночи, с допроса Звягуро, Шарок уже не боялся бить подследственных. Бил по физиономиям кулаками, бил сапогами, бил резиновой палкой. И, когда бил, приходил в еще большую ярость, но со временем научился и владеть собой. Как только арестованный сдавался, переставал его бить, возвращался за свой стол, закуривал, сидел несколько минут молча, отдыхал: бить – работа нелегкая. И возобновлял допрос. Показания записывал с обиженным видом, будто это не он бил, а его били, будто арестованный сам виноват в том, что заставил его выполнять такую неприятную работу.
Но давали нужные показания люди малозначительные, даже не второстепенные, а третьестепенные. Серьезные арестованные показаний не давали. Никаких реальных, существенных результатов Шарок добиться не сумел.
А тут на совещании у Молчанова выяснилось, что из «детонаторов», кроме Ольберга, уже и Пикель начал давать нужные показания, а Рейнгольд не дает. Три недели в руках у Чертока, чего только с ним не делали, а не дает. Теперь Вутковскому и Шароку предстояло оправдать свой запасной план с «ангелом-хранителем».
Рейнгольда вернули Шароку.
Три недели Черток, самый страшный следователь в аппарате, садист и палач, держал Рейнгольда на «конвейере» – по сорок восемь часов без сна и пищи, избивал нещадно, подписал в его присутствии ордер на арест жены и детей, но ничего добиться не смог. Однако перед Шароком предстал уже не тот Рейнгольд, что сидел перед ним на первом допросе. Его шикарный прежде костюм, теперь грязный, порванный и обтрепанный, висел на нем, как на вешалке, – за эти три недели он потерял, наверное, килограммов пятнадцать (Шарок умел это определять на глаз), зарос бородой, глаза лихорадочно блестят, как у человека, не спавшего много-много дней и столько же не евшего, подвергавшегося унижению, избиению и пыткам. И все равно Рейнгольд смотрел по-прежнему злобно и непримиримо.
Но Шарок хорошо знал: эта злоба и непримиримость обращены к тому, кто его пытал и мучил, они сосредоточены прежде всего на Чертоке. В этом и заключался смысл «комбинации» – из горячего в холодное, из холодного в горячее, как в вытрезвителе. На этой «комбинации» настояли Бутковский и Шарок, теперь на них лежала ответственность за ее успешную реализацию. И потому они тщательно все обдумали. Средство придумали сильное.
– В свое время, Исаак Исаевич, я думал найти с вами общий язык, но не нашли мы с вами общий язык не по моей вине, Исаак Исаевич, по вашей. Лучше вам было у Чертока? Не думаю. Мы его тут хорошо знаем.
Шарок говорил правду. Чертока здесь знали как садиста, негодяя и подлипалу. Шарок очень сетовал на то, что у него с Чертоком схожие фамилии – их иногда даже путали.
– Так вот, Исаак Исаевич, – продолжал Шарок, – мне выпала на долю печальная обязанность.
Он посмотрел на Рейнгольда сочувственно-отстраненно, как смотрят на человека обреченного, как смотрят на мертвого. Так он посмотрел на Рейнгольда и протянул ему постановление Особого совещания при Наркомвнуделе, приговорившего Рейнгольда И. И. к расстрелу за участие в троцкистско-зиновьевском заговоре, а членов его семьи к ссылке в Сибирь. Постановление было заверено большой круглой печатью НКВД.
Рейнгольд прочитал бумагу, положил на стол, спросил:
– Я должен это подписать?
– Конечно.
Рейнгольд пошарил глазами по столу, ища ручку. Шарок подивился его твердости, а может, это апатия, желание умереть после всего, что сделал с ним Черток? И он молча наблюдал, как Рейнгольд ищет глазами ручку и не находит.
– Я бы мог дать вам один хороший совет, но вы не слушаете моих советов, – сказал Шарок.
Рейнгольд вопросительно посмотрел на него.
Шарок воровато оглянулся на дверь – старый прием, обозначающий особую доверительность разговора.
– Напишите товарищу Ежову, настаивайте на пересмотре дела, но главное, просите отсрочить исполнение приговора. Найдите для этого мотивы: растеряны неожиданным арестом, измучены допросами у Чертока, ну и тому подобное, в общем, хотите обдумать свое положение, а для этого нужно время. Попробуйте. Я обещаю вам, что через день-два ваше прошение будет лежать на столе у товарища Ежова. И я допускаю, что товарищ Ежов распорядится пересмотреть дело. Я прикажу доставить вам в камеру бумагу, чернила, и вы к утру напишете. Согласны?
Рейнгольд молчал.
– Ну что ж, – сухо произнес Шарок, – вы и в прошлый раз не вняли моим советам и вот получили, – он показал на фальшивый приговор ОСО, – не слушаете и сейчас. Жаль, это будет стоить вам жизни.
– Хорошо, – согласился Рейнгольд, – я напишу.
На следующее утро Шарок сам отправился в камеру к Рейнгольду. Письмо на имя секретаря ЦК Ежова было готово. Письмо длинное, путаное, Рейнгольд клялся в своей верности Центральному Комитету, лично товарищу Сталину, настаивал на своей невиновности, проклинал то короткое время, когда он, еще совсем молодой коммунист, разделял взгляды оппозиции, но он давно и искренне с ней порвал, он действительно бывал на даче у Сокольникова, видел там как-то Каменева, но ни в какой преступный сговор с ним не вступал. Он умоляет пересмотреть его дело, он готов умереть, но не как враг партии, а как ее верный сын.
Шарок забрал письмо, забрал чернила и ручку, пообещал скорый ответ.
Он был доволен. Задуманный план пока выполнялся, если даже сорвется, то в этом письме Рейнгольда содержится многое такое, чего из него никак не могли выбить: осуждение своих прошлых взглядов, признание в прямой и близкой связи с Сокольниковым и знакомстве с Каменевым. А это уже само по себе давало кое-что для начала.
Ночью Шарок вызвал Рейнгольда.
Шарок излучал довольство, радость, даже ликование.
– Поздравляю вас, Исаак Исаевич, товарищ Ежов прочитал ваше письмо.
Он следил за реакцией Рейнгольда. Тот, однако, был невозмутим. Умеет держать себя в руках.
– Так вот, – продолжал Шарок, – руководство наркомата доложило ваше письмо секретарю ЦК товарищу Ежову. Товарищ Ежов согласен отдать распоряжение об отмене приговора.
Он по-прежнему не спускал глаз с Рейнгольда, но у того на лице не дрогнул ни один мускул.
– Товарищ Ежов согласен отдать распоряжение об отмене приговора, – повторил Шарок, – но при одном условии – вы должны помочь следствию разгромить троцкистско-зиновьевскую банду. В какой форме помочь – это вопрос техники, об этом мы с вами договоримся, но вы должны помочь, таково условие товарища Ежова. Примете – приговор будет отменен, отклоните – приговор будет немедленно приведен в исполнение.
Рейнгольд молчал, думал, потом неожиданно твердым, прежним своим голосом сказал:
– Хорошо. Я согласен. Но у меня тоже есть одно непременное условие: товарищ Ежов или кто-либо из членов Политбюро от имени Центрального Комитета скажет мне, что я ни в чем не виновен, но высшие интересы партии требуют от меня тех показаний, на которых вы настаиваете.
Шарок откинулся на спинку стула, с деланным изумлением посмотрел на Рейнгольда.
– Вы считаете себя вправе ставить условия Центральному Комитету партии?
– Считаю.
– А вы не боитесь, что, выдвигая встречные условия, вы тем самым фактически, по существу, отказываетесь выполнить требование Центрального Комитета?
– Не боюсь.
– Вы понимаете, на что идете? Вы хотите, чтобы ЦК с вами торговался?
– Я этого не хочу, – резко возразил Рейнгольд, – требование товарища Ежова я слышу не от товарища Ежова, а от вас. А вы не секретарь ЦК, вы следователь, и ваши слова для меня не гарантия. Можете меня расстрелять, но иначе не будет. Будет только так, как я сказал.
Шарок понимал, что Рейнгольд не уступит. Крепкий человек! Но успех есть: на некоторые условия согласен, это главное, остальное приложится.
– Я доведу вашу просьбу до сведения руководства, – сухо проговорил Шарок. – Прошлый раз вы мне не поверили – дело кончилось Чертоком, теперь опять не верите, чем кончится сейчас, не знаю. Но повторяю: вашу просьбу я доведу до сведения руководства наркомата.
С этим он отослал Рейнгольда в камеру, а сам отправился на доклад к Вутковскому.
– Ну что ж, – сказал Вутковский, – его можно понять. Но, я думаю, он удовлетворится обещанием Молчанова. К тому же они старые знакомые.
Но Рейнгольд не удовлетворился обещаниями Молчанова, хотя они и были старые знакомые, хотя Молчанов возмущался действиями Чертока, обещал его наказать. Рейнгольд упорно стоял на своем – один из высших представителей ЦК должен объявить ему, что он, Рейнгольд, ни в чем не виновен и что высшие интересы партии действительно требуют его сотрудничества со следствием в разоблачении «троцкистско-зиновьевского заговора».
Шарок был убежден, что требование Рейнгольда будет выполнено – слишком серьезной фигурой он представлялся для будущего процесса: крупный хозяйственник, старый коммунист, личный знакомый Каменева, показания такого человека в сочетании с показаниями Ольберга (курьера – посланца Троцкого) и Пикеля (секретаря Зиновьева) составили бы прочную свидетельскую основу будущего процесса.
Но Шарок ошибся. Ягода и думать не захотел об обращении к Ежову. Приказал держать Рейнгольда на положении смертника и добиваться показаний шаг за шагом, пока не согласится сотрудничать окончательно. И не медлить, через три дня он должен сдаться.
Ягода не хотел помощи Ежова, ибо такая помощь означала бы, что его аппарат самостоятельно с этим делом справиться не может. В аппарате НКВД поговаривали о скрытой борьбе между Ежовым и Ягодой, о ревности Ягоды к Ежову. Но Шарока это мало утешало: паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат.
Что имел Шарок по делу Рейнгольда? Показания Ольберга и Пикеля о том, что и он был участником заговора? Устроить им очную ставку? Но Рейнгольд запутает Ольберга. Что касается Пикеля, то они шапочно знакомы, и как поведет себя Пикель, тоже неизвестно. Когда ему устроили очную ставку с Зиновьевым, он так оробел и растерялся, что не мог и слова вымолвить. Не повторится ли такая же история и сейчас? Очная ставка остается на крайний случай. Что же еще? Письмо Ежову – это важно, признал участие в оппозиции, раскаивается, клянется в верности партии, при известных условиях готов к сотрудничеству и, конечно, боится расстрела, хотя притворяется, что не боится.
Все это Шарок обдумывал, сидя в своем кабинете над тощей папкой Рейнгольда, которую он, Шарок, обязан превратить в толстый том показаний. И это его последний шанс. Он ходит в самых отстающих – ни одного человека, ни одного признания.
Шарок сидел за столом, пытаясь сосредоточиться, и не мог сосредоточиться. Ночь была суматошная, во всех следовательских кабинетах шли допросы, шум, крики избиваемых, топот сапог, выла какая-то баба. К тому же еще закрыт ларек, у некоторых следователей кончились папиросы, они стреляли друг у друга, стреляли и у Шарока, он давал, но, когда увидел, что в пачке осталось всего шесть папирос, сообразил, что ему самому не хватит до утра, спрятал пачку в стол и каждому просящему отвечал:
– Нету, нету, сказал вам, нету!
Но на этаже решили, что Шарок жадничает, продолжали клянчить, открывали дверь… Шарок всех прогонял.
– Нету, русским языком сказал, самому нечего курить.
И, когда кто-то опять открыл дверь, он, не поднимая головы, сказал:
– Идите к… матери! У меня нет папирос!
Дверь не закрывалась. Он повернул голову и помертвел от страха: в дверях стоял маленький человек – Шарок сразу узнал его… Это был Николай Иванович Ежов.
Шарок вскочил, одернул гимнастерку.
– Товарищ секретарь Центрального Комитета, докладывает старший оперативный уполномоченный Шарок. Извините за грубость. У меня сложное дело, а товарищи все время заходят просить папиросы. Я все роздал. У меня их осталось всего шесть штук, а мне работать до утра.
Пока Шарок докладывал, Ежов вошел в комнату, за ним вошли Агранов, Молчанов и Вутковский. Ночные обходы начальство совершало часто, но Ежов появился в кабинете Шарока впервые.
Несмотря на маленький рост, он был хорошо сложен, быстрый, с суровым солдатским лицом и фиалковыми безжалостными глазами.
– Каким делом вы занимаетесь?
– Исаака Рейнгольда.
– Нужный человек, дело важное. Как оно двигается?
Шарок мгновенно оценил ситуацию. Сейчас решается его судьба, его будущее в этом учреждении. Он ожидал, что Молчанов или Вутковский вместо него доложат, как обстоят дела, не может же он через их голову докладывать о том, что Рейнгольду был предъявлен фиктивный приговор о расстреле, рекомендовано написать Ежову, а написанное Рейнгольдом письмо Ежову не передано по приказу Ягоды.
Но Молчанов и Вутковский молчали. Утаивают. И мгновенное чувство, шевельнувшееся в Шароке, когда Ежов вошел в кабинет, когда он нечаянно обругал его матерно, чувство, что сейчас, в этот час решается его судьба, это чувство укрепилось. Когда-то этот час должен был наступить.
Шарок четко, спокойно, ровным голосом доложил:
– Дело Рейнгольда продвигается очень медленно. Рейнгольд на даче у своего родственника Сокольникова познакомился с Каменевым. Мои попытки убедить Рейнгольда дать показания о связях с Каменевым не дали результата. Не дал результата и трехнедельный допрос помощника начальника оперативного отдела Чертока. Рейнгольда вернули мне. Понимая значение этого соучастника, я пошел на крайнюю меру: я предложил помочь нам в разоблачении троцкистско-зиновьевского заговора и предупредил его, что в случае отказа он будет расстрелян. Для этого мне пришлось написать и предъявить ему постановление ОСО о расстреле. Рейнгольд согласился при условии, что лично вы, товарищ секретарь Центрального Комитета, подтвердите, что его участие в разоблачении заговора соответствует высшим интересам партии. Но я не решился обратиться с этим к вам, товарищ секретарь Центрального Комитета.
Ежов не сводил с Шарока своего холодного, безжалостного взгляда. Потом перевел взгляд поочередно на Агранова, Молчанова и Вутковского. Те молчали, видимо, пораженные неожиданным и откровенным сообщением Шарока.
– Пришлите Рейнгольда сейчас ко мне, – приказал Ежов и вышел. Вслед за ним вышли Агранов, Молчанов и Вутковский.
Шарок остался один, сел, перевел дыхание.
Когда он докладывал Ежову, то никакого страха не испытывал. В тот момент у него не было иного выхода. Он только тщательно выбирал выражения, чтобы никого не подвести. Конечно, если бы Ежов начал расспрашивать о подробностях, он был бы обязан их изложить, и тогда ему, возможно, пришлось бы назвать и Вутковского, и Молчанова, а возможно, и Ягоду.
Ежов ничего не спросил, и он никого не назвал. Но сейчас там, в кабинете Ежова, у него неподалеку от кабинета Ягоды был свой кабинет, неофициальный, никто его не занимал, не входил туда, все знали, что это кабинет только для Ежова, так вот в этом кабинете Ежов расспрашивает и Молчанова, и Агранова, и они все валят, конечно, на Шарока, спасают свою шкуру… Что сделает с ним Ежов или что сделает с ним Ягода, когда Ежов уедет, неизвестно, могут отправить в камеру уже в качестве заключенного.
Дверь распахнулась, в ней возник порученец Ягоды. Это означало вызов к самому наркому.
Шарок поднялся.
Порученец шагнул в кабинет и что-то положил на стол.
– Вам от товарища Ежова.
И тут же вышел.
На столе лежала нераспечатанная коробка папирос «Герцеговина флор».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































