Текст книги "Страх"
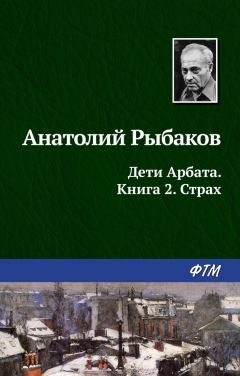
Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
2
Саша пошел на стройку. Мужики на нижнюю обвязку ставили брусья через каждые два метра, отделяя одно стойло от другого. Ставили в «шип», чтобы создать жесткую конструкцию. Работа красивая, точная. Саша поражался, как все это делается такими немудреными инструментами: топор, пила и ножовка, долото, стамески, рубанок, фуганок, скобелка; как достигается такая точность с помощью отвеса уровня-ватерпаса.
И он мог бы делать такую работу, но сегодня запоздал и его опять поставили тесать бревно для верхней обвязки.
– Проводил товаришша? – спросил Савва Лукич.
– Проводил.
– Куда его угнали-то? – поинтересовался смуглый, горбоносый, сухопарый мужик Степан Тимофеевич.
– Кто знает, – ответил Саша.
– Может, срок вышел, – сказал Савва Лукич.
– На волю, значит? – усмехнулся Степан Тимофеевич. – На волю с милиционером не отправляют.
– В Кежме мужики толкуют – убили кого-то из начальства, в газетах пишут, – сказал другой мужик, его тоже звали Степан, но не Тимофеевич, а Лукьянович, – а убил его троцкист, что против колхозов, чтобы, значит, распустить колхозы энти.
– А куды их теперича распускать, – усмехнулся Степан Тимофеевич, – чего раздавать-то? Чем наделять? Все порушили…
– Ну, ладно, – Савва Лукич опасливо посмотрел по сторонам, – ты того, не больно-то, значит.
– Чего не больно-то?!
– А то, что все, значит, от Бога, – сказал Савва Лукич, – как Господь Бог устроил, так, значит, и идет.
– Бог, Бог, все на Бога валите, – желчно ответил Степан Тимофеевич, – где она, ваша церква? Бог за тебя ничего не сделат, коровник ентот срубит тебе Бог? Коров губим, коровник рубим.
– А ты не руби, – сказал третий мужик, Евсей, как его по отчеству, Саша не знал, звали его просто Евсей, иногда прибавляли неприличную рифму.
– Куды уйдешь от ентого? – злобно ответил Степан Тимофеевич. – Вот, – он показал на Сашу, – кончат срок – уедут хоть куда. А нам, хрестьянам, никуда дороги нет. Беспашпортные мы. Держат на одном месте – не шевелься!
– Какая змея тебя донимат?! – сказал Савва Лукич. – Услышит кто, разбазланит, знаешь, чего от этого быват?
– Знаю, – угрюмо ответил Степан Тимофеевич, – оттого и погибаем, что молчим, уду съели.
– Наше дело работа, весь уповод проговорили.
Действительно, приближался полдень. И они снова принялись за работу.
Мужики хотят поговорить, но, видно, Саша им мешает – чужой человек, при чужом человеке лучше держать язык за зубами…
Через неделю-другую вызвали в Кежму Петра Кузьмича, через сельсовет приказали: явиться такого-то числа.
– Может, отпускают, а? – Он заглядывал в глаза Саше и Всеволоду Сергеевичу. – Срок-то мой еще в ноябре кончился.
– А чего же вы тут сидели, если кончился? – спросил Саша. – Напомнили бы.
– Опасно напоминать, Александр Павлович, напомнишь, а они тебе новый срок пришьют… Ведь не увезли меня, как Михаила Михайловича. И статья у меня не политическая.
– Не политическая! – усмехнулся Всеволод Сергеевич. – Экономическая контрреволюция, ничего себе статейка. Ладно, отправляйтесь в Кежму – узнаете и нам потом расскажете.
Петр Кузьмич ушел в Кежму, Всеволод Сергеевич сказал Саше:
– А ведь могут и отпустить – машина бюрократическая… Срок вышел, никаких распоряжений нет, черт его знает, посмотрим!
К вечеру вернулся Петр Кузьмич, радостный, возбужденный. Освобожден! Показал бумажку. «За отбытием срока заключения… подпадает под п. II Постановления СНК о паспортной системе». Значит, минус – не может жить в больших городах.
– А зачем мне большие города, – возбужденно говорил Петр Кузьмич, – не нужны мне большие города. Родился я и вырос в Старом Осколе, там жена, дочери, родня. Там и буду жить.
– Деньги на проезд у вас есть? – спросил Саша.
– Доберусь… До Кежмы с почтарем договорился, только вещички положит – десятка. Билет до Старого Оскола, думаю, рублей, наверно, 25–30. В общем, в полсотни уложусь. Полсотни у меня найдется.
– А пить, есть…
Петр Кузьмич махнул рукой.
– С голоду не помру. Сухарей хозяйка насушит, рыбки вяленой даст, яичек, кипяток на станциях бесплатный… Не беспокойтесь, доберусь.
На другой день с попутной колхозной подводой Петр Кузьмич уехал в Кежму. Всхлипнул, прощаясь с Сашей, со Всеволодом Сергеевичем, – стыдился своей удачи.
– Бог даст, и с вами все обойдется.
– Бог даст, Бог даст, – ласково-насмешливо повторил Всеволод Сергеевич, – живите там спокойно, лавку не заводите!
– Что вы, Всеволод Сергеевич, – старик отпрянул в испуге, – какая лавка по нынешним временам. Возьмут продавцом – спасибо!
– Идите лучше в сторожа, – сказал Всеволод Сергеевич.
– Это почему же?
– В магазине материальная ответственность, в случае чего придерутся. А в сторожах – сидите в шубе, грейтесь…
– Нет уж, Всеволод Сергеевич, как же можно? Я свое дело с детства знаю, я еще пользу могу принести.
Последние слова он произнес, уже взобравшись в сани… Возчик дернул вожжами, лошади тронулись.
– Прощайте, дай вам Бог! – крикнул Петр Кузьмич.
– Ничего не понял человек, – мрачно произнес Всеволод Сергеевич.
Освобождение Петра Кузьмича немного приподняло настроение. К тому же вскоре пришло известие: в деревне Заимка освобожден ввиду окончания срока отец Василий. Значит, не всеобщая акция, а частичная, не всех чохом, а с разбором.
Однако еще через неделю к коровнику прибежала девчонка и, став против Саши, сказала:
– Севолод Сергеич тебя кличут.
Девчонка эта была дочерью хозяйки Всеволода Сергеевича. Саша сразу понял: Всеволода Сергеевича отправляют.
Саша застал его бодрым, деятельным, собирающим вещи. Раньше он томился в неизвестности, в ожидании, теперь все решилось – опять дорога; теперь он твердо знал, что его ждет; для того, что его ждет, нужны силы, нужно быть готовым ко всему.
– Вам приказано явиться? – спросил Саша.
– За мной приедут из Кежмы. А в Кежме, видимо, последний этап на Красноярск. Вы в него не попали – это вселяет надежду. Впрочем, этапов еще будет много, Саша, так что будьте готовы ко всему… Это вам, – Всеволод Сергеевич указал на пачку книг, – вы не большой любитель философии, но тут есть интересные книжонки, а мне их тащить с собой… Да и все равно отберут… Вас отправят – оставьте кому-нибудь, в крайнем случае бросьте.
– Спасибо, – сказал Саша, – чего вам не хватает для дороги?
– Вроде все есть.
– Ничего у вас нет, – сказал Саша, – белья теплого нет?
– Я к теплому не привык, хожу в обычном. Да и зима кончается.
– У меня фланелевое есть – две пары. Носки шерстяные, лишний свитер, возьмите.
– Саша, ничего не надо… Уголовные все отберут.
– До Красноярска не отберут… Перчатки я ваши видел, в них по Невскому разгуливать.
– Нет, перчатки мои еще хороши…
– Я вам дам верхонки, хорошие лосиные рукавицы, натяните на свои перстянки – тепло будет. Обувь?
– Обувь у меня прекрасная, видите, валенки подшитые. Хватит, Саша… Все есть. Денег нет. Но теперь государство берет меня на свое иждивение.
– Откуда вы знаете, что за вами приедут?
– Знаю, – коротко ответил Всеволод Сергеевич.
Вещей у Всеволода Сергеевича оказалось немного – один туго набитый заплечный мешок.
– Вот и собрал.
Всеволод Сергеевич присел на лавку.
– Что я вам хочу сказать, Саша, на прощание. Мне грустно расставаться с вами, я полюбил вас. Хотя, как теперь говорят, мы с вами по разные стороны баррикады, но я вас уважаю. Уважаю не за то, что вы не отступились от своей веры – таких, как вы, еще много. Но ваша вера не похожа на веру других – в ней нет классовой, партийной ограниченности. Вы, сами не сознавая, выводите свою веру оттуда, откуда выходят все истинные идеалы человеческие. И это я в вас ценю. Но я старше, опытнее вас. Не превращайтесь в идеалиста. Иначе жизнь уничтожит вас или, это еще страшнее, сломает вас, а тогда… Простите меня за прямоту: идеалисты иногда превращаются в святых, но чаще – в тиранов и охранителей тиранства… Сколько зла на земле прикрывается высокими идеалами, сколько низменных поступков ими оправдывается. Вы не обижаетесь на меня?
Саша усмехнулся.
– Что вы, Всеволод Сергеевич! Разве можно обижаться? Скажу только одно: я не идеалист в вашем понимании. Я идеалист в моем понимании: нет ничего на свете дороже и святее человеческой жизни и человеческого достоинства. И тот, кто покушается на человеческую жизнь, тот преступник, кто унижает человека в человеке, тот тоже преступник.
– Но преступников надо судить, – заметил Всеволод Сергеевич.
– Да, надо судить.
– Вот уже слабинка в ваших рассуждениях. А судьи кто?
– Не будем входить в дебри вопроса. Я повторяю: самое ценное на земле – человеческая жизнь и человеческое достоинство. Если этот принцип будет признан главным, основополагающим идеалом, то со временем люди выработают ответ и на частные вопросы.
Всеволод Сергеевич прислушался. У дома раздался скрип саней.
– Так, это за мной.
– Задержите их, я сейчас вернусь, – сказал Саша.
Он выскочил из дома, у крыльца стояла кошевка, в ней возчик и милиционер.
Саша прибежал домой, схватил пару фланелевого белья, свитер, верхонки, вернулся к Всеволоду Сергеевичу.
– Ну зачем вы все это? – поморщился Всеволод Сергеевич. – Смотрите, «сидор» мой набит.
– Ничего, втиснем, открывайте!
Они сложили все в мешок.
– Да, – сказал Всеволод Сергеевич, – вот адрес Ольги Степановны, город Калинин. Я письмо написал, надеюсь послать из Красноярска. Но там, может быть, привезут прямо в тюрьму. Поэтому напишите вы ей – из двух писем одно дойдет наверняка.
Саша положил бумажку с адресом в карман.
Милиционер и возчик кончили пить чай, вышли на улицу.
Всеволод Сергеевич оделся, взял мешок, опустил его на пол.
– Ну что же, попрощаемся, Саша.
Они обнялись, расцеловались.
Всеволод Сергеевич зашел на кухню, попрощался с хозяевами и вышел на улицу, положил мешок в сани.
В дверях стояла девчонка, дочь хозяйки, в накинутой на плечи шубейке.
– Ну, еще раз!
Всеволод Сергеевич и Саша расцеловались.
Всеволод Сергеевич сел в сани, укрыл ноги полостью, весело проговорил:
– Тронули, что ли!
Сани заскрипели…
Саша стоял, смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом.
И девочка стояла в дверях, смотрела.
Ссыльных в Мозгове осталось только двое: Саша и Лидия Григорьевна Звягуро.
3
А на Арбате жизнь продолжалась по-прежнему, будто не было ссылок, тюрем, лагерей, не было заключенных.
Знакомые заключенных, знакомые этих знакомых жили, как и жили. О них, о рядовых тружениках, об их славных делах писали в газетах, сообщали по радио, говорили на собраниях.
О таких, как Саша Панкратов, тоже писали в газетах, сообщали по радио и говорили на собраниях, но как о врагах, которых надо уничтожить. И тех, кто им сочувствует, тоже надо уничтожить.
Так как никто не хотел быть уничтоженным, то никто не выражал сомнения в том, что надо уничтожать людей, суда над которыми не было и о вине которых узнавали из коротких газетных сообщений.
Безопаснее было вообще о них не говорить. Лучше говорить о другом. Например, об отважных полярных летчиках, вывозивших в прошлом году со льдин Ледовитого океана экипаж потерпевшего кораблекрушение парохода «Челюскин». А если и приходила кому-нибудь в голову мысль, что спасение из тюрем невинных людей не менее важно, чем спасение «челюскинцев», то вслух эту мысль не высказывали.
Юрий Денисович Шарок носил теперь шпалу – старший оперуполномоченный – и подчинялся непосредственно начальнику первого отделения Александру Федоровичу Вутковскому и его заместителю Штейну.
Вутковский и Штейн ценили Шарока: серьезный, добросовестный, исполнительный работник. И перспективный. Перспективным считался здесь тот, кто мог не только «расколоть» подследственного, не только заставить его признать собственную вину, но, что главное, вывести его на связи, создать не единичное, а групповое дело. Члены группы, в свою очередь, выведут следствие на новые связи. Таким образом, создается задел, обеспечивающий непрерывное функционирование карательных органов.
Шарок это усвоил хорошо, усвоил и много других истин, в частности ту, что не надо цепляться ни за чей хвост. Березин к нему благоволил, но Шарок держался на расстоянии. И правильно. Березин загремел на Дальний Восток. И работников его рассовали кого куда. Так что ходишь по острию ножа. Сохраниться здесь можно только величайшей осторожностью. Тем более отделение их самое актуальное. Во втором отделении – меньшевики, бундовцы, анархисты, в третьем – всякие национальные движения – мусаватисты, дашнаки и тому подобное, в четвертом – эсеры, в пятом – церковники. Тихие отделения, какие теперь меньшевики и эсеры… Шарок с удовольствием бы туда перешел. Как-то ему представилась возможность перейти на церковные дела, но он после некоторого колебания отказался. Не хотел связываться с Господом Богом. Шарок не верил в Бога. Но к богомольности матери относился терпимо – ее дело. Да и черт его знает! Верят же в Бога образованные люди, академик Павлов, например. Ученый с мировым именем, а завел церковь в Колтушах, бьет поклоны. Правительство между тем его ласкает, сам товарищ Сталин относится с уважением.
Бог не Бог, а что-то необъяснимое существует. Судьба, что ли… Как он горевал тогда, в октябре 1934 года: из-за дерьмового аппендицита не поехал в Ленинград, к Запорожцу. А поехал бы – трубить ему сейчас в лагере.
* * *
Юра тогда вернулся с работы, как обычно, под утро, и часов в семь, наверно, его скрутило. Боли были непереносимые, тело будто разламывало пополам, ни вздохнуть, ни выдохнуть, на правый бок ложился, на левый, подтягивал ноги к груди, ничего не помогало, не мог сдержать стона.
Мать металась по комнате: «Может, грелку поставить?» Слава Богу, отец еще не ушел на работу, догадался, в чем дело, не разрешил ставить грелку, сказал: «Будем вызывать карету «скорой помощи». Юра отказывался: карета «скорой помощи» наверняка увезет его в больницу, а ему вечером «Красной стрелой» ехать в Ленинград к Запорожцу, из больницы могут не отпустить, и накроется поездка, пропадет Ленинград, опять ему ходить под Дьяковым.
– Давай телефон, – настаивал отец.
– Не надо звонить, сейчас пройдет.
– Не дашь свою «скорую», вызову городскую.
Юра попытался сесть на постели, застонал, повалился на подушку, нет, терпеть невозможно, «скорая» хоть укол сделает, и боль пройдет. Он показал, откуда достать записную книжку. Через полчаса пришла машина, Юру вынесли на носилках, весь дом глядел, весь подъезд переполошился. Привезли на Варсонофьевский, в больницу НКВД, сразу положили на стол, прооперировали. Сказали, шов снимут дней через десять. Все! Накрылся Ленинград! Как горевал тогда, как горевал, а выходит, аппендицит спас его. Вот и не верь после этого в судьбу.
– Ваше счастье, вовремя привезли, а еще часа два-три, и был бы перитонит, – сказал профессор Цитронблат, делавший ему операцию. Лучший хирург, и что интересно: с протезом вместо ноги.
Но, как оказалось, не только в том было счастье, что от перитонита спасли, главное – не поехал в Ленинград.
Дня через два после операции принесли ему пакет с фруктами – апельсины, мандарины, яблоки – и записку: «Юрочка, как ты себя чувствуешь? Что тебе надо, напиши. Лена».
Юра опустил записку. Лена пришла! Пришла все-таки! Уставший, измученный болью, он расчувствовался, даже в горле запершило. Значит, любит его, если все простила, не ревнует больше.
Правда, мелькнула и неприятная мысль: а может, это их интеллигентские штучки?.. Что бы ни было в прошлом, надо в трудную минуту прийти на помощь, проявить внимание, сочувствие. Так принято у приличных людей, ведь они приличные люди… Никто к нему не пришел, а она пришла. Только Вутковский Александр Федорович звонил, справлялся о здоровье, но он начальник, ему положено проявлять заботу о подчиненных. Ну и мать, конечно, приходила. Принесла какую-то бестолковщину, пироги, дура, испекла, хоть бы у врача спросила, что можно, чего нельзя. А ему тут ничего и не нужно, кормят хорошо, центральная больница НКВД все-таки… А Лена по-интеллигентному: мандарины, апельсины – не еда, не пироги с гречневой кашей, а знак внимания.
И все же не из приличия она явилась! Не может забыть его. Такие, как она, не забывают. И таких, как он, тоже не забывают. Не хлюпик. Мужчина!
– Пишите ответ, – сказала сестра.
– Трудно писать… Пусть зайдет на пару минут.
– В палату нельзя. Начнете ходить, выйдете в коридор, у нас тут зальчик есть для посещающих. Потерпите.
На обороте Лениной записки Юра написал:
«Леночка, спасибо за передачу. Мне ничего не надо, все есть, не беспокойся. Хочется повидаться. Через два дня мне позволят ходить, и я выйду к тебе. Приходи…»
И, подумав, дописал: «Целую».
Через два дня Юре позволили вставать, в тот же день пришла Лена.
Они сидели в небольшом холле неподалеку от Юриной палаты. У Лены на плечи был наброшен белый халат с болтающимися завязками, под халатом синий костюм, белая блузка, на ногах высокие боты, обтягивающие полные, сильные ноги. Никогда он не мог равнодушно смотреть на ее ноги, и запах ее духов волновал… Красивая, здоровая, сияющая, а он в уродливом фланелевом халате, под халатом нижнее белье, на ногах шлепанцы, небритый.
– Узнала меня, – усмехнулся Шарок, – я, наверное, похож на покойника?
– Не преувеличивай, – улыбнулась Лена, – немного бледный, это естественно в больнице. Сколько тебя здесь продержат?
– Недели две-три.
– Не горюй, я буду тебя навещать.
Хорошая все-таки баба! Чужая, но хорошая, годится! Добрая, ласковая, любит его, он это видит, опять на все готова ради него, и тем не менее есть какая-то точка отталкивания, так, что ли, это называется по-научному. Именно ее доброта, ласковость, порядочность, деликатность, все, что так приятно в ней, противопоказано ему – он не может быть с ней откровенен, не может быть таким, каков есть на самом деле.
С Викой – поблядухой – он мог бы быть откровенным, конечно, будь она не стукачкой, а женой. С ней можно было бы говорить начистоту, выложить всю подноготную без всяких там цирлих-манирлих, и поняла бы, и совет хороший дала. А с Леной нельзя. Нужно приспосабливаться к ее представлениям о морали и нравственности. А какая мораль и нравственность в его деле, в его жизни, да и существуют ли они вообще?
Какая мораль и нравственность у ее отца, уважаемого Ивана Григорьевича Будягина? Скольких людей он перестрелял, будучи председателем Губчека? Какой моралью руководствовался, отправляя людей на тот свет? Интересами пролетариата? А кто определил эти интересы? Партия? Ленин? Прекрасно. И он, Шарок, тоже руководствуется интересами пролетариата, только определяет их теперешний вождь партии – товарищ Сталин. Но объяснять все это Лене бессмысленно. О людях он должен говорить, как и она, уважительно, о преследуемых тоже, как и она, с сочувствием. Сказал однажды что-то поперек, она не возразила, но посмотрела испуганно, испортила ему настроение.
В постели баба горячая, покорная, притягивает к себе, не оторвешься. Все это так, но и поговорить ведь с кем-то надо… Какой толк из того, что она таскается к нему в больницу каждый день?
Ему бы выложить ей все, что его волнует, погоревали бы вместе, что сорвался Ленинград, прикинули бы, кто из ребят мог попасть на его место в команду Запорожца. А вместо этого они болтают о какой-то чепухе, говорит он не то, что думает, все время настороже, как бы не сказать не то слово, как бы не увидеть ее испуганные глаза, это тяготило Шарока. Но и порывать не хотелось…
Шарок выписался из больницы, и их встречи снова возобновились от случая к случаю.
Юра работал по ночам, Лена работала днем. Да и встречаться было негде: квартира дьяковской Ревекки отпала, хватит с него того провала с Викой. Пару раз они съездили на дачу к Лене в Серебряный Бор, дача зимой отапливалась, но по выходным кто-то приезжал и на каникулах жил Владлен, катался на лыжах.
Как-то Юра позвонил ей вечером с работы. Она обрадовалась, спросила, как дела.
– Устал как собака, возился тут с одним сукиным сыном.
Она, конечно, тут же замолчала. Чистоплюйка. Принцесса. Не то сказал, видите ли, не для их нервов такие слова. Он измотан, как мочалка, не может же он взвешивать каждую фразу.
– Ладно, не думай о наших заботах. Расскажи о своих.
– У меня ничего, все по-прежнему.
– Я тебе просто так позвонил, – сказал Шарок, – давно не слышал твой голос. Как майские проведем?
– А сколько ты будешь свободен?
– Два дня.
– И я два дня. Давай поедем куда-нибудь.
– Куда?
– Придумаем… У нас три недели впереди.
– Добро, – сказал Шарок, – давай думать.
Это были два упоительных дня. Специально поданный автобус привез их в подмосковный закрытый санаторий для научных работников.
– Как достала путевки? – спросил Юра.
Лена ответила уклончиво:
– Какая разница.
Но когда предъявляла талоны администратору, Юра увидел, что выписаны они на фамилию Будягина. Понятно, папаша расстарался для доченьки.
Дом шикарный, но ни одного знакомого лица вокруг, а Лена здоровалась со многими. Назвала Юре несколько фамилий – ученые, есть среди них и академики, приехали с женами и детьми провести два дня первомайских праздников.
Им дали небольшую комнату, окна выходили в березовую рощу. Ветки на деревьях еще голые, но уже были как бы окутаны еле заметным светло-зеленым облачком, значит, листья вот-вот проклюнутся из почек.
– Только весной у берез бывают такие белые стволы, – Лена посмотрела на Юру, – ты не замечал?
Нет, он не замечал.
– Я уже и не помню, когда последний раз был за городом.
Из-под прошлогодних листьев высовывалась молодая травка, дни стояли прекрасные, солнечные, теплые, но лес еще не просох, под ногами хлюпала вода, тропинки влажные. Все ходили без пальто, женщины закатывали рукава на платьях, холеные, породистые бабы.
Играли в волейбол, в крокет, Шарок крокет видел впервые, старомодная игра, смешно было смотреть, как солидные академики и их дамы спорят и ссорятся из-за каких-то непонятных Юре правил: дотронулся до шара – не дотронулся, прошел ворота – не прошел. И те, кто наблюдал за игрой, тоже вмешивались в эти споры, игравшие вежливо, но твердо и даже язвительно просили не мешать им.
В общем, на крокетной площадке было довольно забавно. Юра смотрел, как играла Лена, улыбался ей, когда они встречались глазами. На вид такая далекая от спорта, большая, медлительная, она, как убедился Юра в Серебряном Бору, прекрасно плавала, здесь хорошо играла в крокет и в волейбол хорошо играла. Молодец, спортивная баба, оказывается. Веселая, глаза блестят, была внимательна к Юре.
Они уезжали на второй день к вечеру. После обеда прилегли… И, когда наступила пора вставать, она, лежа на его руке, спросила:
– Хорошо было здесь, правда?
– Да, подходяще, – в полудреме ответил он.
– А ведь мы с тобой расстаемся, Юра, – сказала она спокойно. И, как показалось Юре, даже улыбнулась.
До него не сразу дошел смысл ее слов.
– Не понимаю.
– Я говорю, что мы с тобой расстаемся, Юра, и на этот раз навсегда.
– Почему вдруг?
– Это не вдруг. Это я решила не сегодня. Но я хотела с тобой расстаться хорошо, даже счастливо.
– Поэтому и привезла сюда?
– Поэтому и привезла.
– Ну что ж, красиво, элегантно, по высшему классу. Королева, так сказать, отстраняет своего фаворита. И все же хотелось бы знать причину.
– Причину? – Она откинулась, легла на спину, заложила руки за голову. – Стоит ли называть причину… Мы с тобой не дети уже, не юные влюбленные. Такие встречи по телефонному вызову не для нас… Не думай, это я не к тому, чтобы мы поженились.
– А почему?.. Может быть, я хочу жениться на тебе.
Она засмеялась.
– Может быть, ты хочешь. А я, может быть, не хочу.
Да он и не собирался жениться на ней. Смешно говорить об этом. Но самолюбие его было задето.
– Чем же я не подхожу тебе, интересно?
– Ты мне подходишь, и я тебе вроде бы подхожу. Но это здесь, на этой или какой-нибудь другой постели. Но постель – это еще не вся жизнь.
– Ты что, опять заревновала к Вике?
– А откуда ты знаешь, что я ревновала к Вике, я тебе на этот счет ничего не говорила.
– Ты не говорила, а я знаю, мне все положено знать. – Эту фразу Шарок любил вставлять к месту и не к месту.
– Ну так вот: и я знаю. Знаю, зачем и в качестве кого Вика приходила на ту квартиру.
Теперь он приподнялся на локте. Что-то тут неясно, попахивает неприятным. Она знает, что Вика была осведомительницей. Откуда знает? Не призналась ли сама Вика? Тогда у него прокол.
– В качестве кого же она ко мне приходила?
– Я не желаю обсуждать эту тему.
Он услышал в ее голосе металлическую будягинскую твердость.
– Мне эта тема не интересна. И от меня это никуда дальше не пойдет. Так что не беспокойся: никакого вреда я тебе никогда, ни при каких обстоятельствах не причиню. Это ты прекрасно знаешь. Да, когда я увидела Вику у тебя, я возмутилась и порвала наши отношения. Но потом поняла, что была не права. Так что тот случай не имеет сейчас никакого значения. Почему мы расстаемся? Не хотела говорить, но, если ты настаиваешь, скажу: я опять беременна, Юра. Я жду ребенка. И, как ты, вероятно, догадываешься, больше никакой горчицы не будет. У меня родится сын или дочь. Я тебя ни к чему не принуждаю. И алиментов с тебя не потребую, и отцом тебя не запишу – я знаю, ты этого не хочешь.
Ничего себе новости! Даже не так поразило само это известие, как ее спокойный, властный голос.
– Почему, собственно говоря?.. – начал Шарок.
Но она перебила его:
– Не возражай! То, о чем мы говорим, не повод для словоблудия.
Она не повысила голос, но в нем опять слышалась их, будягинская, категоричность.
– Этот брак не нужен нам обоим, зачем же притворяться?
Шарок встал, подошел к окну, раздвинул шторы, долго стоял так.
Правильно все. Он ей не нужен, и она ему не нужна. Войти в чужую семью, вечно жить с внутренним напряжением, обдумывать каждую фразу – это исключено.
Но его поразило, когда Лена повторила почти слово в слово то, о чем он думал, стоя у окна. Видимо, он все-таки недооценивал ее.
– Мы чужие люди, Юра, у нас разные взгляды, разные ценности, мы с трудом понимаем друг друга. Я вижу, как ты приспосабливаешься ко мне, говоришь не то, что думаешь. Это обременительно.
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду твой рассказ о Саше, будто благодаря твоим стараниям ему дали всего три года ссылки, а не лагерь и будто тебе чем-то грозил его арест. Чепуха! Просто мне всегда хотелось хорошо о тебе думать и я убеждала себя, что все так и есть.
Шарок молчал.
– И с Викой. Уж очень нечистоплотно было все мешать в одну кучу.
Он сел рядом с Леной на постели, взял ее за руку, улыбнулся.
– Зачем же ты тогда пришла ко мне в больницу?
– Очень одиноко лежать в больнице, когда никто к тебе не приходит.
– Значит, пожалела. А я-то надеялся, ты меня любишь.
– Я? – Она задумалась. – Не знаю. Вряд ли… Но я хочу, чтобы мы расстались по-дружески, именно в такой светлый, майский, праздничный день, чтобы именно таким он нам запомнился.
Заговорив о больнице, он дал ей повод показать свое интеллигентское превосходство: он не пришел к ней в больницу, хотя она умирала тогда, умирала по его вине, а она пришла к нему, оказалась лучше, выше его. И сейчас, беременная, она опять все берет на себя, освобождает его от забот, от ответственности, от алиментов. Небось все обговорили уже в семейке-то, небось сам Иван Григорьевич сказал: «Обойдемся без твоего подлеца, рожай!» Опять показывают, что они аристократы, а он плебей.
– Мы очень хорошо провели эти дни, – сказал Юра, – не будем портить их выяснением отношений. Я понимаю: ты маленько накачала себя, не будем продолжать разговор. Уедем, ты подуспокоишься, и мы вернемся к нему.
Она покачала головой:
– Мы никогда не вернемся к этому разговору. Мы больше никогда с тобой не встретимся, Юра, все кончено.
Она взяла со столика часы, встала, начала одеваться.
– Сегодня будут два автобуса: в семь и в восемь. Я записала нас на семь. Для тех, кто уезжает в семь, ужин будет на полчаса раньше. Так что, Юрочка, поторопись!









































