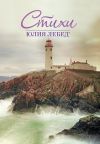Текст книги "Завтра будет вчера. Лирические стихотворения"
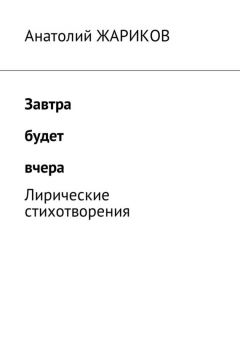
Автор книги: Анатолий Жариков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
«Так хорошо, что позабыл вопросы…»
Так хорошо, что позабыл вопросы,
извилины сплелись с лучами солнца,
а посреди двора в пыли растаял кот,
а на карнизе квохчут две голубки,
кругами муха, прямо ласточка – летят,
дитя под бантиком обводит письмена,
в сохранности дошедшие из мрака,
молчит хозяйка, но скулит собака,
в саду, под деревом, едва приметен тать
И древний мудрый бог зачем учил считать?
«Разулся путь, и чернозём…»
Разулся путь, и чернозём
завяз в зубах корней и листьев,
сад в доску пьян, в сучок расхристан
и ворон вечен, мокр и чёрн.
Мужик выходит на поля,
ржаное семя в землю тычет.
Тысячелетия земля
темней Евангелия притчей.
«Мир полнится, течёт, растёт…»
Мир полнится, течёт, растёт,
ломает неба край.
Тому – свечу, тому – свисток,
бог не умеет брать.
«Из, может, разных тем…»
Из, может, разных тем
и всяких историй
и строится жизнь меж тем,
что было и будет вскоре.
Живёшь, не помнишь, зачем
жил? Рассказывай дальше.
Из горла быстрее кровь, чем
из порезанного пальца.
«Теченье в жизнь, синодик без начала…»
Теченье в жизнь, синодик без начала,
соседа недостроенный гараж,
наездница-судьба, лошадка чалая,
ваш духовник, банальный антураж.
Потом назад по этому ж набору
сосудосмыслов, точек бытия,
добавив только слово на заборе,
но напишу которое не я.
«Мы прощаемся, значит прощаем…»
Мы прощаемся, значит прощаем,
забыты обиды и слёзы,
всё улыбкой рассеяно,
как сонливость утренним чаем,
в наших тонких телах
зажгут фейерверки стрекозы,
в наших мыслях поселится
некий философ с бассейном.
Знаменитый художник
пишет уже Галатею,
и Пракситель ладонью
расправляет пушистое лоно.
Продолжается мир —
это просто заданье на тему
озабоченного Пигмалиона.
Ты прощаешь себя,
ты надеешься снова на встречу,
разве кто-то другой
будет ждать тебя в лунной тоске?
Узнаёшь в ней себя? Отраженье
вне всяческих схем…
Снегом землю застелет,
ветер подует на свечи.
Марина Цветаева. Проявление
Жизнь, смерть, поэзия, любовь —
так быстро проговорено устами,
что горло вскрыла, расплескала кровь,
слегка соприкоснувшись словом с нами.
«В халатах белых – ангелы…»
В халатах белых – ангелы,
со скальпелем Господь,
остатки сна на жёлтом потолке,
за рамой тема Вагнера,
ладонь подушкой под
и лампочка висит на волоске.
Экспресс, пустые станции,
висячие сады
и облака из ваты и слюды,
не выдохнуть и не вдохнуть, пока
слова не отпадут от языка
и покорят сознание пространства.
***
Матернулся бог, упала молния,
тушь стекла с вороньего пера.
Вычислили, вычистили, вспомнили…
Без вещей и сухарей. Пора…
«Любовь твоя не остыла…»
Любовь твоя не остыла,
ты помни блудного сына.
Горячий свинец в затылок,
холодное лезвие в спину.
Свободна от слёз зона,
сестра твоего закона.
Стена из колючек, охрана.
Одна на двоих рана.
Холодный беззубый ветер
дорогу к тебе не вытер.
«– Из нас кому, душа, печальнее на свете?..»
– Из нас кому, душа, печальнее на свете?
– Мне, я не знаю смерти.
«Стоя спит часовой под стеной Кремля…»
Стоя спит часовой под стеной Кремля,
спит земля, приняв сто снегов на грудь,
мы под красной звездой родились не зря,
даже если сгораем под ней как-нибудь.
Ковчег революции качает вождя,
ему снится Арманд и партийный съезд,
потолок не течёт, не достать дождям,
бог не видит, эсер не съест.
Сделал дырку в истории в 70 лет,
и в неё холодные ветры гудят.
Спрячет снег у стены человека след.
В колыбели вождь, часовой на посту – спят.
«Какой-то злой и умный бог…»
Какой-то злой и умный бог
дал разум нам и сердце птичье,
чтоб нашу мерзость от величия
сам дьявол отличить не мог.
«Саврасов пишет в сотый раз грачей…»
Саврасов пишет в сотый раз грачей,
берёзы, подмосковные церквушки,
у золушек уже в слезах подушки,
и ворон гвоздь забил на Ильиче.
На даче дачник начертал черту,
коммунбригады убирают мусор.
Ручей играет молодого Мусоргского.
Зима растаяла, что твой язык во рту.
Весна. В груди хрипит аккордеон.
Саврасов пишет в сотый раз ворон.
«Крутая туча над испугом дня…»
Крутая туча над испугом дня,
за мерседесом листья волочатся.
Как мало марта… Как немного счастья…
Пока мы здесь, не потеряй меня.
«Бог душу вдохнул, но выдохнул волю…»
Бог душу вдохнул, но выдохнул волю,
пасёт Авель агнцев на братовом поле,
а Каин кидает пшеницу на камни,
и чья-то рука играет веками.
Листы пожелтели, земля потемнела,
холодное небо дождями разбито.
Адам починяет разорванный невод.
И Ева рожает, как правда под пыткой.
«У подруги душа…»
У подруги душа
на понюх гашиша.
Отдышавшись едва,
я пишу в ней слова.
По окружности жизнь,
словно ласточки лёт.
Над балконом стрижи,
под балконом помёт.
А в глазах синева,
как на клумбе трава.
В тихой комнате смог,
водка, русский разлив.
Я забыл, что ты Бог,
ты забыл, что я жив.
«И всё же русский ямб неистребим…»
И всё же русский ямб неистребим,
от поздней осени рябиновая чарка,
в небесных лужах пирамиды парка
и от земли к звезде – неслышный гимн.
Горят леса, гусей тревожный крик,
в паденьи листьев пятистопный ритм,
и валит в осень свет последний лето,
как валит с ног любви глоток последний.
«Разбавляясь душой, как вином…»
Разбавляясь душой, как вином
плоть, от рук отбиваясь, взлетает,
раньше было и клёво, и мало,
а сейчас не клюёт, и давно.
В каждом омуте смысл и наука,
в каждой твари улыбка и свет.
Вы умеете радостно хрюкать
подошвой от советских штиблет?
«Разрушит мир за пять реальных дней…»
Разрушит мир за пять реальных дней,
погасит свет, нет бога кроме бога.
Всё. Больше никаких затей.
Скрутил цигарку, курит на пороге.
«Пока я пьян, пишу стихи…»
Пока я пьян, пишу стихи,
растёт крапива у порога,
двенадцать мировых стихий
латают созданное богом.
Пусть на гектарах недород,
звезда по всем дорогам светит,
с мотыгой по средине лета,
задрав штаны, Господь идёт.
«Одиноки дни поэтов…»
Одиноки дни поэтов,
кофе, водка, сигареты…
Береги их на том свете,
ангел жизни, ангел смерти.
Большая трава
Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу…
Х. Л. Борхес
«Сад, скамейка, червивое лето…»
Сад, скамейка, червивое лето,
сколько Ев и Адамов оставил быть хлорофос!
Террикон муравьёв, добровольное гетто,
шоу бабочек, гусениц форс.
Он приходит, и мелко волнуется дрожь
тёмных листьев и кровью налившихся роз,
плотный воздух прослоен и сладок
и желанием тянет от яблок.
Он живёт здесь долгие тысячи лет,
его кожа блестит, а тело змеится,
ему снится высокий и неопалимый свет
и пространство, куда не летают птицы.
«Не любить я не могу…»
Не любить я не могу,
тихий вечер, грустный случай,
я беру, и ты получишь,
ты не лжёшь, и я не лгу.
Спит бурёнка на лугу,
дятел тюкает по древу.
Ева – чудо, Ева – стерва.
Отказаться не могу.
«Погибнув на сцене, он пьёт в дешёвом кафе…»
Погибнув на сцене, он пьёт в дешёвом кафе,
цепляет вполсилы входящую женщину взглядом,
зевает, в подкорке находит наполненный ядом
бокал, звенит в голове, некто в чёрном приносит кофе.
С утра он отравлен, неловок, не волен.
Но вот уже вечер подводит весёлый итог.
Когда бы не рампа, секущая линия боли…
Он делает пробный, как будто последний, глоток.
«Кот на цепи, в избушке Баба-…»
Кот на цепи, в избушке Баба-
Яга, Кощея смерть на дне
реки, Царевна-жаба
снимает шкурку (иль исподнее),
вода живая, мёртвая вода,
где ваши кружки, дамы, господа?
Ушли в болота, сгинули, засранцы.
И спящие не хочут просыпаться.
«Чувства осени отчаянны…»
Чувства осени отчаянны,
у зимы сознанье спит,
коротает вечер с чаем
незаконно знаменит.
Поедает апельсины
далеко от отчих мест,
где суровы, долги зимы
и спокойно спит поэт.
«Я пил, разбавляя неправдой добро…»
Я пил, разбавляя неправдой добро,
я портил ей жизнь, выжигая нутро.
И вот из далёких космических дней
сказали, что я виноват перед ней,
и жёлтая чашечка звёздных Весов
упала и мне исказила лицо.
Я видел всё в свете превратном с тех пор,
я слышал обман, где вели разговор,
я чуял предательство там, где молчали,
я знал о конце, где едва начинали,
я видел в рожденье твоём, человек,
страданье длиною в твой жизненный век.
Я с богом не бился, я только писал
и пил, то с товарищами, то сам,
лукавая осень считала деньки,
как строчки редактор, как ангел грехи.
Я видел в стекле, изучая планеты, —
нет жизни и водку не пьют на том свете.
Я пил, повторялась привычная драма:
жена терпелива, а слабость упряма.
И осень ушла, засыпаны снегом
стихи и дороги и пахнет побегом
в такие пьянящие, новые дали,
где даже и боги быть не мечтали.
«Я на мгновенье замер, я замёрз…»
Я на мгновенье замер, я замёрз
в кусочке льда, в смешном желанье Гёте.
Прекрасно сумасшествие колёс,
прекрасно то, что навсегда проходит.
По городу осенний дождь проходит,
глаза отводит мокрый старый пёс,
он в нашей жизни жизни не находит.
Я на мгновенье замер и замёрз.
«Нам не больно – играют за нас…»
Нам не больно – играют за нас,
брызжет кровь, обрываются чувства,
из разбитого тазика в таз
проливается влага искусства.
Глаз не видно, кромешная тьма,
стервенеют и стулья, и ложи.
И король не сошёл бы с ума,
если б мы не хотели того же.
«Мир грязи, полный скотства и любви…»
Мир грязи, полный скотства и любви…
Я выжил. Жизнь, на смерть благослови.
«Холодный день сорит лучами света…»
Холодный день сорит лучами света,
за ветерком ленивых листьев свита,
панель чиста, как совесть президента,
с шести утра кафе уже открыто.
Мне всё едино, старому бродяге,
какой январь идёт навстречу жизни,
я пью за тихий сон моей отчизны,
и сыплет снег над Веной или Прагой.
«Воскресные дни по аллеям проходят…»
Воскресные дни по аллеям проходят,
на листьях отметки любви
июльского солнца и груди в моде
под номером семь, се ля ви.
Ошейник и жёсткая клетка на морде
и так же хозяйка грустит.
Я ей бы помог, полагая, что в моде
лишь то, что дрожит в горсти.
Живущий листок от солнца до ветра
не чувствует наших утех.
И падает в лужу твоя сигарета,
и кашель похож на смех.
«Не по себе равняем, а по истине…»
Не по себе равняем, а по истине
слова, что по Сократа лысине
равняли юноши златые кудри,
смакуй с философом нектар цикуты.
Простое – сложно, лживое – правдиво,
скучна раскрытая загадка дива,
жалка раскрытая загадка девы,
но сладок уксус мыслящего древа.
Кати, Фома, своих сомнений камень,
мы в суете своей тебя помянем.
Встаёт от сна разбитая дорога
и свет неверный, словно образ бога.
«Уходя, оглянись…»
Уходя, оглянись:
глина свежая, дождь,
равнодушная ложь…
Уходя, торопись.
«Июльский полдень облачился в тучу…»
Июльский полдень облачился в тучу,
очнулись в предвкушении дождя
дорога, дерево, компоста куча
и каменная статуя вождя.
Оставь мечтанья на шестой странице,
из городка уходят шесть дорог,
и все приходят в красную столицу,
где каждый третий – червь,
и каждый третий – бог.
Рим щит вручит, Москва слезам не верит,
так вытри их, родная, ё-моё…
Живи в селе, баюкай сиськи зверя,
который дважды в день кефир даёт.
«Мы ждём тепла, как Павел ждал еврея…»
Мы ждём тепла, как Павел ждал еврея,
мир, задыхаясь и вовсю ржавея,
не видит зла, добро не называя,
лежит истории святой у края.
Разведены мосты, разорваны дороги,
опущены на дно карманов боги,
раздавлены умы и подобрели страсти,
играет всё и камни тёмной масти.
Летят на запад, обезумев, птицы,
в разбитых зеркалах дряхлеют лица,
судимы раз, да не судимы будем,
забыли первый день, последний нас забудет.
«В разрывающей вены вселенной…»
В разрывающей вены вселенной
нет ни места, ни листопада,
мы печальны и звёзды тленны
в неизбежности скорой распада.
Согласись, это всё некстати —
выпаденье зубов и бессилье,
жил да был, не скупился, тратил,
опадай на диване, сирый.
Бьёт картечью осенний ливень,
выпей спирту, как перед атакой.
Ночью снова приснятся липы,
Пенелопа и небо Итаки.
«От белой вьюги потемнело…»
От белой вьюги потемнело,
морозы остеклили ветки,
на улице живут лишь окна
с иссиня-чёрными крестами.
«Такое сложное устройство…»
Такое сложное устройство
дано растительному праху,
а ты не поддавайся страху,
ищи в себе и в почве ройся.
Останутся пустыми норы,
сползут листки, как кожа, с древа.
И на хрена мне Пифагора,
и вам, крутая теорема?
«Уже цветёт черешня, зреет слива…»
Уже цветёт черешня, зреет слива,
в печи трещит горючий антрацит.
Пишу быстрей, живу нетерпеливей,
и родина, как мусорка, коптит.
«Кем-то выпит уже небосвод…»
Кем-то выпит уже небосвод,
три звезды, как слюда от селёдки,
пролетел над землёй самолёт,
расстрелял чувака и красотку.
И они в тихом трансе лежат,
тихо ночь свою бездну качает,
коротает поэт бездну с чаем,
и в углу её мыши шуршат.
«В одной стране бюджет, общак, чулок…»
В одной стране бюджет, общак, чулок,
с одних подмостков и попса, и Блок,
бессмертная и нищая страна
под сердце и в печёнку нам дана.
Бескрайние км и беспредел,
пахан у власти, но почти без дел,
блажен народ, как притчи про Христа.
Немного веры, счастья, маета…
«Коридоры больниц и тюрем…»
Коридоры больниц и тюрем,
светозарные щели вселенной,
мы с подругой, целуясь, курим,
дым кругами уходит в нетленку.
И земля в сумасшедшем раже
уползает в созвездье Дивана,
заявляет сосед о пропаже
двух соседей, от счастья пьяных.
Их всю ночь искает милиция
на краю пустоты синеокой,
их на звёздах наклеены лица,
в их дожди барабанят окна.
«В дерьме, как мусора…»
В дерьме, как мусора,
нам говорить не рано ль
о крепости Петра,
о страсти Иоанна?
Крутой, словно вопрос,
простой, как будто Будда,
с утра Исус Христос,
я к полночи – Иуда.
«Глаза раскосы, ноги от локтей…»
Глаза раскосы, ноги от локтей,
себе я говорю: «Иди я к ней!».
«Время пьянства и свадеб…»
Время пьянства и свадеб,
хлеборобы гуляют деревней,
в мокром рваном наряде
изнасилованные деревья.
+12 – вот всё, что осталось от лета,
борона развалила по тёмному полю губы,
блудный сын воротился со всех четырёх света,
мера нас унижает, излишество губит.
Покорми голубей, позевай на высокие ноги,
сделай бантик из петли, из ноля сделай восемь,
птицу счастья, уходят из жизни и боги…
Округли всё видавшие очи. Осень.
«Заварка пятьдесят на пятьдесят…»
Заварка пятьдесят на пятьдесят
взрывает сердце, и глаза вылазят,
мы умираем вовремя и сразу,
как только мысли нас освободят.
Возьми стакан, родная, да присядь,
сегодня праздник или воскресенье…
Всё так запутано – прощание, рожденье,
как жизнь на Марсе: пятьдесят на пятьдесят.
«Ещё не ночь и далеко до Бога…»
Ещё не ночь и далеко до Бога,
но стены бледны, дверь отворена,
ты весь раскрыт, уже в тебе она.
Ещё она не перешла порогу.
«Ни упрёка, ни волненья…»
Ни упрёка, ни волненья,
занавесьте зеркала,
слишком свечи, слишком пенье,
слишком боль твоя бела.
А на свете пахнет йодом,
пахнет глиной и дождём,
поспешим за поворотом,
слишком медленно идём.
«После игры опять же суета…»
После игры опять же суета,
сняв крылья, ангелы глушили водку, пели.
И преданный, освободившись от креста,
освободит предавшего из петли.
«Вечор, конечно помню, сыпал снег…»
Вечор, конечно помню, сыпал снег,
я наполнял хрусталь врагам на ужин,
хор голосов, как в Думе, был недружен,
скабрёзный сленг, от локтя жесты, смех.
Опали свечи, уходить пора,
воронья стая стала слишком белой,
мороз крепчал, увесисты и смелы
являла звёзды чёрная дыра.
Всё нипочём, и чувства, и слова,
скользишь по разъеложенной дорожке.
Астролог прав, седая голова,
и мы уходим с пылью понемножку.
«Душа моя снова вернётся в ночь…»
Душа моя снова вернётся в ночь,
а тело на дачу кормить помидоры,
покрасят кровью моею заборы,
за виски с ликёром сойдёт моя жёлчь,
слезами берёзы, соплями осины
польют на кордоне Украйны – России.
Останься и ты, моя лучшая речь, —
куражиться в лужах, в каналах течь.
«1…»
Я с вами во все дни до скончания века
От Матфея.
1.
Симон нёс крест, и за ним,
в ранах, под стражей суровой,
шёл, чистым небом храним,
тот, кто рождён был до слова.
В ночь опустилась гора,
зрячие стали слепы,
и загорелись грома
крестообразно в небе.
2.
Пётр ослабел, Иуда удавился,
народ запил, храм опустился в прах,
ученики рассеялись, он скрылся
в Евангелие в четырёх словах.
«Посчитай меня, официантка…»
Посчитай меня, официантка,
я – три виски и стакан вина,
ночь расшила жёлтая заплатка,
ночь, как правый глаз твой, холодна.
Расчеши меня, мой ангел сирый,
что напрасно дрыхнуть за плечом?
С клумбы я надрал цветов для милой,
отчитался заодно под Ильичом.
Отпусти меня, творец-создатель,
или мой портрет не завершён?
К разницу курирующим датам
допиши: «Он жил, но был прощён».
Александру Жданову, вослед
Трубач ушёл, погасла папироска,
смели слова в совок, в ведро, во дворик…
Один ответ на все твои вопросы —
вселенский вой, такая вот историйка.
Скулят собаки, вороны кричат,
в стекле прожилка красная всё ниже,
полпачки Винстона и чёрный чай…
Сейчас февраль твои глаза залижет.
Не торопись, возьми и взвесь
на каменной реснице Будды
и жизнь, как будто она есть,
и смерть, как будто она будет.
«Здравствуй, улица, хромые переулки…»
Здравствуй, улица, хромые переулки,
перебранки, мысли, голоса,
я ловлю тебя на каждом звуке,
и оттягиваюсь в звуке сам.
Вышколенная жёлтым кашлем,
ты живёшь, стоишь, течёшь, гребёшь,
хочешь мяса? или манной кашки?
Не дожди за здорово живёшь.
Мы читали это у Андреева:
мёртвый глаз и неподвижность рта.
Мы не падаем на дно Вселенной,
мы лениво постоянно там.
«С утра И.С. играет на органе…»
С утра И.С. играет на органе,
Адам уж пьян, а Ева пьяной
желает быть, бог на обмане
построил мир, как Мари на Хуане
свои мечты, и рушатся все планы
боевиков гвоздь вколотить в Обаму,
у президента верная охрана.
Читай стихи, пей джин, танцуй ламбаду.
«Апрель протёк, грассирует ручей…»
Апрель протёк, грассирует ручей,
май, убивайся солнцем и флагами,
с теплом появится возможность плыть ногами
у женщин от блистающих плечей.
День распалится в миллион свечей,
бока залижет лодка на приколе.
Весёлый ангел распугал грачей
и тайно курит за сортиром школьным.
«Твой проступок не тянет на смертную казнь…»
Твой проступок не тянет на смертную казнь,
отдыхай, электрический стул,
замерзает в модерне осенняя грязь,
зверь, наевшись малины, уснул.
Открывает охотник осенний сезон,
он давно по тебе не стрелял,
воет снег со всех четырёх сторон…
Ты лишь только листы окрылял.
«Лист в лицо, на плече затоскует страна…»
Лист в лицо, на плече затоскует страна,
и ноябрь, прорицатель ветров и морозов,
подметёт в переулках, навеется в снах
и не даст вам ответа на ваши вопросы.
После первых снегов вас уже не тревожат
эти рвы на ладонях, эти знаки на картах.
Это жизнь, это взгляд на сегодня всего лишь
с точки зрения мёртвых вчера или завтра.
«По барабану дождь стучит…»
По барабану дождь стучит,
по мастеру тоскует скрипка,
и сад – оркестр, поют грачи,
вороны делают улыбки.
Дождь возвращается на бис,
его в поклон вгоняет ветер,
и ручейки спешат, и дети —
как пыль, глотающие жизнь.
«День приходит-уходит…»
День приходит-уходит,
со свечами и без,
ангел тихий у входа,
злой у выхода бес.
На мозги кот наплакал,
на плечо ворон сел,
посещает палату
экзотический зверь.
Доктор в карту запишет
пару свежих стихов.
Девок тискает Ницше
и смешит стариков.
«Из рамы вынут позвоночник, тень Христа…»
Из рамы вынут позвоночник, тень Христа,
и он торчит, как святый дух над бездной,
слова об истине дурны и бесполезны,
о благородстве все – сплошная клевета.
Пишите стих о воздухе и лесе,
летающих тарелках и прогрессе
в развитии возможности мозгов.
Я поздно встал, как русскому холста
небесного, не хватит мне листа,
я повзрослел, я свят, без дураков,
я напишу три строчки лет ко ста.
«А нам иного не дано…»
А нам иного не дано,
пока над нами солнце светит
и в небе звёзды, как в кино, —
возможность жить до самой смерти.
И весь этот предсмертный шок
и ужас под плохой личиной
живёт спокойно между строк
не очень старого мужчины.
Берёт он тонкий карандаш
и пишет свет и тень, за это
его пропустит светлый страж
в кафе бессмертных после смерти.
«Писал воистину и в глину…»
Писал воистину и в глину,
писал супротив и во имя.
Теперь я ваш. Теперь пускай текут
мои слова из ваших глаз и ух.
«Оставил долг, чтоб вспоминали…»
Оставил долг, чтоб вспоминали,
заснул под деревом в саду.
«Не ждите…» – стих не дописали
немые пальцы. Подрастут
посаженные им деревья,
сгниёт разбитая доска,
допишется стихотворенья
сентиментальная строка.
Reminiscentia
Идут пьяные лабухи,
друг за другом скользя,
не послать их всех на ухи?
да, наверно, нельзя.
Дым отечества горек,
ухожу в темноту,
я любил страну строек,
да, наверно, не ту.
Отпусти меня, боже,
я раскаянный весь;
жить и веровать можно,
да, наверно, не здесь.
Мимо глаз, мимо снега,
до свиданья, друзья!
Повернуть бы телегу,
да, наверно, нельзя…
«В Греческом зале…»
В Греческом зале
музыки нет,
персик дизайна —
тени и свет.
Спит Афродита,
обнажена,
тёмным накрыта
облаком сна.
Воздух наитья,
вибрирует он,
вышел Пракситель
из довремён.
Гения песня,
моря слеза,
климакс и пенсия
ей не грозят.
Копию гладит
жёлтой рукой.
В Греческом зале
вечный покой.
«Вот и птицы очистили низкое небо…»
Вот и птицы очистили низкое небо,
сад молитвами, господи, жив кое-как,
не засни на ветру, кто б ты ни был.
Дверь открыта и к вечности тянет сквозняк.
«Он полынь в полонез смерти…»
Он полынь в полонез смерти
обратил, и звенело поле.
И темнела музыка света,
и сияла музыка боли.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?