Текст книги "Homo Irrealis"
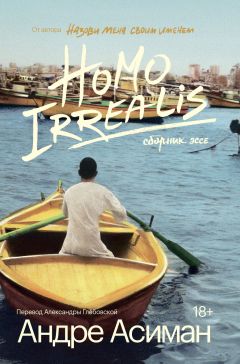
Автор книги: Андре Асиман
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Описание Рима в «Цивилизации и ее тяготах» Фрейда говорит про все это куда более красноречиво. Для Фрейда Рим – идеальная метафора человеческой души и в конечном счете человеческого опыта. Ничто не остается сокрытым навеки, все проступает на поверхность, а в итоге все вещи наполняют друг друга, наполняются и соприкасаются.
По мнению Фрейда, Рим строился слой за слоем, от древнейшего геометрического «Roma quadrata, укрепленного поселения на Палатине» до «скопища… поселений на разных холмах» и «города, обнесенного Сервиевой стеной», а еще позднее – до «города, который император Аврелий окружил своими стенами». «Многие стены стоят и поныне», – пишет Фрейд, любитель античности, но «что до зданий, занимавших эту древнюю часть, [посетитель] не увидит ни единого, разве что немногочисленные развалины, ибо их более не существует. <…> На их месте теперь руины, но руины не их, а результатов более поздних восстановлений после пожаров или разрушений».
Фрейду, видимо, очень нравилась мысль о том, что руины – это не первоначальные руины, а руины более поздних восстановлений, иными словами, результаты многих последовательных разрушений, напоминающие о многослойной Трое Шлимана, которую отстраивали раз за разом, один уровень над другим.
Однако, набросав столь выразительный портрет многослойного Рима, Фрейд внезапно меняет ракурс и предлагает еще более смелую аналогию, напоминая читателю, что «в жизни разума ничто, единожды сформированное, не исчезает». Ничто не пропадает совсем, ничто даже не распыляется. Более того, по мнению Фрейда, само понятие последовательных уровней, где уровень первый предшествует второму, а второй – третьему, недостаточно корректно, потому что одно не обязательно просто предшествует другому, ни в Риме, ни в жизни человеческой души. Вместо последовательности Фрейд предлагает очень смелую модель, говоря, что то, что некогда было настоящим, а теперь является прошлым, вполне возможно, продолжает существовать, причем не обязательно под тем, что является зримым, но рядом с самой поздней инкарнацией. «Изначальное… обычно сохраняется рядом с видоизмененным вариантом, который из него вырос».
Наречие «рядом» – это ключ к Риму Фрейда. Предок проживает не под потомком и даже не просто рядом с потомком, а – если развить эту мысль – предок превращается в потомка. Как будто бы исходная языческая запись на палимпсесте не только не исчезла или продолжила существовать одновременно с написанным поверх ее текстом; она могла даже затмить то, что появилось после. Более позднее трется о более раннее, и раннее вступает в диалог с поздним.
Фрейд понимал: более раннее не исчезает, а сосуществует с более поздним. А предположим, что «полет воображения», продолжает Фрейд, приведет к тому, что на месте палаццо Каффарелли опять будет стоять, причем без необходимости убирать оттуда палаццо (курсив мой. – А.А.), храм Юпитера Капитолийского, да еще и не только в поздней своей форме, в какой видели его римляне времен Империи, но одновременно и в ранней, когда в нем еще были этрусские элементы и его украшали этрусские антефиксы? На том месте, где теперь стоит Колизей, мы могли бы одновременно полюбоваться исчезнувшим Золотым домом Нерона. На площади Пантеона мы бы обнаружили не только сегодняшний Пантеон, завещанный нам Адрианом, но прямо на том же месте и первоначальное здание, возведенное Агриппой; более того, на том же участке могли бы находиться и церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, и древний храм, над которым ее возвели.
Но Фрейду явно не по душе этот вдохновенный, пусть и химерический полет фантазии, который в отношении Рима явно выглядит утрированным. Видение пространства, не затронутого временем, где древние постройки не просто стоят рядом с более новыми, но и как бы впаяны в них, где древнеримские памятники, камни которых давно разграблены, пристраиваются аккурат на тех же местах, что и более поздние дворцы, сложенные из этих самых разграбленных камней, – это видение сюрреалистическое, Фрейд не смог бы с ним долго уживаться. Не получится демонтировать бронзовые порталы римского Пантеона и переплавить их на строительство балдахина работы Бернини в соборе Святого Петра – и ожидать при этом, что и в Пантеоне, и в соборе останутся привычные элементы из бронзы. Фрейд не без оснований предполагает, что вся римская история представлена в каждом мгновении существования города, просто он не в состоянии (а может, отказывается) представить визуально, как два здания могут сосуществовать на одном и том же месте.
Фрейду нравилась археологическая модель, и он, наверное, согласился бы с представлением о подвижных тектонических пластах, которые постоянно выталкивают и замещают друг друга, а вот образ множественных временны´х зон, сосуществующих рядом друг с другом, превосходил его воображение. И вот тот самый человек, который велел своим пациентам исследовать самые безумные свои фантазии, от этой фантазии отрекается: «Ясно, что нет необходимости закручивать нашу фантазию далее, это ведет к невообразимым и даже абсурдным вещам. Если мы хотим представить историческую последовательность в пространстве, то можно сделать это только путем пространственного сопоставления: одно и то же пространство не может иметь два разных наполнения». Послойная аналогия сослужила свою службу, и здесь она заканчивается. «Нет необходимости закручивать ее далее», – говорит Фрейд.
И тем не менее, когда Фрейд представил Рим метафорой души, он – возможно, неосознанно – прикоснулся к вещи вполне себе непредставимой. Не только к последовательности временны´х зон – это вполне представимо, – но к крушению и в итоге стиранию зон темпоральных.
Подобно созданному фантазией Фрейда Риму, где слои временны´х зон постоянно тасуются, и душу тоже можно сравнить с суфле в процессе изготовления: желания, фантазии, опыт и память как бы внедряются друг в друга, без всякой последовательности, логики, без намека на связный нарратив. Перефразируя Джулию Чайлд, внедрение – это зигзаг, движение кулинарной лопаточки по восьмерке, в результате которого смесь поднимается вверх, потом внедряется обратно в свои нижние слои, а потом то, что внедрилось вниз, опять оказывается наверху. То, что было прошлым, становится настоящим, будущее – прошлым, а то, чего не могло быть вовсе, возвращается снова и снова.
Рим, рекультивированная свалка вечности, – этакая сборная солянка перемешанных, внедренных друг в друга грамматических времен: в основном – прошедшего, по касательной – настоящего, в больших дозах – условного и сослагательного наклонений – они образуют однородную смесь, которую лингвисты называют ирреальным наклонением, образуют неописуемую, идущую вразрез с фактами временну´ю зону, где мы, смертные, проводим бóльшую часть своей жизни в обществе несбыточного, вещей, которые не случились, но от этого не стали нереальными и еще могут случиться, хотя мы надеемся – и боимся – и что они случатся, и что этого не произойдет.
Каждое из придаточных предыдущего предложения совершенно не обязательно противоречит предыдущему или последующему или развенчивает его, скорее они дополняют друг друга и внедряются одно в другое, образуя последовательность, которую с легкостью можно назвать, как это принято в музыке, moto perpetuo разворотов на 180 градусов и движений вспять.
Ирреальное наклонение, подвешенное между «уже нет» и «еще нет», между «может быть» и «уже да» или между «никогда» и всегда», не расскажет нам свою собственную историю – оно лишено сюжета и нарратива и состоит из неуловимого гула желаний, фантазий, памяти и времени. Ирреальное наклонение не зафиксировать на письме и уж тем более в мыслях.
Тем не менее в нем мы и живем.
Проблема фрейдовской археологической аналогии заключается не в том, что автор не до конца в нее верит по причине ее причудливости: просто сама аналогия несостоятельна. Вещи движутся и во времени, и в пространстве; чтобы аналогия сработала, они должны двигаться в обеих этих плоскостях одновременно – а именно это Фрейд, который совершенно не чужд мышлению вразрез с фактами, и отвергает как фантазию. Фрейд просто не в состоянии зримо представить себе, как извечное место и вековечное время совпадают в каждой точке. Подобное мышление идет вразрез не только с фактами, но и с интуицией.
Одна из причин замешательства Фрейда перед лицом подобной конструкции может состоять в том, что он использует пространственную метафору времени, а это все равно что описывать апельсины через метафору с яблоками. Часть проблемы может состоять еще и в том, что Фрейд не способен думать о времени, не упоминая пространства, при этом попытка думать о пространстве в том же контексте автоматически отключает у него мышление о времени.
Подозреваю, однако, что проблема лежит в иной плоскости. Да, Фрейд использует археологическую метафору, однако в видении его представлены не столько раскопки, которые предполагают вертикальное движение от слоя к слою – исторически, хронологически, диахронически, – сколько нечто совсем иное.
* * *
Ирреальное наклонение изъясняется не на языке психоаналитиков-археологов, а на языке лозоходцев, которые используют явление, называемое остаточным магнетизмом. Имеется в виду, что предмет остается слегка намагниченным еще долгое время после того, как воздействие на него магнетизма прекратилось. Остаточный магнетизм – это воспоминание о том, что исчезло и само по себе не оставило следа, но при этом, подобно ампутированной конечности, продолжает заявлять о своем присутствии. Вода уже высохла, однако лоза реагирует на память земли об этой воде.
Остаточный магнетизм, в отличие от раскопок, где движение происходит вертикально, от слоя к слою, то есть последовательно, – это притяжение некой силы, которая не только остается скрытой или, так сказать, ушла в землю и продолжает погружаться в нее все глубже, а то и вовсе исчезла, прекратила свое существование или даже не существовала никогда, но – добавим еще один виток – ее воздействие, присутствие вполне может быть притяжением со стороны чего-то, что и вовсе еще не зародилось, а только пробивается на поверхность, к будущему. Два жеста – появление и исчезновение – совпадают во времени, ибо остаточный магнетизм и присутствие в конечном счете говорят нам не о времени – прошлом, настоящем или будущем, – а о сплетении всех трех. Речь идет о воде, которая либо существует, либо не существует под землей, она могла высохнуть или прямо сейчас накапливается – или происходит и то и другое одновременно.
Лозоходцев не обязательно интересует присутствие или, если уж на то пошло, отсутствие чего-то, для них важнее эхо, тень, след или, если подойти с противоположной стороны, зачаток, зарождение, временное бездействие, состояние личинки. Тень ушедшего и зародыш еще не рожденного оказываются рядом друг с другом. Говоря языком литографий, Рим одновременно и город, и снятый с него отпечаток. Это и образ, и пятна на литографическом клише через долгое время после того, как отпечатки вставили в рамы и продали: так рыбья чешуя порою блестит на разделочной доске сильно после того, как рыбу выпотрошили, приготовили и съели. Суть Рима не столько во времени, сколько в непрерывных модуляциях времени, в его непрекращающемся рефлюксе.
Находясь в Риме, отчасти что-то себе представляешь, отчасти вспоминаешь. Рим не может умереть, потому что его никогда полностью не существовало в реальности. Это тень чего-то, что почти возникло, но прекратило существовать, но не перестает пульсировать и жаждет продолжить свое бытие, хотя время его то ли еще не настало, то ли уже прошло, то ли одновременно настает и проходит. Рим – чистая фантазия. Его вроде бы нет, он не вполне реален, но и не нереален: он ирреален.
* * *
То, что пережил Фрейд, оставшись лицом к лицу с Римом, повторилось в 1904 году, когда ему наконец удалось увидеть афинский Акрополь. Он испытал не разочарование и даже не сногсшибательное ощущение, называемое «синдромом Стендаля», когда человек лишается чувств перед великим произведением искусства. Вместо этого он ощутил некую пресыщенность, доходящую до онемения, распада, чувства отстранения. Джеймс Стрейчи переводит немецкое слово Entfremdungsgefühl как derealization, де-реализация, ощущение, говоря словами самого Фрейда, «то, что я здесь вижу, не есть реальность». То, что должно было стать источником счастья и удовлетворения, вылилось едва ли не в апатию, неверие, а в итоге – в душевный разлад. Акрополь отказался с ним разговаривать. И ничто не могло столь же громко, сколь эта неспособность осознать реальность, заявить о провале попытки получения опыта.
«Так вся эта реальность все-таки существует, как нас и учили в школе!» – думает озадаченный Фрейд, оказавшись впервые в жизни на Акрополе. Он знает: у него никогда не было оснований сомневаться в существовании Парфенона, и тем не менее он не способен постичь реальность собственного опыта – и доказать тем самым, что опыт имел место. Складывается впечатление, что тот самый разум, который не позволял себе «предаваться выдумыванию фантазий», сейчас делает в точности противоположное – он не способен предаваться ощущению реальности.
Посетить то или иное место еще не значит обрести его в опыте. Подлинный опыт – это резонанс, представление «до», представление «после», истолкование опыта, его искажение, борьба с постижением опыта опытным путем. То, что мы думаем о нашем опыте, даже когда не знаем в точности, как его осмыслить, – само по себе опыт. Опыт – это сияние, которое мы проецируем на предметы, а они сияют в ответ. Мы привозим наши фантомы в Рим, отыскиваем их там, считываем, рассчитываем с ними столкнуться – и в процессе Рим превращается в воплощение этих фантазмов, даже тех, с которыми мы так и не столкнулись.
Лучше всего запоминается то, что могло случиться, но не случилось.
* * *
Чем был Рим для Фрейда? Двойником чего-то другого? Набором неразобранных воспоминаний, желаний, страхов, фантазий, травм, блоков, подавлений, копившихся с детского до взрослого возраста, причем не просто наслоившихся друг на друга, но существовавших – вспомним очень уместное слово самого Фрейда – рядом друг с другом? Наверное, правильнее задаться вопросом о том, как Фрейду удалось придумать самую блистательную метафору в истории психологии – утверждение, что душа, как и Рим, не есть что-то одно, что и человеческая личность есть не что-то единое, но сочетание множества подвижных изменчивых преходящих частей, которые меняются местами, гримасничают, надевают и сбрасывают самые разные маски, лгут, обманывают, обкрадывают одну, дабы одарить другую, – именно поэтому мы и не знаем, кто мы, чего хотим, почему не дано нам прощение грехов, которых мы, возможно, и не совершали вовсе.
И все же: почему именно Рим? Может, Фрейд выбрал Рим в силу того, что, размышляя о вечном противостоянии детских импульсов и их подавления во взрослом возрасте, он уносился мыслями в Рим, но не только потому, что Рим виделся ему подходящей метафорой для человека, преданного душой древнему искусству и археологии, и не потому, что было в нем и в Риме нечто такое, что заставляло думать о подавлении, а потому, что сама по себе его любовь к античности и археологии была двойником пожизненной тяги к сокрытому, уклончивому, непроявленному, первобытному, неприрученному – к тому, что, по всей видимости, к поре первой юности он уже успел обуздать и, возможно, подвергнуть внутренней цензуре. Как говорит Питер Гэй, и отказ от поездок в Рим мог быть долгосрочной формой цензуры. Размышления о Риме на четырех примерно страницах «Цивилизации и ее тягот» тревожны, но не столь уж гнетущи; в них даже проглядывает удовольствие. Придумать, что Рим своего рода метафора, позабавиться с его множественными слоями, поразмыслить о слоях, наглядно показать, как снимается слой за слоем, как можно с почти хирургической точностью, с особым историографическим тщанием погрузиться в глубину вещей, – все это, видимо, представлялось относительно безопасным и в конечном счете потаенно-либидным, суррогатным удовольствием, заместителем отложенного неназванного удовольствия.
В этом смысле обращаться мыслями к Риму значило не просто говорить о подавленных импульсах; то был окольный путь осмысления того, что подавлял сам Фрейд: оно подавалось в виде фигуры речи, своего рода универсальной метафоры. Археология, а в смежном значении – и сам Рим – становилась одновременно и механизмом, и метафорой подавления. В итоге оказывается, что простейший способ закопать в землю то, что подавлено, – пройти все этапы извлечения на поверхность. И наоборот.
После 1901 года Фрейд возвращался в Рим неоднократно. И наверняка он вспоминал каждый из предыдущих визитов, когда стоял в своем номере в отеле «Эдем» с видом на город и обращался мыслями вспять – не только к тем временам, когда он не мог заставить себя приехать в Рим, но и к тем, когда он заранее обдумывал визиты, пришедшиеся на последующие годы. Будучи человеком методичным, он, скорее всего, подробно каталогизировал каждый визит в голове и, подобно Вордсворту, который вспоминает свои приезды в Ярроу, тоже пытался осмыслить Рим непосещенный, Рим посещенный, множество Римов, посещенных повторно: думал о Фрейде-мальчике в Вене, который читает про Рим, Фрейде сорока с чем-то лет, впервые туда приехавшем, потом – о Фрейде постарше, дальше – об отце Фрейде, больном Фрейде, причем каждый неизменно мечтает о том, чтобы снова и снова возвращаться в город, который стал столь отчетливым символом многих его страстей и дела всей его жизни.
Поскольку Фрейд раз за разом посещал базилику Сан-Пьетро-ин Винколи, чтобы посмотреть на статую Микеланджело, он, видимо, в какой-то момент осознал, что первостепенным, хотя и не до конца осознанным толчком к неизменной его любви к искусству, археологии и античности стал не столько Ганнибал, сколько Винкельман, отец истории искусств и археологии, которого читал и Гете и который, так и не добравшись до Греции, всю свою жизнь посвятил изучению не греческих статуй, но римских копий с греческой обнаженки. При этом Винкельмана Фрейд упоминает лишь единожды. Гадая, Ганнибал или Винкельман пробудил в нем тоску по Риму, он поспешно предлагает вымученное объяснение, из которого следует, что это был Ганнибал. Винкельмана же он даже не обсуждает. При этом из любви Винкельмана к мужскому телу возник печатный труд, равного которому нет в анналах истории искусства. Фрейд и об этом не упоминает. И даже если он и думал при этом о трудах Винкельмана, он открыл для себя статую Моисея и, думая про Моисея, знал, что по касательной думает и о самом себе. В конечном счете проще было анализировать Моисея-человека и Моисея-статую, чем анализировать самого аналитика, а кроме того, было проще и, возможно, безопаснее, а также – если воспользоваться очень красноречивыми словами самого Фрейда – менее «дерзновенно… промолчать», проанализировав еврейского героя вместо обнаженных афинян. Тем не менее по тому, как Фрейд высказывается о Леонардо, видно, что афинские обнаженные статуи не оставляли его равнодушным. Думая о Леонардо, Фрейд пишет:
Картины эти вдыхают мистицизм в тайну, в которую не решаешься проникнуть… Фигуры опять же андрогинны… это красивые мальчики, обладающие женственной нежностью и женственными формами; они не опускают глаз долу, но смотрят таинственно и торжествующе, будто знают нечто счастливое и великое, о чем надлежит молчать; знакомая изумительная улыбка заставляет нас сделать вывод, что речь идет о любовной тайне (курсив мой. – А. А.).
Аналитик нашел собственного двойника в самом городе – городе, полностью состоявшем из слоев и уровней и посему, по сути, бездонном. Фрейд грезил о том, чтобы на старости лет поселиться в Риме, и в 1912 году писал жене, что ему «естественно находиться в Риме; тут я не чувствую себя иностранцем». Здесь звучит отзвук мыслей Винкельмана, который постепенно полюбил Рим, поселился там и уже в Риме написал слова, которые Фрейд наверняка видел – если не у самого Винкельмана, то наверняка у Вальтера Патера, который говорит о Винкельмане. Слова такие: «Здесь недолго избаловаться, но Господь мне это задолжал».
В тени Фрейда
Часть 2
Фрейд бы это понял. Меня тянет в Рим, но что-то в этом городе бередит мне душу, тревожит своей нереальностью. У меня мало счастливых воспоминаний о Риме, и Рим пока что отказывается давать мне многое из того, что я у него с особой настойчивостью прошу. Вещи эти продолжают нависать над городом подобно призраку невылупившихся желаний, которые забыли умереть и остались жить без меня, вопреки мне. Каждый Рим, который мне довелось узнать, уплывал и закапывался в следующий, ни один не уходил вовсе. Есть Рим, который я увидел впервые, пятьдесят лет назад, Рим, который я покинул, Рим, на поиски которого раз за разом приезжал после, но так и не смог его отыскать, потому что Рим меня не дождался, а я упустил свой шанс. Рим, который я посещал с одним человеком, а потом с другим и не мог даже приблизительно оценить разницу, Рим, который, хотя и прошло столько лет, я так до сих пор и не посетил, Рим, от которого я никак не могу полностью отделаться, потому что, хотя там повсюду внушительная древняя каменная кладка, бóльшая его часть сокрыта под землей, не видна, уклончива, непостоянна и все еще не закончена, то есть не построена. Рим – вечная свалка, которую засыпают землей, и нет у нее каменного основания. Рим – это мое собрание слоев и уровней. Рим, на который я смотрю, открыв окно в гостиничном номере, и не могу поверить в его реальность. Рим, который постоянно призывает меня к себе, а потом вышвыривает обратно, туда, откуда я прибыл. «Я весь твой, – говорит он, – но твоим никогда не буду». Рим, от которого я отказываюсь, когда он становится слишком реальным, Рим, который я отпускаю прежде, чем он отпустит меня. Рим, в котором меня больше, чем самого Рима, потому что на самом-то деле я каждый раз приезжаю искать не Рим, а самого себя, вот только поиски не состоятся, если одновременно не искать и Рим тоже. Рим, посмотреть на который я привожу других – с условием, что мы будем смотреть мой Рим, а не их. Рим, про который мне хочется верить, что без меня он перестанет существовать. Рим, место рождения того человека, которым я когда-то мечтал стать и должен был стать, но не стал, оставил его в прошлом и пальцем не пошевельнул, чтобы вернуть его к жизни. Рим, к которому я тянусь, почти никогда не дотрагиваясь, потому что не знаю и, скорее всего, никогда не пойму, как дотянуться и дотронуться.
Во мне не осталось ни крупицы ничего римского, и тем не менее, распаковав в Риме чемодан, я знаю, что вещи находятся на своем месте, что здесь – мой центр, что Рим – мой дом. Мне еще предстоит открыть, что существует (так говорят) семь или девять способов выйти из моего жилья и, спустившись с холма Джаниколо, добраться до Трастевере, но мне пока не хочется исследовать задворки; мне нравится легкое замешательство, отсрочивающее подлинное знакомство и дающее возможность подумать, что я в некоем новом месте, где множество новых вещей и возможностей. В такие дни счастьем мне кажется еще и то, что у меня нет никаких обязательств, я могу распоряжаться своим временем как мне вздумается, мне нравится проводить вечера в ресторане «Иль-Гочетто», куда римляне, наделенные остроумием и смекалкой, приходят скоротать несколько часов, прежде чем отправиться домой ужинать. Некоторые даже успевают за рюмкой передумать – со мной такое тоже несколько раз случалось – и в результате ужинают прямо там. Мне по душе этот римский метод импровизированного ужина после того, как ты всего лишь планировал выпить бокал вина. Выпив, я иногда покупаю бутылку и отправляюсь обратно в Трастевере, в гости к друзьям. А бывают вечера, когда, если мне хочется вернуться домой, я намеренно пропускаю автобус и поднимаюсь на холм пешком.
Пересекая ночью Тибр, я люблю посмотреть на освещенный замок Сент-Анджело – бледно-охристые бастионы сияют во тьме; нравится мне и собор Святого Петра ночью. Я знаю, что рано или поздно дойду до Фонтаноне и остановлюсь полюбоваться на город, на его великолепные купола, залитые светом, – я заранее знаю, что скоро буду по ним скучать.
Жилище мое мне тоже нравится. Там есть балкон с видом на город. Если повезет, заглянут в гости несколько друзей, мы выпьем, глядя на ночной город, подобно персонажам фильма Феллини или Соррентино, – и, может, станем гадать в темноте, чего кому из нас все еще не хватает в жизни, что он хотел бы изменить, что манит его с другого берега, но вот одну вещь мы точно не хотим менять: то, что мы здесь. Перефразируя Винкельмана, жизнь мне это задолжала. Мне задолжали этот миг, этот балкон, друзей, вино, город – и задолжали уже давно.
* * *
Рим мог бы стать моим домом. Дом, говорит один недавно прочитанный мною писатель, это место, где ты впервые наделяешь мир словами. Каждый из нас по-своему маркирует свою жизнь. Порой маркеры смещаются, но есть и те, что заякорены крепко и остаются навсегда. В моем случае это не слова, это места, где я прикасался к другому телу, тосковал по другому телу, возвращался домой к родителям и потом до конца вечера и до конца жизни не мог уже изгнать это тело из головы.
Стоял вечер среды, я шел домой с долгой прогулки после уроков. Мне нравилось бродить по центру города в предвечерний час, а домой возвращаться, как раз чтобы успеть сделать уроки. Прежде чем сесть в автобус, я часто заглядывал в большой книжный магазин распродаж на пьяцца ди Сан-Сильвестро и, перебрав несколько книг, выкапывал ту, за которой пришел: толстый том Psychopathia sexualis Рихарда фон Крафт-Эбинга. В магазине было несколько изданий в твердом переплете, так что я успел придумать себе ритуал. Я брал одно из них в руки, садился к столу и погружался в предвоенную вселенную, превосходившую все, что могло породить мое воображение. Книга была предназначена для профессиональных врачей, причем (об этом я узнал через много лет) отличалась намеренной невнятностью – целые фрагменты автор написал на латыни, чтобы отвадить непосвященных читателей, не говоря уж о любопытствующих подростках с их жарким стремлением уплыть в неведомый будоражащий океан под названием «секс». Тем не менее, погрузившись во все эти арканы и подробно разобранные примеры того, что названо было инверсией и сексуальной девиантностью, я поражался буйно-порнографическим сценариям, которые пронимали меня до невыносимости именно в силу того, что выглядели совершенно приземленными, обыденными, начисто очищенными от нравственных представлений: молодой человек, которому нравилось смотреть, как его невеста и ее сестра плюют в стакан с водой, которую он потом выпивал; мужчина, которому нравилось смотреть, как по вечерам раздевается его сосед, причем мужчина этот знал, что сосед в курсе, что за ним следят; робкая девица, любившая отца и знавшая, что это недопустимая любовь; молодой человек, который подолгу задерживался в общественной бане, – я был каждым из них. Подобно человеку, читающему на последней странице журнала все двенадцать гороскопов на текущий год, я идентифицировался с каждым знаком зодиака.
После знакомства со всевозможными случаями болезни у Крафт-Эбинга приходилось садиться в 85-й автобус для долгой поездки домой, причем я знал, что, когда вернусь, мама уже поставит ужин на стол. В голове от всех этих клинических случаев появлялась легкость, и я знал, что дело кончится мигренью, что подступающая мигрень вкупе с поездкой на автобусе может спровоцировать тошноту. На автобусном вокзале был киоск, торговавший газетами и журналами, – там же продавали и открытки. Прежде чем сесть в автобус, я долго и любовно рассматривал открытки со статуями мужчин и женщин, а потом покупал одну из них, добавив для прикрытия несколько видов Рима. Первым я купил Аполлона Сауроктона. Открытка до сих пор цела.
В один из дней, выйдя из книжного магазина, я обнаружил, что 85-го автобуса дожидается целая толпа. День выдался холодный, недавно прошел дождь, и, как только автобус подъехал, мы все разом устремились ко входу, толкая и пихая друг друга, – в те дни так было принято. Меня, в свою очередь, втолкнули внутрь, причем я не понимал, что молодого человека сзади вталкивают тем же напором. Нас притиснули друг к другу, и, хотя он будто приклеился ко мне всеми частями тела, а мне было никак не пошевелиться, я почти не сомневался в том, что прижимается он ко мне явственно, хотя вроде и ненамеренно, и, когда он крепко ухватил меня за предплечья, я не стал дергаться и вырываться, лишь поддался всем телом, позволил ему растечься по чужому телу. Он мог делать со мной что угодно, а чтобы облегчить ему задачу, я откинулся назад, в какой-то момент подумав, что наверняка все это происходит в моей, не его голове, что это у меня, не у него, нечистая грешная душа. Но он, похоже, был совсем не против и, видимо, осознал, что я не против тоже, а может, он и вовсе не обращал на все это внимания – я и насчет себя был не до конца уверен, что обращаю. Что может быть естественнее в набитом автобусе дождливым вечером в Италии? Он просто из дружелюбия придерживал меня сзади за предплечья – так альпинист помогает товарищу поймать равновесие, прежде чем двинуться дальше вверх. Больше держаться было не за что, вот он и схватился за меня. Ничего такого.
Ничего подобного со мной больше не случалось за всю мою жизнь.
В конце концов, встав понадежнее, он от меня отцепился. Но потом двери закрылись, автобус закачало, и он тут же ухватился за меня снова, на сей раз за пояс, прижался еще теснее, хотя никто поблизости ничего не замечал, а я частью души подозревал даже, что он и сам ничего не замечает. Я знал одно: он меня выпустит, как только поймает равновесие и сможет дотянуться до поручня. Я даже чувствовал, что он пытается меня выпустить, да и сам сделал вид, что отодвинулся, но снова приник к нему, едва автобус остановился, – чтобы он никуда не отошел.
Часть души стыдилась того, что я позволил себе поступить с ним так, как (я об этом слышал) мужчины часто поступают с женщинами в набитом транспорте, другая же часть подозревала: он знает, чем мы с ним оба заняты, – хотя наверняка я этого и не знал. Кроме того, если я в принципе не могу его обидеть, как он может обидеть меня? При этом я опрокидывался назад и делал все, только бы он не отстранился. В конце концов ему удалось встать так, что между нами оказался еще один пассажир, и тут я сумел его как следует разглядеть. На нем были серый свитер и грубые коричневые брюки, на вид лет на семь-восемь старше меня. Еще он был меня выше, худощавый, жилистый. Потом он нашел место впереди и, хотя я не сводил с него глаз в надежде, что он оглянется, так и не оглянулся. По его понятиям, не случилось ничего: набитый автобус, люди проталкиваются друг мимо друга, того и гляди упадешь, ты вынужден хвататься за соседей – обычное дело. Он вышел еще до моста, где-то на виа Таранто. Тут мне резко стало плохо. Головная боль, прихода которой я опасался еще перед тем, как сесть в автобус, превратилась, подстегнутая выхлопами, в тошноту. Пришлось выйти раньше обычного и дальше шагать пешком.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































