Читать книгу "Духов день"
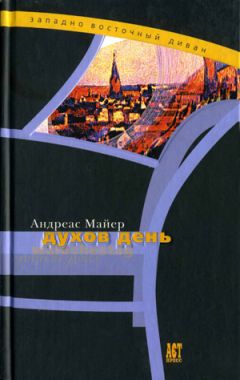
Автор книги: Андреас Майер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Mop продолжал что-то говорить дальше, а Шоссау вспомнились вдруг эпизоды, разыгрывавшиеся в оссенхаймских стенах между Адомайтом и бургомистром. Адомайт специально пересаживался за соседний стол и принимался чистить домашнюю колбасу, и пока коммунальные политики высказывали умные мысли и держали пламенные речи, Адомайт с воодушевлением слушал их И даже изображал из себя клакера. Да вы только послушайте, что они говорят, обращался он к соседнему столу. Это не всегда всем нравилось. Или: очень интересная концепция, господин председатель фракции. А когда бургомистр, заговорив о катастрофическом положении дел с вывозом отходов и мусора в их округе (один Нижний Флорштадт обходится им во столько-то десятков тысяч марок в год, что объясняется экономической слабостью и идеологической слепотой депутатов народного собрания), приходил в свойственной ему манере человека пикнического[6]6
Пикнический (гр.) – тучный; тип телосложения, характеризующийся широкой, коренастой фигурой и короткой шеей.
[Закрыть] типа в большое возбуждение, Адомайт, как правило, произносил важно, даже очень важно. Но каждый раз, когда бургомистр ввязывался в спор с Адомайтом, тот, благодаря гладкости речи и особому умению аргументировать свои доводы, через несколько минут ставил бургомистра на место, туда, где ему и надлежало быть, этому недалекому и неопытному функционеру от сохи, вознесшемуся в политики на гребне интересов крестьянских хозяйств'и частной деятельности мелких бюргеров, с которыми он частенько сидел за кружкой пива и порцией шницеля, а основы партийных интриг постигал при коллективных вылазках в Шварцвальд, Тюрингию или даже крупные города etcetera. Вы зачем здесь бургомистром, господин N, спрашивал Адомайт время от времени бургомистра N в «Охотничьем домике», когда ему хотелось позабавиться и «подстрелить» эту легкую добычу. Бургомистр N охотно шел на приманку, поскольку Адомайт никогда не разъяснял ему, какую ошибку он совершает, вступая с ним в дискуссию на тему, почему он стал бургомистром. Господин N всегда отвечал Адомайту в доступной его пониманию форме, медленно продвигаясь по тонкому льду дипломатии, быстро поскальзывался, шлепался со всего маху, проламывал его своей тяжестью и уходил с головой под воду. Первое, что он обычно говорил, было: он потому здесь бургомистром, что его на эту должность избрали. А почему, спрашивал Адомайт, его избрали на эту должность? Назвав любую из причин, бургомистр, следуя строгим правилам ведения дискуссии, тон в которой задавал Адомайт, всегда выходил в конечном итоге на формулировку, что стал бургомистром Флорштадта, потому что он самый лучший и больше других подходит на эту роль, кругом все тоже так считали, это звучало настолько глупо, что собравшиеся в оссенхаймском «Охотничьем домике» разражались обычно громким хохотом. Адомайт продолжал тем временем расспрашивать дальше: а как же быть в том случае, если вдруг выяснится, что он все же не самый лучший и не больше других подходит на эту роль, правильным ли тогда будет вступать в эту должность только потому, что все так считали, другими словами, принимали видимое за реальное, ведь это все-таки как-то не очень правильно, в некотором роде даже аморально, вы не находите, господин бургомистр, вступать в должность, наверняка зная, что ты далеко не самый лучший и не самый подходящий для этой роли, как ошибочно считали все кругом. Не лучше ли будет просветить всех окружающих, в том числе и избирателей, и открыть им глаза на правду, а, господин бургомистр? Да-да, конечно, поспешно соглашался бургомистр. В таком случае, говорил, завершая дискуссию, Адомайт, конечным и единственно правдивым обоснованием для вашего вступления в должность и остается тот факт, что вы – самый лучший, мало того, самый подходящий на эту роль, тем паче, что не вы один так считаете. Бургомистр признавал себя побежденным в споре и соглашался со всем сказанным. Я нанес вам поражение с соблюдением всех норм демократии, говорил Адомайт бургомистру, продолжая чистить за соседним столом домашнюю колбасу, я нанес поражение вашей демократии. Вы плохо ее защищаете, но, возможно, ее и нельзя защитить лучше, вашу так называемую демократию, так выпьем за ее процветание, говорил Адомайт и поднимал бокал в честь бургомистра, который нисколько не обижался на него, поскольку никогда не мог ничего понять до конца… В самой округе, сказал Мор своей дочери, Адомайта любили меньше, чем в оссенхаймском лесном кабаке. Может, Адомайт потому так часто и ходил туда, там бывали многие из тех из Оссенхайма, с кем он легко находил общий язык, поскольку они по-настоящему не знали его, да и того, как к нему относятся во Флорштадте. Он может сказать только одно, сказал Мор, закрывая чуланчик под визги дверных петель, очевидно, в случае Адомайта речь идет о малоприятном явлении, о человеке, повсюду сующем свой нос. Нам, между прочим, надо еще посмотреть, достаточно ли тут посуды для поминок. Посчитай тарелки в серванте, а я посмотрю, сколько тут в ящике ножей и вилок, а потом пойдем в комнату. И пока Моры занялись тем, что с шумом и грохотом выдвигали и задвигали ящики кухонных шкафов, Шоссау незаметно покинул квартиру Адомайта. С улицы он еще раз взглянул наверх на окна. Через каких-нибудь несколько дней там не останется ничего, что имело отношение к Адомайту. Весь мир, в котором он жил, будет уничтожен. Разорен и стерт с лица земли. Таков жизненный закон самоочищения и неотвратимость его исполнительных сил… Не смей об этом думать, Шоссау; нет, это выше твоих сил не думать об этом. Все же не надо об этом думать. Только не об этом и не в этот день, в который Господь Бог ниспослал на наши головы огненные языки. Ведь сегодня для всех Троица, и уже слышны веселые звуки праздника, они доносятся с площади от Старой пожарной каланчи, и если ты, Шоссау, спросишь меня, сказал первый Шоссау, я бы не мешкая отправился туда и пропустил кружечку пива, а то и две. Ибо день сегодня жаркий, солнце так и слепит, в воздухе очень сухо, переулок залит знойным маревом, от которого тянет какой-то вонью, что с точки зрения атмосферной чистоты находится в явном противоречии со свежими и прохладными пузырьками минеральной воды, нарисованными на брезенте фургончика Харальда Мора и сулящими освежающую, живительную бодрость прямо здесь, в раскаленном Нижнем Церковном переулке. Бенсхаймский источник – вода чудодейственной силы. И, прочитав это еще раз, он пошел к Старой пожарной каланче.
Уже с дальнего расстояния можно было определить, что на помосте нет пока капеллы музыкантов, а громкие звуки извергает магнитофон. Шоссау дошел до заасфальтированной площади и встал перед зданием старой почты под платаном. Не имея определенного умысла, он не проявил интереса к тому, что происходило вокруг, и разделил компанию с платаном. Собственно, он предполагал, что платан одарит его приятной прохладой, почти такой же, какую обещали пузырьки минеральной воды с брезента фургончика хеппенхаймерца Мора. Кора платана была сплошь изрезана судьбоносными знаками: пронзенное сердце, парочка имен, Элька и Ганс, Али и Дилек, в придачу к ним свастика, слегка кривая и, как всегда, не к месту. На площади были расставлены взятые напрокат у Долека, постоянного поставщика пива для местных массовых гуляний и празднеств, столы, покрытые белыми бумажными или пластиковыми скатертями, а к ним длинные скамейки. Слева – простая деревянная стойка с бочковым пивом в розлив и полиэтиленовые мешки, полные больших пластмассовых стаканов. Царило общее оживление. Впереди, поближе к танцевальному пятачку, сидела молодежь, те, кого старики называют обычно парни и девки, в самом центре площади обосновались почетные гости, покуривавшие короткие сигары, они уже вели счет кружочкам по числу выпитых кружек. Над площадью завис смог из запахов гриля, табачного дыма и прогорклого жира, в котором шипели сосиски, и запахи эти распространялись на сотни метров вокруг, проникая в лежащие поблизости улицы и переулки. Троицын смачный дух, типичный для флорштадтской низины. В течение всего дня и на второй день после Троицы, в Духов день, этот смог будет стоять над флорштадтской низиной густым облаком, как каждый год, и достигнет во вторник к вечеру наивысшей концентрации, когда повсюду на крошечных участках и в оссенхаймском лесочке тысячи коренных обитателей Веттерау будут заняты исключительно тем, чтобы стоять и поворачивать на раскаленных решетках сардельки и раздувать внизу угли, не забывая смачивать куски жарящегося мяса пивом etcetera. И если бы не запахи гриля, доминирующие в воздухе на Троицу, которым все они так дружно дышали, воздух был бы пропитан запахом мочи, ибо жители флорштадтской низины вливают в себя за эти три дня в садочках и лесочке такое неимоверное количество пива, можно сказать целые озера, что вся низина превращается в одну отстойную яму. Да нет, Шоссау, нет. Остановись. Твои язвительные и навязчивые мысли не так уж безоговорочно основательны и справедливы. Все, что происходит в силу неизбежности, право же, не столь… И тут на противоположной стороне площади он заметил Шустера, тот, все еще в черном, стоял, застыв на месте, и наблюдал с расстроенным лицом и явным отвращением за действом вокруг. А впереди, с самого края длинного ряда столов, недалеко от помоста и орущего динамика, перед самой молодежью, сидела Штробель, не в том рабочем халате, который она носила не снимая, а в черной шляпке на тирольский манер с пером и в черном костюме с юбкой чуть ниже колен. Она явно принарядилась: брошь на лацкане жакета, белая блузка, черный бантик. Вот так она и сидела впереди, эта пьяная Штробель, в полном одиночестве, всеми покинутая и забытая, и пила маленькими глоточками пиво, стоявшее перед ней на праздничном столе, производя почему-то жалкое впечатление. Среди молодежи он разглядел Антона Визпера, то и дело чокавшегося со своим дружком Куртом и еще кое с кем из флорштадтцев и при этом развязно хлопавшего их по плечам. Он что-то говорил, бурно жестикулировал и демонстративно курил, давая всем понять, что человек он рисковый и бывалый. Перед ним лежала географическая карта, и он что-то энергично всем объяснял. Карл Мунк тоже сидел здесь со своими дружками, постоянными посетителями кабачка «Под зеленым деревом» с центральной площади, наконец-то успокоившись, что все-таки удалось немного попраздновать. Вдруг в группе его собутыльников раздался злой и агрессивный смех. У этого человека была красная от пива и солнца голова, к тому же он яростно курил, конечно, Оверштольц. Именно на него смотрел с другого конца площади отсутствующим взглядом Шустер. А потом он тоже заметил Шоссау и, засунув руки в карманы брюк, пошел на него, пересекая поперек площадь. У Шустера был вид человека, находившегося в состоянии полного отчаяния. Пойдем, сказал он, присоединимся к ним тоже, смотри, как они радостно пьют после заупокойной мессы, и эта их попойка будет продолжаться, как и всегда на Троицу, допоздна, пока их ночь не накроет. Давай сядем под липой, с одной стороны, там есть тенек, а с другой, мы никому из них не будем мозолить глаза, это как раз местечко между молодежью и стариками, а мы как раз в серединочке и есть, Боже праведный, а сколько же нам лет-то на самом деле? Нам по тридцать, сказал Шоссау. Шустер: у меня во рту пересохло. Я не вижу особого отличия от них, особенно когда меня мучит жажда. Ты только взгляни, как они вылупились. Нас здесь явно не ждали. Например, Мунк, ты только посмотри на него. Глядит на нас осуждающе и не знает, что бы такое предпринять, нервничает по-настоящему, чувствует, что за ним сейчас наблюдают, тогда как он пришел сюда, чтобы расслабиться и выпить наконец-то в свое удовольствие пивка, в чем ему целый день мешал мертвый Адомайт. Да, Шоссау, мы ему тоже мешаем. Мы всегда ему мешали, сказал Шустер, когда они уже сидели под липой невдалеке от компании Антона Визнера и им принесли два пластмассовых стакана с пивом. Скажи-ка, спросил Шоссау, Адомайт действительно оставил завещание? Он никогда мне об этом не говорил, я имею в виду, конкретно никогда об этом речи не было. Я, видишь ли, случайно узнал, что сестра Адомайта, собственно, и приехала затем, чтобы расправиться по своему усмотрению с хозяйством Адомайта. Да, представь себе только, не успел он умереть, как его сестра уже тут как тут, ее, между прочим, зовут Жанет, а с нею прибыли и все ее родственнички. Все эти чужие и незнакомые мне люди совершенно не запомнились мне во время похорон, я, очевидно, был целиком погружен в свои собственные мысли. И вообще сегодня какой-то странный день. Здесь так много чужих. Один из этих чужаков встретился мне даже в лесу… Но о чем он его сейчас, собственно, хотел бы спросить, так это оставил Адомайт завещание или нет? Шустер: во всяком случае, какая-то бумага существует. Об этом он тоже узнал совершенно случайно. Во время отпевания он зашел в трактир «Под липой» и встретил там нотариуса Вайнётера, тот сидел и пил вино. И поскольку сегодня, к величайшему неудовольствию многих, главной темой разговоров остается одна, а именно покойник Адомайт, то и нотариус Вайнётер тоже заговорил об Адомайте.
Вайнётер говорил долго и облегчил тем самым свою душу, высказав про умершего Адомайта все, что накопилось у него внутри, собственно, так оно и бывает вдень похорон. К тому же Вайнётер не хотел принимать участия в погребении, лучше я пойду в «Липу», сказал он, чем на похороны моего доверителя. С меня хватит и одного раза увидеть всю траурную процессию в полном составе, а именно в день оглашения завещания. Чего ему, Вайнётеру, только не довелось пережить за свою жизнь, когда он читал завещание! в деревнях же это происходит особенно грубо. В крике заходятся даже из-за стоптанных башмаков умершего, один говорит, он обещал ему эту обувку, а другой клятвенно заверяет, что это чистая ложь, башмаки были обещаны ему, и притом многократно, а в итоге выясняется, что ни у кого из присутствующих нет такого размера обуви, какой был у покойного, и тогда все скопом отказываются от поношенных башмаков. Особенно усердствуют старые женщины, например те, кто унаследовал дом от своего давно умершего или погибшего на войне супруга и вообще ни в чем не нуждается, эти иногда даже прибегают к насилию, услышав текст завещания. Притаскивают один документ за другим (не имеющий никакой юридической силы), чтобы доказать, чту им должно принадлежать по праву. И зачем им все это? Они сами уже старые. Он, Вайнётер, называет это инстинктом собственника. Они иногда беседовали об этом с Адомайтом. С точки зрения эволюции это, пожалуй, объясняется животным инстинктом захвата добычи, хотя, конечно, все уже приобрело извращенные формы. Люди все время впадают в ложные представления о том, что будут жить вечно. Он, Вайнётер, придерживается мнения, что оглашение завещания должно стать для всех участников этого акта чем-то вроде memento mori[7]7
Помни о смерти (лат.)
[Закрыть] или uanitas vanitatum,[8]8
Суета сует (лат).
[Закрыть] так нет же, куда там, жизненные силы у всех участников напрягаются до крайнего предела, они максимально концентрируются в момент вскрытия завещания. И тогда мысль о том, чтобы не дать себя обделить, достигает своего апогея, особенно здесь, в деревнях, он-то, Вайнётер, ведь сам горожанин, вырос в Дармштадте. Они много и увлеченно обсуждали эту тему с Адомайтом. Вайнётер рассказал, что впервые столкнулся с Адомайтом лет пятнадцать назад. Со временем их отношения, о чем он, пожалуй, с уверенностью может сказать, переросли в тесное знакомство, назвать это дружбой он посчитал бы несколько высокопарным, так ему кажется. Иногда они вместе бывали здесь, «Под липой», сидели за бутылочкой вина, иногда прогуливались, Адомайт был страстным любителем пеших прогулок, но он, Шустер, знает это лучше него. Адомайт был такой человек, который много и обо всем думал, потому и был таким интересным собеседником, и он легко находил, между прочим, общий язык с горожанином, таким, как Вайнётер. То, что он не уехал из этих мест, не покинул Веттерау, это для него, Вайнётера, так и осталось загадкой. Но сама личность Адомайта была устроена необычайно сложно, может, он, Вайнётер, в течение оставшейся ему жизни еще и разгадает этот феномен и поймет, отчего Адомайт не хотел покидать этих мест. Он даже никогда не уезжал отсюда. Когда-то раньше, в молодости, он бывал в Англии, Италии, путешествовал на Балканах, но вдруг резко все это оборвал в пятидесятые годы и с тех пор жил только здесь, в долине Веттерау, за исключением отдельных поездок на Рейн или Мозель. Адомайту очень нравилось тамошнее вино. Да кому он это рассказывает, сказал Вайнётер, он, Шустер, знает это и без него. Вайнётер заказал себе шницель с жареным луком. Он вообще-то гурман и до сих пор всегда думал, что может без труда отличить гурмана от негурмана. А вот был ли Адомайт гурманом, сказать не может. А жизнью Адомайт наслаждался? Он не знает. С точки зрения нормального человека, его все скорее должны были считать неудачником, но несчастным он не был. И аскетом тоже нет. Ни в коей мере. Он, Вайнётер, так и не нашел еще нужного слова для верного определения Адомайта. Можно ли утверждать, что он так хорошо организовал свою жизнь, что прожил ее в высшей степени рационально? Да ни в коем случае. Он всегда воспринимал жизнь как комбинацию хаотического нарушения порядка и строгости выполнения обязательных действий, из чего она, собственно, и складывается, и был яростным противником идеологии, вообще ненавидел любую идеологию, даже так называемые жизненные правила. Хотя сам опять же соблюдал до известной степени эти самые правила. Вероятно, можно сказать, что его жизнь имела определенные внутренние рамки или, может, так: он старался не навязывать жизни свою верховную власть. Ах, все это слова, сказал Вайнётер. Впрочем, шницель здесь, «Под липой», очень хорош, имеет превосходный вкус, Адомайт тоже всегда ел его с большим удовольствием. Чаще заказывал с жареным луком, а иногда с охотничьим соусом, но только если грибы были свежие… Между прочим, то, как он внезапно сменил тему разговора, некий такой кульбит мысли, это тоже было в духе старого Адомайта. Тот всегда так делал, если считал, что разговор зашел в тупик из-за чрезмерной абстрактности суждений, а иногда он говорил ну вот, опять забрались в высокопарные дебри, и тут же перескакивал с чересчур абстрактного или чересчур высокопарного предмета разговора на что-то обыденное и самое простое. Может, это и было причиной того, что Адомайт, когда беседовал, был занят обычно чем-то житейским, к чему мог в любой момент вернуться, если хотел изменить русло беседы и перейти от абстрактного или высокопарного к зеленым стручкам фасоли, чистке обуви или поиску в книге названия найденного им во время прогулки диковинного цветка. Тот же прием использовал Вайнётер, переведя разговор на шницель с жареным луком. Видите ли, Шустер, сказал он, я по натуре аналитик. Может, именно поэтому у нас и сложились с Адомайтом такие прекрасные отношения. Это было одной из загадок, и я пытаюсь ее решить. Мне всегда было ясно, что Адомайт насколько был приверженцем хаотического образа жизни, настолько же любил и системный распорядок дня, и что наступит однажды тот благословенный момент, когда его жизнь разложат по полочкам и додумают все до мелочей, установив, что его, Адомайта, можно разгадать шаг за шагом только как цельную личность и что каждая отдельная часть этой личности становится понятной лишь благодаря другим, и все это будет вытекать не из описания его натуры, а из образа его жизни, который сам по себе был чем-то вроде произведения искусства. Или целой философской системой. Вспомните хотя бы Канта! Вот, к примеру, сидр! Знаете ли, мы неоднократно беседовали об этом с Адомайтом, два-три раза в году мы сидели здесь, «Под липой», и говорили на эту тему. Я, собственно, восторженный поклонник Канта, сказал нотариус. Я вовсе не беру на себя смелости утверждать, что понимаю Канта, но я восторгаюсь им. Когда я его читаю, вроде все понятно, это так, но понимаю ли я действительно Канта, могу ли осмыслить то, что он имел в виду в момент написания рукописи, этого я не знаю. Адомайт всегда воспринимал мое восхищение Кантом как нечто жизненно ценное. Но мне, право, не хочется говорить о себе, я просто хотел выразить одну мысль па примере Канта. Для своей системы Кант использовал определенные понятия, которые частично принадлежат ему самому, но в подавляющем большинстве заимствованы им из истории философии, и в целом его философия представляет собой ответы на всевозможные вопросы, которые возникали в процессе развития самой философии в связи с теми или иными понятиями и категориями. Так вот, иногда ему, Вайнётеру, казалось, и именно к этому он и ведет, что Адомайт точно таким же способом культивировал в себе свое великое, внушающее огромное уважение собственноручное творение, а именно самого себя, один совершенный и единый во всех своих составных частях философский труд, как у Канта, только не нашедший своего выражения в понятиях и категориях или, если сравнивать с Кантом, лишь в очень незначительной своей части все же обретший некоторые понятия, и что Адомайт в качестве основного материала для своего труда не взял какую-то терминологию и возникшую в процессе развития философского учения постановку вопросов, а просто и ясно прибегнул к опыту своего житья-бытья в Веттерау. Вопрос, как я должен здесь жить, был для него главным вопросом жизни, хотя он никогда так его не формулировал. Познай самого себя, познай мир, Кант это сделал, Адомайт тоже. Вы должны извинить меня, я немного погорячился. С этими словами Вайнётер вытащил из кармана брюк носовой платок и вытер пот со лба. Хозяин «Липы» принес тем временем шницель. Вайнётер с интересом изучал его. А потом с полным ртом: впрочем, жизнь кажется ему весьма увлекательным делом… И он никогда не испытывал столь большой ответственности за все, как это делал Адомайт. Жить на земле – это задача свыше. Возможно, и так. Он этого не знает. Он вообще ничего не знает. Как бы там ни было, сказал Вайнётер, но он лучше будет сидеть здесь, «Под липой», и есть свой шницель, чем стоять там на кладбище среди этой траурной процессии. Он еще сегодня утром сказал себе: чем отправляться на похороны, пойди в «Липу», сядь там, возьми бутылочку и выпей сам с собой чарочку, а лучше две за упокой души доброго старого Адомайта, глядишь, он еще и воскреснет. Завещание? Да, завещание он действительно сделал, так он, во всяком случае, предполагает, по крайней мере, он вручил ему какую-то бумагу, сказал Вайнётер. Он передал ему ее в закрытом стандартном конверте форматом DIN[9]9
DIN (нем. сокр.) – германские промышленные стандарты
[Закрыть] А5, но ему, Вайнётеру, содержание конверта неизвестно. Да, Адомайт на самом деле был у него еще в понедельник, уже само по себе примечательно, как мог этот человек предугадать свою смерть. Впрочем, если это могут индейцы, а они это могут, и каждое животное тоже это умеет, тогда он, собственно, не видит причины, почему этого не мог Адомайт, чего это всех так волнует. Он был, как обычно, в хорошем расположении духа, имел, правда, вид усталого человека, его мучила в понедельник аллергия на яркий свет, он все время закрывал глаза. Под конец они еще раз поговорили о доме в Нижнем Церковном переулке, имевшем на протяжении всей жизни большое значение для него. Адомайт родился в этом доме. А теперь вот и умер в нем. Он лежал на полу между горницей и прихожей, рядом с ним разбитый стакан с водой, однако черты лица были расслаблены, выражение спокойное, никаких судорог. Возможно, вода явилась причиной небольшого сердечного или сосудистого шока, приведшего к смерти, сначала к обморочному состоянию, а потом и к смерти. Врач сразу выдал свидетельство, констатировавшее естественную причину смерти. Адомайт лежал в пяти метрах от того места, где семьдесят один год назад появился на свет. Адомайт, собственно, родился в той маленькой гостевой комнатке, которая сейчас всегда стоит закрытой. О своей предстоящей кончине он, впрочем, в понедельник во время визита ни словом не обмолвился, только передал ему конверт со словами на случай моей кончины. На конверте он сделал пометку: вскрыть на второе утро после похорон, а именно в семь часов, в его, Вайнётера, нотариальной конторе. Да, в семь часов утра, это своего рода тонкая, изощренная каверза со стороны Адомайта по отношению к родственникам… он часто рассказывал, что его сестра терпеть не может вставать рано, это для нее как конец света. Вайнётер спросил его, должен ли он засвидетельствовать нотариально содержание письма, но Адомайт лишь ответил, ему это безразлично, только лишняя трата денег. Он, Вайнётер, может потом передать это письмо в суд по наследственным делам, но до того он, Адомайт, хочет, чтобы они еще раз собрались все вместе. Поэтому послание должно быть вскрыто на второй день после его смерти в семь часов утра в его, Вайнётера, конторе и прочитано вслух (Адомайт все время говорил только о послании и ни разу ни слова не произнес о завещании). А это значит, сказал Шоссау, что вся эта свора родственников Адомайта останется здесь, в Веттерау, до вторника. Да, по-видимому, так, согласился Шустер и принялся в полной задумчивости пить пиво. Следовательно, сегодня вечером они оккупируют после поминок «Липу» и «Зеленое дерево», все эти сестры и племянницы с племянниками, и один бог знает, кто там еще среди них есть, и будут выжидать до самого Духова дня. Ты приглашен на поминки? Шоссау: нет, конечно нет. Ему никто ничего не говорил. А ты? Шустер: этого он не знает, не имеет ни малейшего представления. Их никто не хочет видеть, да он, впрочем, и не пойдет туда. Он уже со всем этим покончил. Сколько лет они ходили в дом в Нижнем Церковном переулке, кто больше всех привязан к этому дому сердцем, как не они, Шоссау и Шустер. Он, конечно, может говорить только за себя, но он знает, что решающие минуты своей жизни он провел в доме Адомайта. А теперь ничего этого больше нет. Дом, скорее всего, унаследует сын, потому что ведь у сестры по нашему законодательству нет на то никаких прав, но именно она-то и купит его в конце концов за гроши, потому что у сына, естественно, никакого интереса к этому дому в Нижнем Флорштадте нет, да он себе такой роскоши и позволить не может. А для них, знакомых Адомайта, теперь все будет так, словно этого дома никогда и не было. Сначала он будет выпотрошен, потом перестроен на манер доходных домов и разбит на шикарные клетушки с белыми каменными плитами, отвечающими деревенским амбициям тех клиентов, которые захотят отдохнуть в нем по пути во Франкфурт или обратно etcetera, ему, Шустеру, уже не раз становилось плохо при одной только мысли об этом. Ах, фрау Винанд, сказал он жене председателя Общества стрелков, обычной домохозяйке в обычные дни, а сегодня торжественно обслуживающей праздничное веселье на площади перед Старой пожарной каланчой, принесите нам, пожалуйста, еще по стаканчику пива. Толстая фрау Винанд с гордостью и восторгом по поводу доверенного ей дела убрала пустые стаканы и, сказав сейчас, сейчас, господа, тут же испуганно воскликнула это еще что такое, собираясь пройти мимо соседнего стола, на который только что вскочил возбужденный Визнер. К Уте это не имеет никакого отношения, закричал он в гневе. Это вообще никак не связано с Утой! И вообще никого не касается! Он поедет, когда захочет и куда захочет. Он все решил сам, и для этого решения нет никаких скрытых причин, и как ему, Шмидеру, пришло в голову такое утверждать, о каких таких скрытых причинах может идти речь? Шмидер: пусть он сначала остынет. И вообще все это одни выкрутасы. Ему, Визнеру, прекрасно известно, как обстоит дело: как только у него с Утой что-то не так, как он это себе представляет, он тут же несется во двор к Буцериусам и принимается там пить и ковыряться в микроавтобусе, и так уже с полгода. В конце концов, это безумная затея – удрать отсюда подальше. И стоит ему постучать молотком недели две, как вся охота к этому у него пропадает и он уже вообще больше не желает ничего слышать про свое путешествие. На это Визнер ответил, что он уже заключил контракты и может их ему показать, так что он связан обязательствами, иначе ему придется платить неустойку, а где он возьмет такие деньги? Ему придется ехать, и уже скоро, хотя бы по финансовым соображениям. У них уже и маршрут разработан. Шмидер: что еще за контракты? Визнер: все они связаны с рекламой. У него уже пять контрактов. С концерном «Гедерн». С оффенбахской фирмой по производству колбас. С пивоварней в Лихе. С… Да что это он вообще тут оправдывается? И как ему взбрело в голову оправдываться именно перед ним, Шмидером? Пусть Шмидер попробует сначала добиться того, что удалось ему, Визнеру. Шмидер: ах! И чего же это ты добился? Ты, как я погляжу, по-прежнему сидишь тут, напротив меня!
Визнер только молча с гневом посмотрел на него, потом отвернулся и ушел со словами, что скоро вернется, он просто слишком много выпил. Курт Буцериус, сын крестьянина, на подворье которого размещалась мастерская по ремонту микроавтобуса «фольксваген», сказал, он, Франк, пусть лучше оставит Визнера в покое. Нет, сказал Шмидер, он этого не сделает, он в большом ответе за Уту. Визнер не самым лучшим образом с ней обращается, а Ута не может себе позволить лично высказывать ему свое неудовольствие, Визнер, между прочим, ужасно ревнив, это видно по каждому его слову. Ему, Шмидеру, эта его ревность не нравится, у него всегда во всем другие виноваты, а сам он даже не пытается сдерживаться. Стоит только Уте пойти с кем-нибудь другим, как он тут же преследует ее. Ута вообще уже перестала выходить из дому, сидит там из-за него безвылазно и не знает, как ей себя вести. А тут еще эти вечные угрозы с отъездом. Буцериус: она пытается отговорить его от этого. Шмидер: но ведь нельзя же так давить на психику. Вы уже совсем спятили, целый год все собираетесь уехать. Не может же она целыми днями торчать дома и все время ждать Визнера, не зная, что будет, ведь он не говорит ей определенно, что ее ожидает? А взять ее с собой вам в голову, конечно, не приходит? Буцериус: нет, женщин мы действительно взять не можем. Ну, представь себе, с Утой и через Иран. Нет, это невозможно. Шмидер: Уте уже девятнадцать, она, в конце концов, тоже хочет знать, что ее ждет, до каких пор они будут играть в невинных школьников, не задумывающихся о завтрашнем дне? Вот именно, сказал Буцериус, это как раз и есть то, что действует Визнеру на нервы. Визнер еще и про себя-то толком не знает, что с ним будет завтра, откуда ему знать что-то про Уту? Шмидер: Ута чертовски хорошая девчонка, это и бесит его. Нет, проклятие какое-то, теперь и ему все осточертело. С этими словами Шмидер встал. Скоро вы все увидите, что из этого выйдет. Жизнь слишком коротка, чтобы так ее портить. Я ухожу. Мне тоже надо остыть. Буцериус – вслед уходящему Шмидеру: мы тебе пришлем из Тегерана открытку. И что это на них обоих нашло, удивились все за столом. Буцериус сделал неопределенный жест рукой. Шмидер давно уже положил глаз на Уту, оба они из Верхнего Флорштадта, можно сказать, выросли по соседству, были раньше как брат и сестра, да это все знают, всегда обо всем друг другу рассказывали и так далее, одним словом, доверяли один другому. Нет, Шмидер, конечно, клевый парень, но сейчас был резковат с ним, а про открытку из Тегерана ему тоже не следовало говорить. Шмидер, похоже, беспокоится. Но что он, Буцериус, может тут поделать? Визнер ведь его друг. Тут Буцериус рассказал про разговор, который состоялся вчера вечером между Визнером и Утой. Она сначала сказала по телефону, что зайдет к нему вечером домой, но когда она стала звонить внизу в дверь, он просто остался сидеть в комнате на кровати, курил и пялился в потолок. Его мать крикнула ему, но он не прореагировал. Тогда Ута поднялась к нему и сказала, он же знал, что она придет, мог бы встретить ее у дверей. Это невежливо, он и по телефону был невежлив. Визнер ответил, она же знает, где его комната, ничего страшного, что сама поднялась, ее ж никто не остановил. Почему ты все время такой, спросила она. Он: какой «такой»? Она: ты все время кидаешься из одной крайности в другую. То ты такой безразличный, как сейчас, а то, вынь да положь, тебе надо увидеть меня и это не терпит никаких отлагательств, как, например, вчера. Откуда мне было знать, что ты в Верхнем Флорштадте и ждешь меня? Мог бы позвонить в магазин и сказать мне об этом. Вместо этого ты трезвонишь без перерыва в дом моих родителей и околачиваешься еще после этого полвечера в конце улицы на виду у всех, словно тебе делать больше нечего. Он: ну и что, он завелся, хотел увидеть ее. Она: она была у Эльке, он что, догадаться не мог, зашел бы к Эльке и спросил. Вместо этого он стоял на улице и звонил каждые полчаса в дверь, родителям показалось очень странным такое его упрямство, болтаться два часа на улице, разве он не понимает, что на ее родителей это произвело странное впечатление. Он: так уж и странное! А ему все равно, что семейство Бертольд считает странным. То же мне, вечно эти обыватели, им все кажется странным, при этом они сами и есть странные. И вообще, у него нет ни малейшего желания продолжать этот разговор. Если она пришла только из-за того, что он хотел ее вчера срочно видеть… Это ненормально, как он себя ведет… Он: нормально, ненормально! Он не позволит, чтобы ему указывали, что нормально, а что нет. Не желает он больше слышать этого слова нормально. Она: она все время старается угодить ему, но ему вечно все не так. Она постоянно делает теперь только то, что он от нее требует, а она сама как бы больше и не принадлежит себе. Он: ну вот, опять хочешь закатить истерику. Она: нет, я этого не сделаю. Но сама закрыла при этом лицо руками и начала плакать. Он: опять ревешь. Вечно эти слезы. Но его этим не проймешь. Он человек аргументов, и каждый раз, когда ей нечего больше ему сказать, она начинает плакать. А он не выносит, когда она ревет, и ей это известно. Чудовище, сказала она. Бог ты мой, вскричал Визнер, он и понятия не имел, что будут такие сложности. Ему это действует на нервы. Он хочет остаться один. Ута взяла свою курточку, покачала головой и сказала, она просто не знает, что теперь с ними обоими будет. Визнер вдруг рассвирепел и заорал, тогда и он ничего не знает. А что такое с ними должно быть? И что это вообще значит, что с ними обоими теперь что-то будет или нет? Он этот бред не желает слушать, пусть она оставит его в покое. Какая наглость, сказала Ута. И еще: он потому такой взвинченный, что ревнует. Из-за того, что она пошла в среду с Михаэлем Кёбингером в «Клуб 2000». Хотя он сам был там за последнюю неделю дважды со своей турчанкой из турагентства, с этой Гюнес. Он: его это вообще не волнует, она может ходить, куда хочет и с кем хочет. И тут Визнер просто начал орать, что она может ходить и с Кёбингером, и со Шмидером, и со всеми деревенскими из Верхнего Флорштадта куда угодно, его это не касается, пусть только оставит его в покое, понятно или нет, в по-ко-е! После этого Ута ушла. А что там было с Кёбингером, спросили за столом. Буцериус: Кёбингер зашел за Утой в среду вечером, чтобы поехать с ней в «Клуб 2000». Визнер об этом узнал. Надо учесть, что в Кёбингере Визнера раздражает все. Он для него слишком паинька, слишком весь вылизанный. А больше всего его злит, что он всегда в хорошем настроении. Даже когда получал в школе одни двойки, до противности оставался спокойным и ровным в своем поведении, и на школьном дворе тоже. Визнер ездит на мопеде, а Кёбингер на «хонде», каждую субботу Кёбингер стоит в гараже во дворе своих родителей и надраивает хромированные части своей «хонды» до блеска замшевой тряпочкой, а Визнера от этого тошнит. Кроме того, Визнер убежден, что Кёбингер давно уже поставил себе целью добиться от Уты всего. Визнер говорит, если ей хочется потанцевать, пусть идет в клуб со Шмидером. Он говорит, Ута, конечно, балдеет, когда сидит сзади него на «хонде» и они носятся по полям и лесам, по проселочным дорогам, а ветер дует им в лицо, ясно, это производит на нее впечатление, она же очень наивна, говорит он. И без конца мечтательно щебечет потом про краски вечернего неба и потрясающий закат над полем. Кёбингер, возможно, думал, что в этот вечер между ними что-то сладится, надо только ее слегка подпоить да вскружить голову танцами, и тогда она наверняка сдастся. Но надо сказать, что на самом деле Ута чаще использует Кёбингера как средство передвижения, чтобы он ее подвез, а в остальном всегда отзывается о нем пренебрежительно и не случайно рассказала ему, Буцериусу, на следующий же день ту забавную историю, что приключилась в тот вечер в клубе. Придя в «Клуб 2000», Ута села сначала за столик к своей подружке Эльке, и они вместе выпили пива, Кёбингер в это время стоял в сторонке и имел вид потерянного. Он прислонился к стойке и все время поглядывал краем глаза на Уту, это все видели.









































