Текст книги "Симфония"
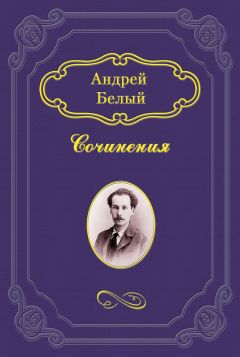
Автор книги: Андрей Белый
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Он стоял ошеломленный, не веря зеркальному отражению, не смея проверить коварное зеркало.
Две скорбные морщины легли на лбу доброго кентавра, и он задумчиво теребил свою изящную бородку.
Потом он тихо вышел из этой комнаты.
Сказка велела запрячь экипаж. Она хотела свезти алую розу на могилу мечтателя.
А золотой Троицын день проходил, и сменил Троицын вечер.
Память о мечтателе, сидя в маленькой лодочке, уплывала в даль изумрудного моря.
Проходили иные годины, приносили иные вести: что-то отжило свой век и покоилось на кладбище; что-то грустило в доме умалишенных; что-то сжимало сердце милой сказки.
И она, охваченная зарей, простерла к закатному свету свои тонкие, белые руки.
Казалось, она шептала: «Пусть летит моя вечная тоска в междупланетное пространство.
«И там откликнется, чтобы снова засиять».
Так долго стояла сказка, разговаривая с зарей, и казалась священным видением.
Память о мечтателе, сидя в челне, уплывала в даль изумрудного моря: это была девушка в ожерелье из слез.
А над изумрудным морем повисло облачко с опаловыми краями.
Словно мечтательный великан, оно таяло на бирюзовой эмали.
Это было заревое прощание нимфы с памятью мечтателя,
Память грустно улыбалась и гребла в неизведанную даль, потому что надвигались иные годины и несли иные вести.
Бледный аскет с золотой бородой и легким румянцем поил чаем Дрожжиковского.
Дрожжиковский в волнении плескал чаем и, хватая аскета за руки, говорил захлебываясь: «Так вы знаете жену, облеченную в солнце?»
Но бледный аскет говорил равнодушно: «Ничего я не знаю: все это еще очень неопределенно… Пишутся только материалы… До лета нельзя делать никаких выводов…»
А из открытого окна просился в комнату золотой Троицын вечер.
Продувающий ветер бросал самоварный пар в лицо Дрожжиковскому. На него, как на доброго ребенка, смотрел золотобородый аскет.
Золотым, Троицыным вечером умирал чахоточный. Букет белой сирени стоял у него на столе.
Шторы были опущены. А сквозь них украдкой прорывались струи солнца.
А уж к дому подходил отец Иоанн. Его белые, атласные волосы ясно вырисовывались на пыльной мостовой.
Вот уж скрипнула дверь, за которой прятались красные ужасы, и на пороге перед чахоточным стоял Иоанн.
Его синие очи были устремлены на больного, и он крестил его дрожащей рукой.
Тогда больной почувствовал отлив ужаса; он приподнялся на жаровом ложе; горько улыбнулся священному другу.
Жаловался Иоанну на гнетущие ужасы, а старый священник поднес к его лицу ветку белой сирени.
Жаловался на грехи, но Иоанн снял серебряный крест свой, и холодный металл обжег горячечные губы умирающего.
В испуге больной прижался к священному другу, крича, что боится смерти.
И перед жаровым ложем встал на молитву Иоанн. Атласные волосы были, как снег, и бледное чело светилось безмерной кротостью.
Потом радостно склонился белый священник над умирающим и сказал с улыбкой, что Господь зовет его к себе.
Открыл окно священник. Золотой вечер пал на больного.
И больной умер золотым, Троицыным вечером. В последний раз поцеловал его священный друг, украсив ложе белой сиренью.
Скоро слуги всполошились вокруг умершего барина, но отец Иоанн шел обратно по пыльным улицам.
Серебряная церковка звала его мягким звоном своим совершать всенощное бдение.
Бдение еще не начиналось, но уже горели пунцовые лампадки.
Царские врата были закрыты, а изнутри занавешены красным шелком.
Но вот прошел кроткий Иоанн, отвесив поклон богомольцам.
Сейчас он отправил на тот свет своего богатого прихожанина; тот боялся отправиться в столь далекое путешествие. Иоанн старательно снаряжал его.
А в небе клубился облаковый великан, дымный, с опаловыми краями.
Великан сгорал нежностью в холоде чистой бирюзы.
В этом сгорании была и любовь старого Иоанна, и любовь сказки к памяти мечтателя.
А память уплывала в даль изумрудного моря; это была юная девушка в ожерелье из слез.
Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами; кругом него возвышались мраморные памятники и железные часовни.
Шумели деревья над одинокими покойниками.
Это было царство застывших слез.
Близ красного домика сидела монашенка под яблоней, ссыпанной белыми цветами.
Ее безмирные очи утонули в закатной зорьке, и розовый румянец играл на юных щеках.
Ее черный клобук возвышался над мраморным лбом. И она судорожно сжала четки.
Она влюбилась в красавицу зорьку. Та хохотала ей в лицо, освещая и монашку, и красный домик.
А из домика высунулась строгая мать-наставница и подозрительно смотрела на монашку.
Раздавался жгучий визг стрижей, и монашка бесцельно сгорала в закатном блеске.
Ее нежные руки сжимали черные четки. Высоко она подняла плечи и замирала под снежной яблоней.
Огоньки попыхивали кое-где на могилках.
Черная монашка зажигала лампадки над иными могилками, а над другими не зажигала.
Ветер шумел металлическими венками, да часы отбивали время.
Роса пала на часовню серого камня, где были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя».
Вдруг монашка услышала шорох шелкового платья и очнулась от беспредметной нежности.
Перед ней тихо проходила молодая красавица с грустными, синими очами в бледно-фиолетовом, парижском туалете.
Ее рыжие волосы горели в закатном блеске, а ее кони храпели, поджидая у ворот обители госпожу свою…
Посмотрели они друг другу в ясные очи, у обеих были синие, синие глаза.
Обе были, как нимфы: одна в черном, а другая в бледно-фиолетовом; одна прикладывала надушенный платочек к лицу своему, другая судорожно сжимала четки, и черный клобук колыхался над мраморным личиком.
Обе поняли друг друга; у них было одинаковое горе.
И сквозь шумящие деревья взвизгивали черные касатки, да выглядывала на них шалунья зорька.
Она засмеялась задушевным смехом, послала ветерок на снежную яблоньку. И обсыпала яблонька черную монашку белыми, душистыми цветами.
И уже была ночь. Монашки, потупив взоры, расходились по своим кельям. В маленьких оконцах тухли огоньки.
Вставало то же, вечно милое и грустно-задумчивое.
Колыхались венки. Словно разгуливали усопшие и поправляли светильни в лампадках; целовали бескровными губами свеже-принесенные цветы.
Но этого не было.
И только серебряный ангел продолжал стоять над часовенькой в застывшем молении, да часы монотонно отбивали время.
Время пролетало над тихой обителью легким дуновением, наклоняя юные березы. И с ним вела речь безмирная женщина в черном.
Ее бледное лицо окаменело в вечной скорби и лишении, а в серых глазах отражалась туманная Вечность.
Так она стояла среди росистых могил, кое-где помигивающих огоньками, шепча еле слышно: «Вот оно, Господи, одно, вечно одно!..»
Ветер, шелестя металлическими венками, далеко разносил ее безмирную, святую скорбь.
Старинная часовня из серого камня вырисовывалась среди могил темным очертанием, и уже роса покрывала каменные слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя!..»
Была святая ночь. Последнее облачко истаяло в эмалевом небе.
Эмалевое небо горело в золотых звездах; улицы были пусты, чисты и белы.
Выйдя на балкон трехэтажного дома, можно было заметить два ряда золотых, фонарных огоньков вдоль сонных улиц.
Вдали огоньки сливались в одну общую, золотую пить.
Всю ночь горизонт не засыпал, но светился. Точно горела за горизонтом святая свечечка.
Точно молился за горизонтом всю ночь Иоанн Богослов, совершая пурпуровое таинство.
На горизонте стояла длинная, узкая, янтарная тучка.
Грустя, села сказка на высокий подоконник. Смотрела на янтарную тучку.
Ее красноватые волосы рассыпались по плечам, а в лицо ей светили золотые звезды.
Завтра она уезжала из Москвы и прощалась с грезами.
…Точно горела за горизонтом святая свечечка.
Точно молился за горизонтом всю ночь Иоанн Богослов, совершая пурпуровое таинство.
Уже стоял белый Духов день. Все почивали в ясных грезах.
Только на балкон трехэтажного дома вышел человек, ни молодой, ни старый.
Он держал в руке свечу. Свеча горела белым Духовым днем.
Тут поднялся вихрь, хотя небо было безбрежно и ясно.
Серая пыль, крутясь, вставала длинными столбами.
Трубы пели и стонали, а свечка погасла в руках у стоящего на балконе.
Звук рога явственно пронесся над Москвой, а сверху неслись световые вихри, световые потоки белым Духовым днем.
Часть третья
Ветер дышал холодком. Изумрудные нивы склонялись, молясь лазурному утру.
Вдали чернела распашка.
То тут, то там попадалась лошадка, а за ней мужичок тащил плуг, переворачивая землю глубокими взрезами.
Мужички и лошадки были разные, но действие одно.
Обычному глазу здесь ничего не представилось бы, но внимательный наблюдатель рассудил бы иначе.
По пыльной дороге среди бледно-зеленой нивы ехала тройка. Ямщик в бархатной безрукавке понукал усталых лошадей.
В тройке сидел господин с белокурыми волосами в городском пальто. Он был обложен чемоданами.
Холодок затуманил стекла его пенснэ; и вот он снял протирать его, поглядывая по сторонам черными, подслеповатыми очами, напевая:
«Золотые, изумрудные, черноземные поля… Не скупа ты, многотрудная, терпеливая земля…»
Это было стихотворение Владимира Соловьева, а сидящий в тройке состоял поклонником почившего философа.
Вот ехал, ехал аскет золотобородый к брату своему в имение отдыхать после зимней сумятицы.
Вот он поглядывал вокруг себя и на нивы подслеповатыми, черными очами, шепча: «Изумрудные поля… Прекрасно выразился Владимир Сергеевич…
«Ну ведь совсем изумрудные!..»
Но это удивление не разделял кучер в бархатной безрукавке; он чмокал губами и понукал лошадей.
От времени до времени проезжали вдоль запашек. То тут, то там показывалась лошадка, а за ней мужичок тащил плуг, переворачивая землю глубокими взрезами.
Мужички и лошадки были разные, но действие одно.
Вот огромный дед – сутулый богатырь – топтал лаптями свежевзрезанную землю, поспешая за плугом.
Вот то же проделывал хилый мужичонко, потрясая намеками бороды.
Мужички и лошадки были разные, но действие одно.
Иногда равнина прорезывалась глубокими оврагами, представляя из себя высокое плоскогорье.
Было что-то буддийское в этом чередовании равнин и оврагов.
Вспоминалось больше прошлое, чем настоящее. Это прошлое было монгольское прошлое.
Так, по крайней мере, полагал аскет золотобородый, восседавший среди чемоданов.
Он шептал про себя: «Вот она русская грусть и русская беспредметность…»
А сверху солнце уже напекало ему затылок за дерзостную мысль.
Он видел величественные обломки прошлого, а из прошлого воздвигалось будущее, повитое дымными пеленами.
Он полагал, что завершение синтетического периода той или иной культуры требует личности; только рука великого учителя может завязать последние узлы, соединить цветные ленты событий.
Он думал – отсиял свет на западе и темнокрылая ночь надвигалась из-за туманного океана.
Европейская культура сказала свое слово… И это слово встало зловещим символом… И этот символ был пляшущим скелетом…
И стали бегать скелеты вдоль дряхлеющей Европы, мерцая мраком глазных впадин.
Это он думал, но получил толчок: дорога представляла из себя ухаб за ухабом, а золотобородый аскет сказал себе: «Терпение».
«Терпение», потому что на востоке в золотых чашах еще волновалась горячая кровь, а кругом чаш стояли гиерофанты[21]21
Гиерофанты – иерофант – у древних греков старейший жрец при элевсинских таинствах – ежегодных религиозных празднествах в честь Деметры и Персефоны.
[Закрыть], и синее благовоние возлетало к небу под звук бряцающих кадил.
Он мечтал соединить западный остов с восточной кровью. Он хотел облечь плотью этот остов.
Сидя среди чемоданов, он угадывал роль России в этом великом соединении, а кучер, поворачивая пыльное лицо свое, говорил, улыбаясь: «Не привыкли, барин, к нашим дорогам».
Но золотобородый аскет силился улыбнуться, озирая безнадежность равнин.
Он спросил, много ли осталось до Грязищ, и, узнав, что до Грязищ далеко, сорвался с чемоданов и полетел на крыльях фантазии.
Солнце становилось строгим, проникаясь раскаленной жестокостью. Вдалеке сиял крест белой церкви.
Там, где горбатая равнина закрывала горизонт, можно было видеть одинокую кучку, держащую путь к востоку.
Несли две красные с золотом хоругви, и они развевались на высоких древках.
Крестьянки были в красных повязках, а на синих юбках сверкало золото тесьмы; они несли изображение византийских угодников.
Шли с иконами и хоругвями в соседнее поместье молить о дожде.
Шли в одинокой кучке с развернутыми знаменами.
Это было обращение к Илии пророку. Священный призыв ливня и огненных стрел.
Это была перчатка полуденному неверию.
Скоро пропала кучка хоругвеносцев в беспредельной равнине, а вдалеке сиял крест белой церкви.
Уже аскет подъезжал к заветным Грязищам, перечисляя по пальцам последователей своих.
Он усердно вдувал в их сердца печаль об огненных вихрях, чтобы зажглись они печалью и сгорели от любви.
Приходили священные дни и взывали призывно к пророкам… И пророки спали в сердцах людских.
Он хотел разбудить этот сон, призывая к золотому утру.
Он видел человечество, остановившееся как бы в сонном раздумье.
Пасомые овцы разбрелись искать себе новой истины, еще не найденной. Это был сон полудневный среди летней засухи.
И все лучшее, что еще не спало, становилось безумием секты и бредом горячки.
Ох, знал, знал кое-что аскет золотобородый! Вот он ехал в деревню отдыхать от зимней сумятицы.
Ему нужно было покрыть куполом выведенные степы – сделать выводы из накопившихся материалов.
Он пожелал загореться проповедью перед московскими учениками; это был парод бедовый, постигший мудрость науки и философии; здесь мерцали утренницы, подобные Дрожжиковскому.
Это было дрожжевое тесто, поставленное в печь искусным булочником.
Многие из них уже протирали глаза от действительности, чтобы с чистым сердцем утонуть в снах.
Скоро каскад бриллиантов должен был засыпать оскудевшую страну. Скоро звезды пророчеств должны были снизойти с небес.
Небесный свод казался расписанным по фарфору.
На горизонте вставали вихревые столбы черной пыли.
Поднималась чернопыльная воронка и потом, разорвавшись, возносила пыль к равнодушным небесам.
Видел, видел аскет золотобородый и знал кое-что!..
Как погребали Европу осенним, пасмурным днем титаны разрушения, обросшие мыслями, словно пушные звери шерстью!
Моросил дождь, и уныло стонал ветер, заглушая слезы бедных матерей.
Они шли за черным гробом ее в одеждах, ночи подобных, с изображением черепа на мрачных капюшонах, с факелами ужаса в руках.
Они несли подушки с серебряными кистями, а на подушках лежали страшные регалии.
За гробом шли самые большие могильщики, самые страшные.
Тут был и норвежский лев, чье рыкание раздражало покойницу, и толстокожий Емельян Однодум: он держал в одной руке щепку, а в другой топор; строгал щепку, приговаривая: «По-мужицки, по-дурацки! Тяп да ляп, и вышел карапь!»
И Заратустра – черная, голодная пантера, доконавшая Европу.
Был и бельгийский затворник, и французский монах в костюме нетопыря и с волшебной кадильницей в руках.
У него на плече сидел черный кот и лизал лапу, зазывая гостей на похороны.
Тут был и певец лжи, прозябающий в темнице, и парижский маг.
И миланец, и Макс – курчавый пудель, тявкающий на вырождение, и сэр Джон Рескин, перепутавший понятия Добра, истины и красоты, заваривший сладкую кашицу современности.
И неуместная пародия на христианского сверхчеловека, кому имя сверхбессилие, несомая ватиканской гвардией на гнилых носилках и в бумажном колпаке.
Это была заводная игрушка, долженствующая пародировать христианство.
Чертополох бесплодный! Наследник камня придорожного! Римская приживальщица! Святейшество, сияющее электричеством!
За большими могильщиками плелись толпы малых. Они брали не качеством, но количеством.
Это были гномы, впавшие в детство; сюсюкающие старички шестнадцати вершков.
Они несли зеленые фонарики, повитые крепом, а на траурных лептах можно было прочесть: «неврастения», «разврат», «равнодушие», «слабоумие», «мания».
Но самая опасная мания была мания ложной учености: она заключалась в том, что человек вырывал глаза и дерзкими перстами совал в свои кровавые впадины двояковыпуклые стекла.
Мир преломлялся; получалось обратное, уменьшенное изображение его.
Это был ужас и назывался точным знанием.
Были тут и грядущие разрушители, неописуемые в ужасе своем.
Глаза всех были устремлены в черное покрывало ночи, бесшумно распластавшееся над Северным, Немецким морем.
Казалось, это была огромная летучая мышь, заслонившая солнце.
Набежали свинцовые волны на песчаный берег и выбросили зверя с семью головами и десятью рогами.
И воскликнули великие и малые учителя мерзости: «Кто подобен зверю сему?»
Озаренный газовыми рожками, он подошел к умершей Европе, и она открыла мертвые очи свои, зашамкала беззубым ртом.
И нарумянилась, и жеманилась пред зверем, и слова ее были более чем зловещи, и она открыла мертвые очи свои и зашамкала беззубым ртом.
И тогда каждый из великих могильщиков и великих мерзавцев (так звали учителей мерзости) украсил ночную корону ее своей ложной драгоценностью.
Тут поместился красный рубин Заратустры с черным бриллиантом Гюисманса[22]22
Гюисманс или Гюисман Корнелис (1648–1727) – нидерландский живописец.
[Закрыть].
Каррарский мрамор сэра Рескина с булыжником русского Однодума.
Но все Это были ложные драгоценности: они странно мерцали над париком великой блудницы.
Но все это были ложные драгоценности; багровый месяц, и все почувствовали прилив безотчетного страха.
И сказали горам: «Падите на нас!» Но горы не пали. И нельзя было спрятать от ужаса лицо свое.
И ужаснулись все до единого.
И пока он так думал, в соседнем поместье совершалось молебствие о дожде.
Среди изумрудно-желтеющей нивы развевались красные с золотом хоругви, как священные, призывные знамена.
Поп опускал в сосуд с водой березовые прутья, окроплял нивы, молясь о благорастворении воздухов.
Одинокий крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив.
И только тоскующий голос его разносился над нолями.
Аскет продолжал свои фантазии. В пику темнокрылой ночи он утраивал освещение на северо-востоке.
Уже выходила на небо воскресная светильня, и святой огонь прогонял с востока ужас заразы.
На востоке не ужасались; тут издавна наблюдалось счастливое волнение; будто серафимы произвели невидимое возмущение.
И когда зверь воссел на троне с блудницей великой, появились огни пророков над святою Русью.
Ее апостол был Иоанн, чей взор проник в глубину последних веков.
Тогда явилось знамение пред лицом ожидающих: жена, облеченная в солнце, неслась на двух крыльях орлиных к Соловецкой обители,
чтобы родить младенца мужеского пола, кому надлежит пасти народы жезлом железным.
Свершилось древнее пророчество о белом всаднике, который выйдет победить.
И была борьба великая между ратниками зверя и жены. И когда борьба достигла крайнего напряжения, можно было видеть ангела, восходящего на востоке.
Он стоял между Тигром и Евфратом; он вылил сосуд ярости Божией на запад, вопия: «Пал, пал Вавилон, город великий!»
Умертвил блудницу и зверя, связав беса на тысячу лет.
Это было первое воскресение, прообраз второго воскресения, и была смерть первая – подобие второй.
Это был знак, разгадываемый пророками.
Видел, видел, аскет золотобородый и знал кое-что!
Он шептал с молитвой: «Жена, облеченная в солнце, откройся знаменосцу твоему! Услышь пророка твоего!»
И вдруг грозное лицо его выразило крайнее смущение.
Ему припомнился знакомый образ: два синих глаза, обрамленных рыжеватыми волосами, серебристый голос и печаль безмирных уст.
Одной рукой она обмахивалась веером, отвечая глупостями на глупость.
Такой он видел ее на предводительском балу.
Он прошептал смущенно: «Жена, облеченная в солнце», а уж тройка подъезжала к подъезду.
На крыльце, обвитом хмелем, стоял брат золотобородого аскета, помещик Павел Мусатов, с богатырскими плечами и большой бородой.
Его лупоглазый лик смеялся и лоснился, обрамленный мягкой, как лен, белокурой бородой… В левой руке дымилась сигара.
Белую, чесучовую поддевку раздувал ветер, и он махал брату носовым платком.
В прохладной передней стояла племянница Варя, гостившая у дяди с чахоточной матерью.
Это была бледнолицая блондинка с мечтательными глазами, маленьким носом и веснушками.
Обнимались и лобызались братья Мусатовы.
Одинокий крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив.
И только тоскующий голос его разносился над широкими степями.
В столовой был накрыт завтрак. Здесь Павел Мусатов на радостях выпил разом шесть рюмок вишневки.
Потом он схватил хохотавшую племянницу и прошелся с ней мазурку.
Он молодцевато выступал перед изумленным братом, вытопатывая глянцовитыми сапогами.
Это был отставной гвардеец.
Девушка хохотала, и он тоже, причем его живот трясся, а на животе брелоки, и нот градом выступал на багровеющем лице.
Удивился аскет золотобородый, приехавший в деревню выводить судьбы мира из накопившихся материалов.
Но все радовались.
Вот уже брат Павел расстегнул чесучовую поддевку и вытирал носовым платком свой лупоглазый лик.
За завтраком золотобородый аскет уяснял присутствующим свое появление, очищая свежую редиску.
Он говорил, что устал от городской сумятицы и вознамерился отдохнуть на лоне природы.
Племянница Варя благоговейно внимала речам ученого дяди, а Павел Мусатов, наливая восьмую рюмку вишневки, громыхал: «И хорррошее дело!»
Был он громадный и багровый, проникший в тайны землеведения, а его брат был худой и бледный, напиханный сведениями.
Помещик Мусатов вел жизнь, наполненную сельским трудом и сельскими увеселениями.
Попивал и покучивал, но присматривал за хозяйством.
Он имел романические тайны, о чем свидетельствовал шрам на лбу, появившийся после удара палкой.
Он говаривал зачастую, громыхая: «Раз, прокутившись в Саратове, с неделю таскал я кули, нагружая пароходы».
При этом он засучивал рукава, обнажая волосатые руки.
Таков был Павел Мусатов, веселый владелец приветных Грязищ.
Жарким, июньским днем в тенистой аллее расхаживал бледнолицый аскет с книгой в руке.
Он перелистывал статью Мережковича о соединения язычества с христианством.
Он присел на лавочку; чистя ногти, сказал себе: «Тут Мережкович сделал ряд промахов. Я напишу возражений Мережковичу!»
А уж к нему незаметно подсел Павел Мусатов, закрыв широкой ладонью неподобную статью.
Он говорил сквозь зубы, сжимавшие сигару: «Это после, а теперь – купаться».
У ракитового куста аскет погружался в холодные воды, предаваясь утешению.
Он купался с достоинством, помня святость обряда, а его толстый брат остывал на берегу, похлопывая себя по голой груди.
Наконец, он кинулся в воду и исчез.
Недолго нырял. Скоро его смоченная голова вынырнула на поверхность, и он, фыркая, сказал: «Благодать».
В бесконечных равнинах шумел ветер, свистя по оврагам.
Он налетал на усадьбу Мусатова и грустил вместе о березами.
Они порывались вдаль, но не могли улететь… и горько кивали.
Это проносилось время, улетая в прошедшее на туманных крыльях своих.
А вдали склонялось великое солнце, повитое парчовыми ризами.
Золотобородый аскет быстро шагал в тенистой аллее.
Он видел выводы из накопившихся материалов, и его черные глаза впивались в пространство.
На белокурых кудрях была надета соломенная шляпа, и он помахивал тростью с тяжелым набалдашником.
Уже многое он разрешил и теперь подходил к главному.
Вечность шептала своему баловнику: «Все возвращается… Все возвращается… Одно… одно… во всех измерениях…
«Пойдешь на запад, а придешь на восток… Вся сущность в видимости. Действительность в снах.
«Великий мудрец… Великий глупец… Все одно…»
И дерева подхватывали эту затаенную грезу: опять возвращается… И новый порыв пролетающих времен уносился в прошлое…
Так шутила Вечность с баловником своим, обнимала темными очертаниями друга, клала ему на сердце свое бледное, безмирное лицо.
Закрывала тонкими пальцами очи аскета, и он был уже не Мусатов, а так что-то…
Что, где и когда, – было одинаково не нужно, потому что на всем они наклеили ярлычок потусторонности.
Уже аскет знал, что великая, роковая тайна несется на них из неисследованных созвездий, как огнехвостая комета.
Уже в оркестре заиграли увертюру. Занавес должен был взлететь с минуты на минуту.
Но конец драмы убегал вдаль, потому что еще верное тысячелетие они не развяжут гордиева узла между временем и пространством. События потекут по временному руслу, подчиняясь закону основания,
Дерева взревели о новых временах, и он подумал: «Опять возвращается».
Ему было жутко и сладко, потому что он играл в жмурки с Возлюбленной.
Она шептала: «Все одно… Нет целого и частей… Нет родового и видового… Нет ни действительности, ни символа.
«Общие судьбы мира может разыгрывать каждый… Может быть общий и частный Апокалипсис.
«Может быть общий и частный Утешитель.
«Жизнь состоит из прообразов… Один намекает на другой, но все они равны.
«Когда не будет времен, будет то, что заменит времена.
«Будет и то, что заменит пространства.
«Это будут новые времена и новые пространства.
«Все одно… И все возвращаются… Великий мудрец и великий глупец».
И он подхватил: «Опять, опять возвращается…» И слезы радости брызнули из глаз.
Он вышел в поле. На горизонте румянилась туча: точно чубатый запорожец застыл в пляске с задранной к небу ногой.
Но он расползался. Горизонт был в кусках туч… На желто-красном фоне были темно-серые пятна.
Точно леопардовая шкура протянулась на западе.
Он улыбался, увидав дорогую Знакомицу после дней разлуки и тоски.
А вдали на беговых дрожках уже катил Павел Мусатов с сигарой в зубах, молодцевато держа поводья.
Вдали чей-то грудной голос пел: «Ты-и пра-асти-иии, пра-асти-иии, мой ми-и-и-и-лааай, маа-а-ю-у-уу лю-боовь».
Павел Мусатов укатил в беспредметную даль; только пыль вставала на дороге.
Голос пел: «Ва краа-а-ююю чужом да-лее-о-о-кааам вспа-ми-на-ю я ти-бяяя».
Одинокий крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив…
Голос пел: «Уж ты-ии доооля маа-я го-оорь-каа-ая, доо-о-ляя гоо-ооорь-кааа-яяя».
Леопардовая шкура протянулась на западе.
Одинокий крестьянин, босой и чумазый, терялся где-то среди нив…
Помещик Мусатов сидел на вечернем холодке.
Он отдыхал после жаркого дня, расправлял белокурую бороду.
Вот сейчас он ударял кулаком по столу, крича на старосту Прохора: «Шорт и мерзавец!»
А Прохор сгибал шею, морщил брови, тряс огромной бородой.
И на грозное восклицание выпаливал: «Не могим знать!..»
Но это было недавно, а теперь толстый Павел отдыхал на вечернем холодке.
В освещенной столовой племянница Варя кушала алую землянику; она накалывала ягодки на шпильку и смеялась, говоря: «Вы, дядя, точно жрец… Вам бы ходить в мантии…»
Он казался странно весел и беспричинно хохотал.
Он и теперь смеялся: «Погоди, дай нам выстроить храмы… Одежды – это пустяки… Разве моя палка не жезл? Разне содома моей шляпы не золотая!
И подняв руки над племянницей, он шутливо задекламировал:
«С головой седой верховный я жрец —
На тебя возложу свой душистый венец!
И нетленною солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей!»
Так шутил Сергей Мусатов – золотобородый аскет и пророк.
Потом он развернул газету и прочел о посольстве далай-ламы тибетского.
После он осведомился у Вариной матери о возможности получения лимона.
Потом Павел Мусатов читал ему лекцию о сельском хозяйстве и недородах.
Они мирно покуривали на открытой террасе. Им светила луна.
Голубой ночью племянница Варя стояла у открытого окна; она блистала очами и декламировала с Фетом в руках:
«С головою седой верховный я жрец —
На тебя возложу свой душистый венец!
И нетленною солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей!»
Но закатился ясный месяц, и небо стало исчерна-синим.
Только к востоку оно было бледно-хризолитовое.
Тени встречались и, встречаясь, сгущались; где-то вдали храпел Павел Мусатов.
В темной гостиной на мягком кресле сидела знакомая женщина.
Ее мертвенное лицо неподвижно белело в темноте.
Над уснувшим домом дерева рёвмя-ревели о новых временах.
Пролетал порыв за порывом; проходили новые времена.
Новые времена не приносили новостей. Бог весть, зачем они волновались.
И уже свет жизни брызнул из далеком небосклоне. В гостиной уже не было знакомой женщины в черном с белым лицом.
Только на спинке кресла лежал чей-то забытый, кружевной платочек…
Кричащие времена возглашали: «Опять возвращается!» И уже полнеба становилось бледно-хризолитовыми.
У самого края горизонта был развернут кусок желтого, китайского шелку.
Это были дни полевых работ, дни выводов из накопившихся материалов; дни лесных пожаров, наполнявших чадом окрестность.
Дни, когда решались судьбы мира и России; дни возражений Мережковичу.
И все ясней, все определенней вставал знакомый образ с синими глазами и печалью уст.
То было снежно-серебряное знамя, выкинутое на крепости в час суеверных ожиданий.
Утром напивался чаем аскет золотобородый, рассуждал с братом, шутил с племянницей.
Потом делал выводы из накопившихся материалов.
Потом предавались они с братом водному утешению и ныряли между волн. Потом составлялись соборные послания московским и иным ученикам.
В них раскрывались догматы христианства и делались намеки на возможность мистических ожиданий.
Курс московских учеников разросся, и сеть мистиков покрыла Москву.
В каждом квартале жило по мистику; это было известно квартальному.
Все они считались с авторитетом золотобородого аскета, готовящегося в деревне сказать свое слово.
Один из них был специалист по Апокалипсису. Он отправился на север Франции наводить справки о возможности появления грядущего зверя.
Другой изучал мистическую дымку, сгустившуюся над миром.
Третий ехал летом на кумыс; он старался поставить вопрос о воскресении мертвых на практическую почву.
Четвертый ездил по монастырям интервьюировать старцев.
Иной боролся в печати с санкт-петербургским мистиком, иной раздувал искорки благодати.
Дрожжиковский ездил по России и читал лекции, в которых он моргал и подмигивал что есть мочи.
Получалось впечатление, что он знает, а он возлагал знание на золотобородого пророка.
Для других, неведающих, его лекции уподоблялись комоду с запертыми драгоценностями.
Он прочел уже шесть лекций и теперь вчерне приготовил седьмую.
Подъехала франтовская тройка, подвозя Павла Мусатова к соседям по имению.
На подъезде встречало Мусатова знакомое семейство, осведомляясь о причине столь долгого забвения Павлом Мусатовым их гостеприимного очага.
На что приятно раскланивался Павел Мусатов, прищелкивая лакированными сапогами, он поднял хозяйскую ручку к пунцовым устам своим и заметил: «У меня гостит мой ученый брат!.. Мы, знаете, беседуем о том, о сем… И время летит незаметно».
На вопрос же, отчего он не привез к ним ученого брата, Мусатов отрезал лаконически: «Сидит сиднем… занят обширным исследованием…»
Все это было принято к сведению любопытным семейством.
В ягодном саду племянница Варя гуляла с подругой своей, Лидой Верблюдовой.
Вдруг она поцеловала длинную шею Верблюдовой и сказала: «Дуся, приезжай поскорее к нам в Грязищи… я тебе покажу ученого дядю…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































