Текст книги "Симфония"
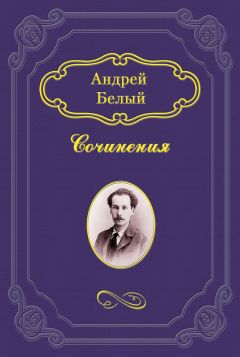
Автор книги: Андрей Белый
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Часть вторая
Лунные ночи сменялись безлунными. Со дня на день ожидали новой луны.
А пока было безлуние.
В вечерний и грустный час остывали крыши домов, остывали пыльные тротуары.
Между домами были свободные вырезы неба. Идя с правой стороны малолюдного переулка, можно было заметить нежно-желтое погасание дня, окаймленное дымными глыбами туч.
Над Москвой висела дымка.
В малолюдном переулке карлица-богаделка, старая, сине-бледная, шла в богадельню с мешочком в руках.
За ней бежал человек в сером пальто и с черными усами.
Его рука была опущена в карман, а в кармане он сжимал сапожное шило.
Впереди переулок упирался в другой, перпендикулярный первому; там на фоне белой стены мотала головой черная лошадь скрючившегося во сне извозчика.
И старушка, и молодой человек с черными усиками проходили мимо освещенных окон; заглянув в окно, можно было усмотреть, как любитель-механик, сидя за столом, разбирал стенные часы.
Все, как следует, разобрал механик, а собрать он не сумел; сидел, почесываясь.
У подъезда стояла фура с надписью «Работник»[11]11
«Работник» – комиссионерское товарищество по продаже сельскохозяйственного инвентаря и машин.
[Закрыть]. Около фуры человек в форменной фуражке пояснял прибежавшему дворнику, что он их новый жилец.
Минуту спустя перевозчик в союзе с дворником таская из фуры на спине стопудовые громады на третий этаж.
А человек в форменной фуражке строго наблюдал за целостью таскаемых громад; он снял квартиру рехнувшегося философа.
Еще более стемнело; бесконечное пространство крыш стыло.
Были крыши многих домов в связи между собой; одни подходили к другим и оканчивались там, где другие начинались.
У печной трубы дрались два кота, черный и белый; оба прыгали, гремя по железу, усердно били друг друга по щекам и визжали что есть мочи.
Человечество, затаив дыхание, следило за поединком.
Труба дымила; стоя у трубы, можно было видеть в отдалении окно Дормидонта Ивановича.
Дормидонт Иванович очень любил детей; он всегда угощал их мятными пряниками, хотя жалованье Дормидонта Ивановича не было значительно, и Дормидонт Иванович сам любил кушать мятные пряники.
Но он скрывал свою страсть.
Сегодня к нему пришел племянник Гриша. Дормидонт Иванович напоил Гришу чаем с мятными пряниками.
Гриша уничтожил все пряники, не оставив ни одного толстому дяде; Гриша не уважал толстого дядю, но бросал в него резиновым мячиком.
А Дормидонт Иванович одним глазом поглядывал на летающий мячик, а другим следил за огнями, мерцающими в бывшей квартире философа.
Он сказал неожиданно: «Ну, вот! И переезжают!» – и вздохнул облегченно.
В ту пору к декадентскому дому подкатил экипаж; из него вышла сказка с сестрой, полусказкой.
Обе были в весенних парижских туалетах, и на их шляпках колыхались громадные черные перья.
Сказка не знала о смерти демократа. Обе болтали в передней, обсуждая платье графини Каевой.
В ту пору в Новодевичьем монастыре усердная монашенка зажигала лампадки над иными могилками, а над иными не зажигала.
Была свежая могила демократа украшена цветами, и металлический венок колыхался на кресте.
Нагнувшись, можно было разобрать многозначительную надпись на кресте: «Павел Яковлевич Крючков, родился 1875 г., скончался 1901 г.».
Но сказка ничего не знала о кончине мечтателя и продолжала болтать с полусказкой о туалете графини Каевой.
А кругом стояли бритые люди, и лица их не выражали удивления, потому что всё они знали и обо всем могли дать ответ.
Это были… хамы…
В тот час молодой человек вонзил сапожное шило в спину старушки богаделки, ускользнув в соседний переулок.
Это был сумасшедший, и его тщетно отыскивала полиция.
В тот час Храм Спасителя высился над пыльной Москвой святым великаном.
Под его златоглавым силуэтом текли воды Москвы-реки в Каспийское море.
В тот самый момент, когда полусказка простилась со сказкой и когда серый кот побил черного и белого;
когда неосторожный Гриша разбил мячиком стакан Дормидонта Ивановича, а старушка шамкала в одиноком переулке: «караул»,
давали обед в честь Макса Нордау московские естествоиспытатели и врачи; сегодня прогремел Макс Нордау, бичуя вырождение; а теперь он сидел в «Эрмитаже» весь красный от волнения и выпитого шампанского.
Он братался с московскими учеными.
Мимо «Эрмитажа» рабочий вез пустую бочку; она грохотала, подпрыгивая на мостовой.
Эта Москва не нуждалась в Нордау; она жила своей жизнью; съезд естествоиспытателей и врачей не касался ее сердечных струн.
Вот сегодня Нордау громил вырождение, а завтра должна была выйти книжка Валерия Брюсова и Константина Бальмонта[12]12
«…книжка Валерия Брюсова и Константина Бальмонта…» – коллективный стихотворный сборник «Книга раздумий» (1899) с участием В. Брюсова, К. Бальмонта, М. Дурнова, Ив. Коневского.
[Закрыть].
В своей одинокой квартире на третьем этаже сидел за самоваром человек средних лет; спокойно и тихо смотрели его ясные очи в дверь открытого балкона.
С балкона рвался свежий ветерок и бросал самоварный пар в лицо сидящему.
Это был ни старый, ни молодой, но пассивный и знающий.
Он допивал вторую чашку чаю, а уж на синее небо выпали бриллианты звезд.
Казалось, он застыл и сидел без желания, отуманенный беспредметной нежностью.
Мистик Сириус сгорал от любви.
В черном, бездонном пространстве он выбрасывал из себя столбы огня и бреда; и не один Сириус, но все звезды извергали потоки огня в черный холод.
Это был звездный ужас.
Этого не боялся спокойный и знающий, но допивал вторую чашку чаю.
Казалось, он застыл и сидел без желания, отуманенный беспредметной нежностью.
Казалось, он говорил: «Так, так, Господи! Я знаю тебя!»
Уже допил вторую чашку и наливал себе третью.
И когда в соседней квартире било двенадцать, он сидел спокойный и задумчивый, вперив ласковый взор в безлунное небо созвездий.
Было тихо. Иногда гремел извозчик. Коты орали на крышах.
Если у кого был тонкий слух, то он мог бы услышать вдалеке призывный звук рога.
Словно кто-то стоял на дымовой трубе в серой крылатке и трубил в рожок.
Но это только казалось.
Тяжелый, междупланетный шар принесся неизвестно откуда.
Со свистом он врезался в земную атмосферу и, раскалясь, посылал от себя снопы искр.
Внизу казалось, что большая, сверкающая звезда скатилась с синего неба.
На небе осталась белая полоса, быстро растаяв на холоде.
Видел, видел звезду сидящий за самоваром и принял это к сведению.
Теперь происходили ночью над Москвой <явления>, полные священного значения.
Ходили синие, дымные громады, застилая от времени до времени горизонт.
Это было неспроста: шел вопрос о священном значении России.
Проезжали вечерние бочки и решали вопрос отрицательно; на козлах сидели наглые люди и спорили с городовым.
Проходил Поповский и решал отрицательно.
А сидящий за чаем решил положительно, и Поповский был устранен с улиц города Москвы: за ним захлопнулась дверь.
Макс Нордау весьма интересовался городскими увеселениями; это был живой и общительный человек.
Вот он мчался на русских тройках в веселую «Мавританию», везомый русскими учеными.
Он икал после сытного обеда, мурлыча веселую шансонетку.
На всю Россию кричал тогда циничный мистик из города Санкт-Петербурга, а товарищи озаряли крикуна бенгальскими огнями.
Даже марксисты ударились в философию, а философы в теологию.
Но никто из них не знал о значении таинственного миганья, которое росло и росло в России.
Это миганье отразилось на знакомых Поповского, у которых происходили майские, жаровые собрания.
Каждый из них перелистывал Евангелие, читал мистика и знал наизусть Достоевского.
Иные доходили до того, что обращались с покойным писателем запанибрата.
Иной раз можно было видеть чудака, похлопывающего по Братьям Карамазовым, разражающегося такими словами: «Федор Михайлович загадал нам загадку, и мы теперь ее разгадываем».
Такие все были шутники, право, что и не приведи Бог с ними встретиться.
Весна была небывалая и странная. Потом уже, когда лето миновало, вспоминали весну все без исключения: либералы, консерваторы, мистики и реалисты.
В тот год был небывалый наплыв богомольцев в Киеве. В мае месяце горели уфимские леса.
Передавали поморы, что неоднократно подплывал кит к самому берегу на Мурмане и подмигивал своими рыбьими, крохотными глазками.
Однажды спросил любопытный кит глухого старика помора: «Эй, любезный, как здоровье Рюрика?»
И на недоумение глухого старика добавил: «Лет с тысячу тому назад я подплывал к этому берегу; у вас царствовал Рюрик в ту пору»,
Ночью особенно явственно раздавался звук рога над спящей Москвой.
Тогда же чины сыскной полиции поймали ловкого протыкателя старух.
Он задорно щелкал пальцем перед чинами сыскной полиции и ораторствовал: «Нас много на Руси»,
И тут как бы в подтверждение безумных слов выяснилось, что подвальные помещения дома Расторгуевых на Солянке начали заливаться нечистотами.
Уже на месте происшествия стоял городской инженер; размахивая руками, он пояснял присутствующим, что засорились трубы.
На другой день в газетах появилась заметка: «Канализационное безобразие»[13]13
См. московские газеты за май. (Примеч. авт.)
[Закрыть].
Шестьсот старушек были в волнении. В палатах и коридорах раздавалось недовольное старческое бормотанье.
Одну из старушек подвергли поранению недобрые люди, всадившие ей в спину сапожное шило.
Старушка сидела забинтованная и заваривала себе ромашку.
Толковали о последних временах; видели в появлении протыкателя как бы знамение Антихриста.
А уже в старушечье отделение входил старичок: богадельня была общая и для старичков, и для старушек, и шестьсот старичков постановили одному из своих прочесть соболезнование пораненной товарке.
Вот он стоял с адресом в руках и пытался читать: никто ничего не понял; слышалось беззубое бормотанье.
Отец протоиерей сидел за самоваром в коричневой рясе; он обтирал пот, выступивший на воспаленном лбу, беседуя с гостем.
Его гость был ученый филолог; он был приват-доцент Московского университета.
Он был сух и поджар; непрестанно обтирал руки платком, осыпал отца протоиерея цитатами из евангелиста Иоанна.
Он смаковал каждый текст, раскрывая его священное значение.
И на его фонтан красноречия терпеливо отмалчивался отец протоиерей, откусывая сахар и чмокая губами.
Наконец он допил стакан, опрокинул его в знак окончания пития своего и сказал собеседнику: «Ай да ловкач! Хо, хо! Ай да ловкач!»
Обратил мясисто-багровое лицо свое к ученому, развел руками и, похлопывая себя по животу, присовокупил назидательно: «Старайся, брат доцент!»
Знакомый Поповского собирал у себя литературные вечеринки, где бывал весь умственный цветник подмигивающих.
Сюда приходили только те, кто мог сказать что-нибудь новое и оригинальное.
Теперь была мода на мистицизм, и вот тут стало появляться православное духовенство.
Хотя устроитель литературных вечеринок предпочитал сектантов, находя их более интересными.
Все собирающиеся в этом доме, помимо Канта, Платона и Шопенгауэра, прочитали Соловьева, заигрывали с Ницше и придавали великое значение индусской философии.
Все они окончили, по крайней мере, на двух факультетах и уж ничему на свете не удивлялись.
Удивление считали они самой постыдной слабостью, и чем невероятнее было сообщение, тем более доверия ему оказывалось этим обществом.
Все это были люди высшей «многострунной» культуры.
Вот туда-то шел Поповский ясным, весенним вечером.
Он проходил под забором; над забором спускались гроздья белой сирени, помахивая маленькому Поповскому, но Поповский ничего не видел, а улыбался шутливому стечению мыслей.
Когда Поповский скрылся в соседнем переулке, проходил тут Дрожжиковский.
Увидал белые гроздья ароматной сирени и нежно-голубую лазурь.
Увидал и звездочку, мерцавшую из-под белой ветви сирени, увидал и облачко, подернутое пурпуровым таинством.
Все это видел Дрожжиковский, спеша на Остоженку.
Довольный хозяин потирал свои белые руки, осведомляясь, все ли исправно и нет ли обстоятельств, препятствующих полноте литературного удовольствия.
Дело в том, что сегодня обещал сделать сообщение сам Дрожжиковский, это был модный, восходящий талант.
Так думал заботливый хозяин, а уже к нему текли гости из разных переулков города Москвы.
Вдоль одного и того же переулка семенил Поповский, а за ним поспешал сам Дрожжиковский, вспоминая белую сирень.
Закат был напоен грустью. Розовые персты горели на бирюзовой эмали; словно кто-то, весь седой, весь в пурпуровых ризах, протягивал над городом благословляющие руки.
Словно кто накадил. Теперь кадильный дым таял синевато-огненным облачком.
Благовестили.
В булочной Савостьянова всходили белые хлебы.
Один толстый булочник осведомился, много ли имелось дрожжей, и, узнав, что достаточно, засветил лампадку.
Шагая по улицам, можно было видеть в иных окнах то красненький, то зелененький огонек.
Это теплилась лампадка.
Завтра был Троицын день, и православные наливали в лампадки деревянное масло.
Вот теперь святые язычки робко пламенели перед Господом.
Не один атеист жаловался на боль желудка.
Уже гости собирались. Довольный хозяин приказал подавать чай.
В освещенной передней лежали шляпы, шапки и фуражки.
Но позвонили. Вошел Поповский.
Он снял калоши и направился в залу.
Едва пришел Поповский, как уже звонил сам Дрожжиковский; поглядывая на часы и протирая пенснэ, он вошел, встреченный приветствиями.
Всем он подал свою милостивую руку. Вокруг него уже образовалась группа почитателей; сюда подошли поклонники Ницше, мистики и оргиасты.
Только один не подошел, а стоял у окна, закуривая папироску.
Он был высокий и белокурый, с черными глазами; у него было лицо аскета.
Его короткая, золотая борода была тщательно подстрижена, а на ввалившихся щеках играл румянец.
Был тут и хилый священник в серой рясе и с золотым крестом.
Его атласные волосы, белые, как снег, были расчесаны; он разглаживал седую бороду.
Он больше слушал, чем говорил, но умные, синие глаза обводили присутствующих… И всякий почтил про себя это старое молчание.
Еще не начинали общей беседы, по уже улицы пустели, и фонаря зажигались один за другим.
Заря пробивала тяжелое облако, которое сверкало в пробитых местах. Заря стояла всю ночь в эти дни над Москвой, словно благая весть о лучших днях…
Завтра был Троицын день, и его прославляла красивая зорька, прожигая дымное облачко, посылая правым и виноватым свое розовое благословение.
В открытое окно рвался ветерок, донеся запах белой сирени.
Вспоминал Дрожжиковский белую сирень, как забвение болезней и печалей.
Он начинал свою речь среди гробового внимания присутствующих.
Он заговорил прерывистым голосом, часто останавливаясь, чтобы закруглять фразы.
Потом он уже редко останавливался, и фразы вылетали из уст его, словно выточенные из слоновой кости.
Молчал старый священник в серой рясе, склонив белую, как лунь, голову, прикрыв чело и глаза рукой.
На него падал красноватый свет лампы. Черная тень от руки затенила бледное чело.
Развалились на стульях, а хозяин на цыпочках подходил то к одному, то к другому, предлагая чаю.
Тут же сидел поклонник Петербургского мистика, колупая угреватое лицо свое.
Поповский приютился у печки и еще до начала сообщения заблаговременно скривил свой рот.
В открытое окно рвался ветерок, донося запах сиреней.
Вспомнил Дрожжиковский белую сирень. Говорил о забвении болезней и печалей.
Огромный синий купол закрыл собою закат; его края рдели и сверкали; его тень пала на Москву.
А Дрожжиковский упомянул о потоке времени, и, казалось, глаза его видели туманную Вечность.
Он воскрешал угасших великанов; он связывал их мысли; он видел движение этой мысли, указывая на повороты ее.
И всем казалось, что они сидят на утлом суденышке среди рева свинцовых волн, а Дрожжиковский их опытный кормчий.
Он говорил о залпах ракет и фейерверке мыслей и грез; он спрашивал только: «Где теперь эти ракеты?»
Он сравнивал мысли философов и поэтов с растаявшей пеной изумрудного моря; он спрашивал у присутствующих: «Где она?»
И молчал священник в серой рясе, склонив белую голову, прикрыв бледное чело и ясные очи дрожащей рукой.
Зарница мигнула из синего купола, закрывшего закат. На лица слушающих падали тени, преображая лица, выдвигая складки грусти и меланхолии.
Но это только казалось от падающих теней; а на самом деле лица их ничего не выражали; все они были довольны собой и Дрожжиковским.
Хотя сам Дрожжиковский не был доволен ни собой, ни умственным движением XIX столетия.
Он сравнивал его с мерцанием болотных огоньков: он спрашивал, стуча по столу: «Где они?»
А ему кивали белые сирени из окна знакомыми сердцу взмахами; это было цветочное забвение.
Синий купол сползал с зорьки. Из-под купола смеялась зорька задушевным, ребяческим смехом.
Дрожжиковский стучал по столу, а в глазах Дрожжиковского отражалась розовая зорька… И казался Дрожжиковский большим, добрым ребенком.
Нашла полоса грусти. Он стоял среди присутствующих, теребя черный ус, насмешливо кивая головой.
Это он погребал философию, а над могильным курганом ее плакал и рыдал, как ветхозаветный Иеремия[14]14
Иеремия – древнееврейский пророк (VII – нач. VI в, до н. э.). Ему приписывается авторство книги Ветхого завета «Плач Иеремии».
[Закрыть].
Нашла полоса гнева… Он стоял среди присутствующих в гробовом молчании. Он молча грозил позитивистам.
Он кричал, что они вытравили небесные краски.
Потом он демонически захохотал, говоря о демократах, народниках и марксистах.
Но, должно быть, пахнул ветерок с могилы почившего демократа, потому что кто-то шепнул Дрожжиковскому: «Не смущай моего покоя», – и фразы из слоновой кости перестали слетать с пламенных уст его.
Молчал и священник в серой рясе, склонив свою белую голову, прикрывая бледное чело и синие очи дрожащей рукой.
На полу лежала его черная тень.
И долго, так долго молчал Дрожжиковский, и казался большим, добрым ребенком; ветер шевелил его черными волосами, а серые глаза его были устремлены в окно.
И невольное умиление смягчило черты Дрожжиковского, как будто он готовился сказать новую истину.
В ту пору в Успенском соборе пели: Свете тихий, и блистали митры архиереев.
Кадильный дым вознесся под купол собора.
И тогда все почувствовали резкое журчанье тающих ледников, и Дрожжиковский начал речь свою вещим словом: сверхчеловек.
Поклонники Ницше задвигали стульями, а старый священник поднял свои ясные очи на Дрожжиковского,
Которого слова вспыхивали дрожащим пламенем, и в комнате начался вихрь огня и света.
Словно почувствовали близость талого снега, словно горячечному дали прохладное питье.
Словно тонул жаровой ужас в туманном, сыром болоте, а Дрожжиковский указывал на священное значение сверхчеловека.
Он вставлял в свою речь яшмы Священного Писания, углублялся в теологическую глубину.
Приводил минувшие верования, сопоставлял их с самыми жгучими вопросами современности.
Ждал духовного обновления, ждал возможного синтеза между теологией, мистикой и церковью, указывал на три превращения духа.
Пел гимны дитяте из колена Иудина[15]15
«…Пел гимны дитяте из колена Иудина». – Колено, то есть род Иуды – сына ветхозаветного патриарха Иакова – считался основателем царства Иудейского и дал много известных в древнееврейской истории деятелей.
[Закрыть].
Его слова вспыхивали дрожащим пламенем и – огненные знаки – уносились в открытые окна.
Иногда он останавливался, чтобы слушать вальс «снежных хлопьев», который разыгрывали где-то вдали.
И тогда все видели, что над Дрожжиковский повесили цветок лотоса – милое забвение болезней и печалей.
Это было цветочное забвение, а из-под опаловой тучки смеялась ясная зоренька задушевным, ребяческим смехом.
Дрожжиковский стучал по столу, и в глазах Дрожжиковского отражалась розовая зорька… И казался Дрожжиковский большим, невинным ребенком.
В его глазах отражалась слишком сильная нежность; чувствовалось, что струна слишком натянута, что порвется она вместе с грезой.
Где-то играли вальс «снежных хлопьев». Душа у каждого убелялась до снега. Замерзала в блаженном оцепенения.
Невозможное, нежное, вечное, милое, старое и новое во все времена.
Так он говорил; приветно и ласково смотрел ему в очи старый священник, схватившись за ручку кресла.
Все были взволнованы и удивлены.
Довольный хозяин протягивал смущенному автору сообщения свои белые руки; шел оживленный говор…
Случайно попавший сюда марксист вскочил со стула и басом прогремел: «Позвольте вам возразить».
Но тут его перебил золотобородый блондин с лицом строгим и задумчивым; это был как бы аскет с впалыми щеками и лихорадочным румянцем.
Во время речи Дрожжиковского он вскидывал на него свод добрые глаза и, казалось, говорил: «Знаю, ах знаю…»
Теперь он стоял, словно властный диктатор. Скоро его деревянный голос заставил присмиреть чрезвычайно образованных.
Он говорил: «Ныне наступает Третье Царство, Царство Духа… Ныне вода с бледноликим туманом ближе жертвенной крови.
«Хотя Царствие Небесное не водою только, но и кровию, и Духом.
«Ныне мы должны претерпеть ужасную, последнюю борьбу.
«Среди нас будут такие, которые падут, и такие, которые не разрешат, и такие, которые проникнут, и увидят, и возвестят.
«Наступают времена четырех всадников[16]16
Времена четырех всадников. – По пророчеству Апокалипсиса, перед концом света должны явиться на землю четыре всадника – на белом, рыжем, вороном и «бледном» конях, несущие кару, суд, войну, смерть.
[Закрыть]: белого, рыжего, черного и мертвенного.
«Сначала белого, потом рыжего, потом черного и, наконец, мертвенного.
«Разве вы не видите, что на нас нисходит нечто, или, вернее, Некто.
«Это будет самый нежный цветок среди садов земных, новая ступень лестницы Иакова[17]17
Лестница Иакова – лестница с земли до неба, виденная во сне Иаковом, ветхозаветным патриархом, по толкованию богословов, символизирует духовную связь бога с землей.
[Закрыть].
«Это будет горным ручьем, скачущим в жизнь бесконечную,
«Вот тайная мысль Достоевского, вот крик тоскующего Ницше.
«И дух, и невеста говорят: прииди».
И все молчал старый священник, склонив свою многодумную голову, заслоняя лицо дрожащей рукой.
От руки падала тень, а из тени смотрели синие глаза священника.
Уже в соборах пропели «Вечернее славословие», раздавалось бряцание кадил да вздохи старичков, архиереев, увенчанных бриллиантовыми шапками.
Пророк говорил: «И дух, и невеста говорят: прииди.
«Я слышу топот конских копыт: это первый всадник.
«Его конь белый. Сам он белый: на нем золотой венец. Вышел он, чтоб победить.
«Он мужского пола. Ему надлежит пасти народы жезлом железным. Сокрушать ослушников, как глиняные сосуды.
«Это наш Иван-Царевич. Наш белый знаменосец.
«Его мать – жена, облеченная в солнце. И даны ей крылья, чтобы она спасалась в пустыне от Змия.
«Там возрастет белое дитя, чтоб воссиять на солнечном восходе.
«И дух, и невеста говорят: прииди».
Потом он стоял весь строгий и задумчивый.
То был белокурый, высокий мужчина с черными глазами. На ввалившихся щеках его играл румянец.
Задумчиво молчал он, и марксист, позабыв свои возражения, сбежал украдкой из сумасшедшего дома.
Но в открытое окно рвался белый ветерок; он нес пророку сладкие, сиреневые поцелуи. И хохотала ясная зоренька, шепча: «милые мои».
Дрожжиковский с жаром пожимал руки белокурого пророка, а старый священник молча обвел присутствующих синими очами и потом склонил свою седую голову на старческую грудь.
Потом он заслонился рукой от света. Ветерок закачал его атласные, седые кудри.
На полу лежала его черная тень.
В тот час в аравийской пустыне усердно рыкал лев; он был из колена Иудина.
Но и здесь, на Москве, на крышах орали коты.
Крыши подходили друг к другу: то были зеленые пустыни над спящим городом.
На крышах можно было заметить пророка.
Он совершал ночной обход над спящим городом, усмиряя страхи, изгоняя ужасы.
Серые глаза метали искры из-под черных, точно углем обведенных, ресниц. Седеющая борода развевалась по ветру.
Это был покойный Владимир Соловьев.
На нем была надета серая крылатка и большая, широкополая шляпа.
Иногда он вынимал из кармана крылатки рожок и трубил над спящим городом.
Многие слышали звук рога, но не знали, что это означало.
Храбро шагал Соловьев по крышам. Над ним высыпали бриллианты звезд.
Млечный путь казался ближе, чем следует. Мистик Сириус сгорал от любви.
Соловьев то взывал к спящей Москве зычным рогом, то выкрикивал свое стихотворение:
«Зло позабытое
Тонет в крови!..
Всходит омытое
Солнце любви!..»
Хохотала красавица зорька, красная и безумная, прожигая яшмовую тучку.
В комнате горела красненькая лампадка. Проснулся ребенок.
Он кричал звонким голосом: «Нянька».
Просыпалась ворчащая нянька и укрощала ребенка.
А он протягивал к ней ручки и улыбался, говоря: «Где-то трубит рог!»
Нянька осенила его крестным знамением, говоря: «Христос с тобой, мой родной! Это тебе померещилось!»
И ребенок засыпал улыбаясь. И нянька шла спать.
Оба они слышали во сне призывный рог… Это Соловьев шествовал по крышам домов, усмиряя страхи, изгоняя ужасы.
Уже заря разгоралась с новой силой, когда хилый священник приподнялся с кресла.
Он говорил о вселенской любви с опущенными долу глазами.
Тихий ветерок качал его атласные кудри, а губы старичка священника расплывались в грустную улыбку.
Ничего он не принимал и не отвергал из сказанного, но говорил о любви.
К был ветерок… И не знали, был ли он от вздыхающих, сладких сиреней или от белых слов отца Иоанна.
А безумная зорька растопила яшмовую тучку и теперь хохотала, разгораясь, украсившись серебряной утренницей.
Немного сказал отец Иоанн. Потом он сидел у окна заревой, майскою ночью, склонив седую голову на грудь…
Утром возвращался Дрожжиковский с Остоженки, усталый и сонный.
Он часто зевал, потому что стоял белый день.
Ароматные гроздья сиреневого забвения висели на фоне бирюзового неба.
Над снежно-белой тучкой совершалось пурпуровое таинство.
Все это видел Дрожжиковский, спеша на Остоженку.
Шел странник с котомкой за плечами; его узенькая, седенькая бороденка задорно выставилась вперед, излучая радость всепрощения.
Уже позади него оставался сосновый лес. Над зелеными соснами стояло благословляющее солнце.
Желтовато-белые тучки, словно вылепленные из воска, рельефно выделялись на фоне небесного поголубения.
А перед ним протянулась равнина. Над равниной горели золотые и серебряные главы святынь.
Это была Москва, озаренная майскими лучами. Это была Москва в Троицын день.
Любопытно высматривал седенький странник над святынями московские тайны и радовался втихомолку.
Он был себе на уме, и ничто его не удивляло. Удивленно считал он человеческим, слишком человеческим.
По небу плыли желтовато-белые тучки, словно вылепленные из воску, а странник в уме ставил свечки московским угодникам.
Отец Иоанн служил в своем приходе.
Его беленькая, чистенькая церковка с серебряными главами приветно гудела во славу Св. Троицы.
Пели: «Иже херувимы». Все потели. Таинственный диакон в сияющей ризе периодически склонялся, совершая каждение.
Лучи золота врывались сквозь узкие окна и почивали на сияющих ризах; мелкий дымок фимиама мягко стлался в солнечных лучах.
Царские двери не закрывали тайн: отец Иоанн воздевал свои благословляющие руки, и атласные, белые волосы были откинуты от бледного чела.
Потом низко склонялся отец Иоанн перед св. Престолом, и из его сжатых губ вырывались потоки таинственных слов.
Так замирал он неведомым символом, прерывал молитвы мечтательным вздохом.
Потом был великий выход; два ребенка, сверкая ризами, несли восковые свечи; за ними шествовал золотой диакон.
После всех тихо шел с чашей в руках отец Иоанн. Его очи блестели. Ризы сияли. Волосы сбегали снежной волной.
И склонялись церковные прихожане в лучах майского солнца.
И пока служил отец Иоанн, в соседней церкви то же делал отец Дамиан.
Служили во всех церквах; произносили те же святые слова, но разными голосами.
Священники все без исключения были в золотой парче; одни были седы, другие толсты, третьи благообразны, многие безобразны.
В Храме Спасителя служил неведомый архиерей в золотой митре.
Его посох держал церковный служка, а сам он благословлял из царских врат, перекрещивая дикирий[18]18
Дикирий – двусвечник, используемый при богослужении и знаменующий два естества Иисуеа Христа – божеское и человеческое.
[Закрыть] с трикирием[19]19
Трикирий – подсвечник с тремя свечами. Используется архиереем во время богослужения.
[Закрыть]»
Дормидонт Иванович отстоял службу; он порядком-таки пропотел и, выходя, обтирался платком.
Его толстые пальцы сжимали пятикопеечную, просфору, вынутую о здравии раба Божия Дормидонта.
У выхода его почтительно поздравил с праздником писарь Опенкин, а дома Матрена подала ему самовар.
Набожно перекрестился Дормидонт Иванович и скушал натощак просфору о здравии раба Дормидонта.
Заваривая чай, говорил кухарке: «Ну, Матрена, Бог милости прислал!»
В церкви порядком пропотел толстый столоначальник и теперь с жадностью тянул китайскую влагу.
Переулок был облит солнцем. Мостовая белела. Вместо неба была огромная бирюза.
Дом в ложно-греческом вкусе имел шесть колонн, а на шести колоннах стояло шесть белых, каменных дев.
Каменные девы имели на голове шесть каменных подушек, а на подушки опускался карниз дома.
На асфальтовом дворике была куча сырого, красного песку.
На куче песку играли дети в матросских курточках с красными якорями и белокурыми кудрями.
Они опускали маленькие ручки в холодный песок и разбрасывали горстями песок по сухому асфальту.
На куче песку стоял маленький мальчик; его лицо было строго и задумчиво. Синие глаза сгущали цвет неба. Мягкие, как лен, волосы вились и падали на плечи мечтательными волнами.
Важно и строго держал малютка в руках своих железный стержень, подобранный неизвестно где; побивал малютка сестренок своих жезлом железным, сокрушая их, как глиняные сосуды.
Сестренки визжали и закидывали самоуправца горсточками песку.
Строго и важно стирал малютка с лица своего красный песок, задумчиво смотрел на небесную бирюзу, опираясь о жезл.
Потом он вдруг бросил железный стержень и, соскочив с песчаной кучи, побежал вдоль асфальтового дворика, радостно взвизгивая.
Извозчик провез Дрожжиковского. Дрожжиковский ехал к белокурому пророку говорить об общих тайнах.
Шел монах по модной улице; его клобук высоко поднимался над худым лицом.
На нем был серебряный крест, и он быстро шагал среди праздничного люда.
Его черная борода была до пояса; она начиналась тотчас под глазами.
Глаза были грустные и горестные, несмотря на Троицын день.
Вдруг остановился монах и сплюнул: злобная усмешка исказила суровые черты.
Это случилось оттого, что цинический мистик высказал еще новое соображение и напечатал его в Полярных узорах[20]20
«Полярные узоры». – Имеется в виду раннесимволистский журнал «Северный вестник», издание Мережковского и Гиппиус.
[Закрыть].
На Кузнецком мосту в окне художественного магазина выставили пророков и святителей.
И казалось, пророки кричали из-за стеклянных окон, протягивая к улице свои голые руки, тряся горестными головами.
Святители же были ясны и тихонько улыбались, пряча в усах лукавую улыбку.
У окон толпились люди с разинутыми ртами.
В окна декадентского дома рвались золотые струи света.
Они падали на зеркало. Зеркало отражало соседнюю комнату. Оттуда неслись сдержанные рыдания.
Среди цветов и шелка стояла побледневшая сказка; ее красноватые волосы сверкали в золоте солнца и бледно-фиолетовый туалет ее был в белых ирисах.
На цветочном празднике она узнала о смерти мечтателя, – и вот ломала свои тонкие, белые руки осиротевшая сказка.
Дрожали коралловые губы, а по бледно-мраморным щекам катились серебряные жемчужины, застывая в ирисах, приколотых к груди.
Она стояла растерянная и рыдала, смотря в окно.
А из окна на ее слезы хохотала безумная зорька, прожигая яшмовую тучку.
Тщетны были сказкины слезы, потому что проходила пора демократов.
Волна времени смыла мечтателя, унесла его в вечный покой.
Это ей рассказала безумная заря, хохоча до упаду, и сказка рыдала над разбросанными ирисами.
А… в соседней… комнате стоял потрясенный кентавр. Он вошел в эту комнату… увидел свою нимфу в отражении.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































