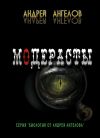Текст книги "File на грани фола"

Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Андрей Битов
File на грани фола
Полуписьменное сочинение
Где-то затерялся набросок – такая сценка – разговор графомана с гением.
Оба взяли рюмки и рассуждают на тему – ты как пишешь? На машинке? От руки? А на какой бумаге? Какой ручкой? Обсуждают перспективы. Получается, что оба друг другом совершенно довольны, потому что этот разговор их совершенно выравнивает.
Разговор о том, как мы пишем, выравнивает любых.
Но есть все-таки разница между тем, когда пишешь рукой и пишешь гусиным пером. Или пером металлическим. Вечным.
Каков был переход?
…Вспоминаю, как в старой моей школе шла борьба перьев. Перо должно было быть с нажимом – когда прописям нас учили. А переход на шариковую ручку был равносилен вредительству, и к нам применялись карательные меры. А ты попробуй еще достань ее, эту ручку! В то время это было способом выделиться.
Перо макать – значит меньше курить за письменным столом. Обмакнул – кляксу стряхнул.
Промокашки специальные делали…
Помню я, и как случился со мной принципиальный переход: тогда еще пишущие машинки были не в частоте, я сначала писал от руки, потом правил по писанному, потом перепечатывал, правил по напечатанному, потом отдавал машинистке. Поскольку возможностей опубликоваться было мало, от машинистки я и получал свой первый опубликованный текст. Он был напечатан по нормам, сдаваемым в типографию. Тогда я мог его прочесть и понять свое отношение по крайней мере к этому опусу.
Насколько виден текст.
Внутренний текст, написанный текст, напечатанный – вот это и есть технология «перевода».
И однажды, когда я сел в момент какого-то затора перебелить неоконченный рассказ и начало уже перестучал на машинке, у меня включилось дыхание и я не заметил, как достучал этот рассказ на машинке до конца. Не прописывая от руки.
Это был переход невероятный! Просто революция. Для меня это была революция 1961 года. Может быть, равнозначная тому, что Гутенберг придумал печатать книги тиражами… Править пришлось гораздо меньше, и напряжение было гораздо больше: на машинке неудобно вычеркивать – надо забивать буквой Х… Из-за этого напряжение создания текста возникает более-менее сразу и дыхание не исступленное. И период, в который попадал, – из него тоже надо выпутаться: сразу удлинилась фраза.
Дальше я все писал на машинку. Потом возник компьютер, а я уже сильно взрослый. Учиться работать на нем стал в 1992 году. Но никуда не продвинулся и решил на нем печатать, как на машинке.
С компьютером – другие соблазны: например, соблазн поправить текст сразу, целиком. То есть исчезают все черновые слои, пропадают навсегда. Можно и не тщеславиться, что ты там Гоголь или Пушкин! Но все равно: а вдруг какой-то слой был предпочтительнее по дыханию?
Довольно трудно привыкать: я уже научился думать страницей, вставляя лист в пишущую машинку, когда шло дело. А тут лист никак не кончается…
Хотя до этого у меня тоже была технологическая мечта – вставить в машинку рулон бумаги целиком, чтобы шел поток и ты бы его не прерывал.
Но довольно быстро этот рулон у меня запутался, и я понял, что нужен еще карлик, чтобы он перематывал рулон внизу.
Этот невидимый рулон – приводит к идее непрерывного текста, который существует в человеке вместе с его бытием и сознанием. По этой линии развивалось много попыток – во всяком случае, в прозе.
В то же время есть какая-то непрерывистость: если ты человек пишущий, ты проживаешь свою жизнь вместе со своим текстом. Ты течешь через текст. У меня даже целый ряд статей прошел: смерть как текст, поведение как текст…
Уже много позже я пришел к идее о врожденности текста и стал работать над собой и другими авторами, включая – высшие силы, да простят меня – Пушкина. Я считал, что необходимо издать Пушкина чисто хронологически. Чтобы увидеть сам процесс.
Этим и занимаюсь – расколачиваю тома, которые у нас формировались по жанрам. Пушкин ведь по жанрам очень хорошо пакуется! По законченности, по неоконченности… А вот когда это все равномерно и равноправно…
Для него, думаю, это было немаловажно. И для меня многое становилось ясно.
В 1999 году удалось осуществить проект издать полный свод пушкинских текстов за последний год его жизни – «Предположение жить. 1836».
Думаю, это – довольно верный принцип. Набокова я тоже рассматривал из этой перспективы. Бывает так, что в творчестве есть какая-то гора вулканическая – с подъемом, со спуском. В начале не хуже, но где-то есть вершина и спад, на который проецируется начало. У Набокова так проецируются русский и американский периоды. Но так же точно проецируется и возраст.
Везде – большие системы подобий.
Хотя не нужно преувеличивать значение текста: неизвестно, что вперед чего. Особенно у пишущего. Текст часто съедает его жизнь. Ведь потому – литература, что она подобна жизни, а не потому, что отражает ее. Вы попадаете в процесс, который переживает автор в процессе письма, который подобен переживанию жизни. Чтение – это со-чтение, со-чувствие.
Но когда я перешел на машинку, я стал гораздо дисциплинированней, гораздо строже – появилась какая-то жесткость, металличность, созвучная стуку машинки. И вот сейчас, у компьютера, я думаю: а не перейти ли снова на пишущую машинку, чтобы слышать этот стук по-настоящему?
Ну и к чему же я прихожу? Я все больше пишу на бумаге и от руки. Просыпаюсь с рассветом и, чтобы доспать – пока какие-то мысли приходят в голову, не вскакивать, кладу рядом бумагу и ручку. Но – то одного нет, то другого. Начинаешь запасать письменные принадлежности. Потом – возиться с набросками. А возиться очень противно. Набросать легче, чем написать. И написать – легче. А вот перейти от наброска к письму очень тяжело. Так же, как, допустим, если вы дадите мне этот монолог на правку – это будет одно из главных моих мучений (смеется).
Все покажется несовершенным.
Никуда не деться от технологии.
Пропасть между устной и письменной речью непроходима. У меня даже статья была в «Звезде»: «Русский устный и русский письменный». Вот и сейчас, на этих страницах, я провожу эксперимент, соединяя устную речь и несколько текстов, которые я написал по нужде. Я сейчас предложу вам прочитать тексты, которые написаны. Они в то же время – заказаны, но в самом заказе лежит устная форма.
Одно дело, когда замысел ищет воплощения в письменной речи, а совсем другое, когда ты вкладываешь себя в рамки, даешь интервью самому себе. Интервью себе – вот что это такое. Тут моя питерская природа тоже что-то говорит мне. Однажды я вел круглый стол на книжной ярмарке, и там банально столкнули питерцев и москвичей, и в конце концов, как это бывает, в процессе дискуссии я договорился до удачности, сказав: разница московской и питерской речи в том, что Москва (недаром отсюда все время идут реформы русского языка!) – как слышится, так и пишется, а Петербург – как пишется, так и слышится. То есть Петербург по природе, даже по построенности города, – более письменный город, Москва – более устный.
Так что здесь – совмещаю две столицы!
Вторая часть эксперимента – это файл. File.
Время с годами идет быстрее – значит, выходит, я уже с 1992 года пишу на компьютере, только иногда скучаю по машинке. Где же найти ее ту самую, что была родной?
Всё – машины: тебе надо распечатать кусок какой-то, выделяешь, даешь команду – а я иногда сбиваюсь. Собьюсь – и смотришь, вываливается всё целиком. Весь файл. Целый файл печатается вместо отмеченных страниц! И бумаги – гибель, и не нужно это тебе, и ты сердишься… а он тебя не понимает.
Так однажды я получил в руки весь файл.
А мне еще говорят: что такое? Почему ты пишешь в одном файле? Что за глупость? Не можешь новую иконку завести!
Может быть, мне не нравится слово иконка в таком употреблении легкомысленном…
Но на самом деле это подтверждает, что человек слился со своим текстом. Жанрово нарезает и замыслово оформляет, но непрерывность эта есть. В данном случае тексты, которые я вам предлагаю, тоже выпали из одного файла, и между ними есть неожиданная преемственность, хотя все они написаны в разное время и по разным поводам.
27 июля 2005 года.
Искусство писать от руки
[1]1
Вариант эссе выходит в журнале «Esquire».
[Закрыть]
Утренняя морозная тьма и чернила, снег и чистый лист – ужас этих подобий детства не для Фрейда: чернила не черные, бумага не белая.
Я выучился писать шестьдесят лет назад, и это была Победа! Господи, чего стоили эти палочки и хвостики, чего стоила эта тетрадь в косую линеечку и перо №86…
Вставочка, перочистка, прописи, чернильница-непроливашка, промокашка – забытые русские слова, и впрямь прошлого века. Писали мы с нажимом, не отрывая руки, как я позже догадался, – гимназическим, семинаристским, сталинским почерком еще позапрошлого века. Не дай бог, к перу приставал волосок! Перочистка была, как большая тряпичная клякса: ею мы играли на переменках в маялку, запрещенную игру. О, эта идеологическая, многолетняя борьба с любым прогрессом в орудиях письма! Скручивали пружинку из тонкой проволоки, монтировали под перо – получалась вечная ручка. Когда же у богатеньких учеников стали появляться настоящие вечные ручки, то они категорически изымались у владельцев педагогическим составом. Когда же вечная ручка стала нормой, началась борьба с шариковыми ручками – разрешалось только чернилами, пусть и без нажима.
Нажима я здесь, без чернил и пера №86, воспроизвести не могу, а пропись, пожалуйста…
Потом, к старшим классам, некоторые буквы сами собой упростились (эти новые Т, Д, Б и т. д. – добыча для графолога), но в целом я так и пишу, как шестьдесят лет назад, включая свою литературу.
Физ-ра и Лит-ра
[2]2
Предисловие к книге «Серебро-Золото», – М.: Фортуна ЭЛ, 2005.
[Закрыть]
Если согласиться с тем, что история делится на века, и представить себе их отдельность, как бы в виде каравана барж, груженных то готикой, то Ренессансом, то барокко, то Просвещением, – тогда ХХ век, из которого почти две трети выпало на мою долю, будет загружен спортом. Не буду даже спорить (спорить – спорт), что не только им одним, но и… по крайней мере от спорта настолько меньше вреда, чем от всего остального неперечисленного (империализм, коммунизм, фашизм, терроризм, еtс.), что стоит уделить спорту некоторое интеллектуальное внимание как не побочной ветви человеческой деятельности, наравне с наукой и искусством.
По крайней мере все это область больше славы, чем власти.
Власть окончательно и навсегда принадлежала другим.
Слава еще могла принадлежать людям. И если Героем Советского Союза после войны уже сложно было стать, то мастером спорта или лауреатом Сталинской премии еще можно.
Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»
Физ-ра и лит-ра… Какого будущего мужчину могло увлечь такое: канаты и маты, козел и конь… потное, серое, БГТо и ГТО? Или образ деда Щукаря или Татьяны Лариной? В образе Рахметова привлекало, что упорно тренировался.
Иногда я объясняю свое начало занятия литературой тем, что с детства мне не удавались коллективные игры – ни в войну, ни в футбол. Зато судьба мне шепнула, а я услышал: «Бегай!» Было это на пляже в Гудаутах в 1951-м, и года четыре я бегал, не пропустив ни одного дня, вокруг Ботанического сада, прибавив к этому доморощенную атлетическую гимнастику и контрастный душ. Никто еще не ведал ни о беге трусцой, ни о бодибилдинге – я был чуть ли не первый «качок». Внешние мои параметры стали таковы, что тренеры вцеплялись в меня, но вскоре разочаровывались: никаких талантов. Я занимался физкультурой, а не спортом. Выходит, что готовил я себя к соревнованию только в литературе… «Чертовское, однако, здоровье изволил потратить автор за годы работы головой!» (Мих. Зощенко. Возвращенная молодость). На полвека, однако, хватило.
Впрочем, что слава?.. В детстве, в последний год войны, мы играли под трибунами заброшенного стадиона и набрели там на пьедестал. В лохмотьях заплесневевшего кумача, он притулился в углу в компании лопат и метел, на правах инвентаря. Три ступеньки… нас тоже было трое. Двое постарше боролись за высшее место, у меня была повреждена нога, и я спокойно занял вторую ступеньку. «Назовем это опытом», – как назвал свою книжку о путешествии в Советский Союз один американский писатель.
Тогда же – первое золото: я съел свой первый мандарин. Это сейчас демократия, а тогда, при Сталине, со мной в классе учился сын первого секретаря горкома (впоследствии расстрелянного). Мальчик был красивый и нежный, другого цвета кожи. На большой перемене он разворачивал свой большой завтрак. Я был несколько замедленный мальчик, и, когда протягивал руку, все бывало уже разобрано. И понял я, что за колбасой нечего и тянуться, и однажды спокойно забрал менее востребованный мандарин. Съел я его в туалете вместе с кожурой.
Опыт этот пригодился мне и в армии. Мне с ней повезло: это был стройбат на территории бывшего лагеря в пятидесяти километрах от Полярного круга. Нам полагалось сливочное масло. Его подавали на стол одним бесформенным куском, и старослужащий делил его на десять равных частей. Равными они по природе быть не могли: пока старшой делил, мы жадно располагали кусочки по росту. Старшой колдовал и втыкал нож в самый большой кусочек, и девять жадных рук сцеплялись над вторым по размеру. Опоздав раз, опоздав другой, я стал сразу выбирать третий и с тех пор ни разу не прогадал.
Это я про первое, второе и третье… На пьедестале – кусок масла и мандарин.
Но однажды я занял среди них первое место.
Тот же старшой обозвал меня жидом, и я, вместо того чтобы отрицать это, сказал ему, что сам он… Этого ему нельзя было вынести: после отбоя была назначена дуэль. Трусил я ужасно: несмотря на свою «накачанность» я ни разу в жизни не дрался. И вот отбой, барак, тусклый свет, узкий проход меж двухъярусных нар… Напротив разъяренный дембель, за ним еще его кодла, на подхвате, – вот оно, противостояние! Пропал, что делать?.. Тут-то они мне и подсказали, что такое противник. Они распоясываются… и я. Они наматывают ремни на кулаки, бляхами наружу… у меня ремень вываливается из рук, получается, что я его отбросил за ненадобностью. Дембель играет желваками…
Я растерянно (получается, с равнодушием) снимаю очки и протягиваю их своему единственному худосочному секунданту.
Дембель расставляет ноги пошире… Мне становится душно, и я рву ворот на гимнастерке. И это было решение! Не торопясь, стал я стягивать гимнастерку. Мало что через голову, так под гимнастеркой был еще мамой связанный свитер, и когда я справился со всем этим, то оказался голым по пояс. По удивленным лицам кодлы я сообразил, что у меня появился шанс: мои бицепсы и трицепсы произвели впечатление. Рождение паузы – триумф актера. Я набрал полную грудь воздуха, приподнял плечи и, напружив грудные мышцы и бицепсы, сделал резкий и звучный выдох… «И полно, – благодушно сказал дембель, – ну, скажи, за что ты на меня так взъелся?..» И я не стал качать права, и до конца срока мне доставалась лишняя порция, так что я разжирел, как боров. Шел 1958 год, никаких «видаков» еще не было, ни одного фильма про восточные единоборства никто из нас не видел.
«Самое невозможное в жизни, – рассуждал я позднее об окружившей меня действительности, – это ускорить время или повысить уровень». И я не подумал тогда, что это опять о спорте: секунды, сантиметры, килограммы… что за таблица мер и весов?! Менделеев – с секундомером и динамометром в руках: ровно сорок градусов! Зачем так надрываться?.. Потому что выпил рюмку или для того, чтобы ее выпить? Разница принципиальна – преодолев принцип, ты его утверждаешь… Священен ли грех? Чур, сатана!
(Действительно, чур… прервался на этой строчке, а тут и Рождество – опять! – случилось. Вот рекорд! Две тыщи лет не побит).
Меня всегда интересовала планка. Не та, что орденская, а то, что дрожит и не падает, когда прыгун преодолел высоту. На грудь ее не наденешь, она остается за спиной, пока ты неловко кувыркаешься на матах, приземлившись. Владимир Высоцкий, наверное, завидовал тому же: «У всех толчковая левая, а у меня толчковая правая». Он и про бокс, и про альпинизм пел… Тоже, поди, спортсмен-неудачник был.
Или штанга… казавшаяся мне максимально тупым видом спорта. Эта груда мяса, корчащаяся и пердящая от непомерного веса… Пока я Юрия Власова не увидел. А ведь тоже линия! Тот же уровень! Выше головы или над головой?
За спортсменами никто не подозревает интеллектуализма, а зря. Вот об уровне с ними как раз интересно поговорить. Это они как раз понимают не хуже, чем ученые и поэты. Рекордсмен, зависнув над планкой выше головы или удерживая судорогой всего тела неподъемный уровень над головой, тоже заглядывает туда, куда никто до него не заглядывал.
Там – тьма и риск. Там – победа. Поэт и ученый тут бок о бок, как на плакате: один – перелетает, другой – приподнимает подол тайны.
У меня был еще шанс стать хотя бы великим альпинистом (Эверест еще не был покорен). В двенадцать лет я впервые увидел Эльбрус, и влюбился в горы с силой первой любви, и уже в 1953 году, только что получив паспорт, стал самым молодым альпинистом СССР. И я бы высоко зашел, если бы не встретил и впрямь любовь первую. Дружба не победила любовь.
Запоздалое развитие… в обратном порядке: с восемнадцати я стал разменивать свою накачанную форму на любовь, дружбанство, путешествия и литературу, и лишь к сорока годам у меня стала появляться некоторая координация движений, которой мне так не хватало, когда я был в форме. Теперь, когда я утрачиваю и то и другое, вдруг стал что-то понимать – болеть (если игра красивая): то теннис, то футбол.
Так на что же я смотрю? Какую модель мира или жизни вижу, когда болею?..
«…в чужой славе мы любим свой вклад…» – опять Пушкин.
Однажды я так подошел к теме: мол, рекордсмены и чемпионы, – это два разных человека, две противоположных психофизики. Чемпион жаждет победы сейчас, рекордсмен хочет превзойти всех. Бывает, рекордсмен не побеждает чемпиона, а чемпион так и не устанавливает рекорда. Так Жаботинский победил Власова, а Роберт Шавлакадзе – Валерия Брумеля. То же с Бубкой. То же с Виктором Санеевым (правда, в четвертый раз).
Как я понимаю Боба Бимона, прыгнувшего на 8 м 90 см с первой попытки, перекрыв сразу на полметра десятилетия державшийся рекорд, поцеловавшего, перекрестившись, дорожку и ушедшего навсегда из спорта!
Но я не Боб Бимон.
Я предпочитаю серебро: вторые – проницательнее. Они не могут стать первыми и потому становятся единственными. Впрочем, иногда и рекорд выводит в чемпионы… золото!
Так один молодой рыжий мечтал стать футболистом и летчиком, и это было ему не дано – порок сердца, – пришлось стать поэтом и получить Нобелевскую премию. Спорт бросить невозможно, даже если ты им не занимался. «Победила наша команда!» – с гордостью заявил он в первом же интервью, имея в виду тех несчастных, с кем начинал в Ленинграде. Команда… недоступный футбол. «Я самый молодой Нобелевский лауреат!» – первым делом похвастался он мне в Нью-Йорке. Не могу сказать, что меня так уж распирала зависть, но я сказал: «Нет, тут все-таки серебро. Камю был младше». Иосиф не мог скрыть своего огорчения.
Если я не играл в футбол по тупости, а Иосиф – по сердцу, то нашему общему другу и герою моей повести Генриху III, все это было дано (его даже приглашали в команду мастеров); он и до сих пор не может перестать быть героем: как влез в 1961-м в жерло Авачи, так и вылез вчера из вулкана в Никарагуа.
Он был нашим общим другом, но дружили мы с ним по отдельности, как бы с разных сторон: для меня он был одногоршечником по пионерлагерю и Горному институту, для Иосифа – поклонником и человеком своего круга (Генрих собирался взять его в экспедицию на Камчатку, но не получилось). Примечательно вот какое воспоминание…
«Путешествие к другу детства» было опубликовано в альманахе «Молодой Ленинград» за 1966 год. Тогда же я столкнулся с Иосифом на Невском проспекте и он отвел меня в скверик: «Надо поговорить». О чем бы это? Оказалось, о Генрихе. Иосиф уже прочитал мое «Путешествие…», и ему не понравилось. Мне и самому не очень нравилось, но я не хотел бы это слышать от других. Я надулся и сказал, что вещь была слишком заредактирована, что в оригинале лучше. «Все равно слишком однозначно, – заключил Иосиф, – меня интересует уже другой уровень». Этот «другой уровень» меня уже задел.
И медленно расходятся без драки:
Собака, будто нету петуха,
Петух, как будто не было собаки.
Писал Александр Кушнер в то же время.
Нас, как бы то ни было, печатали, Иосифа – нет.
Мы участвовали в городских соревнованиях, а он сразу собрался на первенство мира.
Примечательно в этом смысле другое воспоминание, через тридцать с лишним лет… 1988 год, Лондон, Королевское Географическое общество, поэтическое чтение: два Нобелевских лауреата Чеслав Милош и Иосиф Бродский и один арабский кандидат на ту же премию. Клубный, викторианский, чем-то родной имперский интерьер. Не слишком большой зал, своя публика.
Я был взволнован, но не поэзией, а географией. С детства бредил я путешествиями: у меня был свой «культ личности» – Пржевальского. Сталинский фильм о нем я просмотрел энное количество раз. Фильм заканчивался как раз триумфальным шествием Николая Михайловича по ступеням парадной лестницы того Географического общества, в котором я разглядывал сейчас скромный стенд с портретами великих путешественников, разыскивая Пржевальского. Нашел Грум-Гржимайло и Тянь-Шанского… и наконец! «Нашел?» – услышал я за плечом. И это был Иосиф. «Да! – радостно откликнулся я. – Пржевальский был моим кумиром». Иосиф хмыкнул: «И я на том же фильме сказал себе, что взойду по этой лестнице!»
Не однозначно ли это, Иосиф? Как тебе теперь мифы о том, что Сталин был сыном Пржевальского, а ты был назван в его честь? История как стадион для соревнований по поведению…
Вспомним наше время, то есть юность.
Мечтой Пржевальского была Лхаса. Он отправился достичь ее в пятый раз и так и не достиг, умер на берегу Иссык-Куля. Я почему-то не сомневался, что мне удастся осуществить его мечту («Русский с китайцем братья навек!» – пели мы на гастролях китайского цирка).
Рекордсмен СССР Илясов (1 м 99 см) десятилетиями не мог выполнить норматив мастера спорта СССР (2 м), и когда я в пятнадцать лет с первой попытки взял («ножницами»!) 1 м 55 см, то мне показалось, что через два года я преодолею два метра.
Единственный мировой рекорд в СССР принадлежал тогда Григорию Новаку в жиме (виду, впоследствии отмененному). Он прибавлял по полкило в год и посвящал свой рекордный вес Сталину.
И вот что любопытно: стоило приподнять железный занавес и выпустить наших спортсменов за границу (хотя бы и в Финляндию), как рекорды прямо посыпались, впрочем, поначалу по тяжким видам спорта (метание у женщин). Шел 1952 год, тогда-то я и начал свою атлетику, по собственной системе. Сталин все-таки умер, сыновья Новака подросли, и он ушел с ними в цирк на силовое жонглирование.
Но должен был случиться ХХ съезд, чтобы возникли Брумель и Власов. Стрельцов и Гагарин.
(Недавно я оказался на Новодевичьем кладбище по поводу внезапному и страшному: хоронили сгоревшую в собственной квартире на Страстную Пятницу вдову Даниила Андреева, великого путешественника по иным мирам. Было о чем задуматься! Я бродил меж могил и вдруг наткнулся на могилу знакомого – академика Бориса Викторовича Раушенбаха, создателя того топлива, что вывело Гагарина на орбиту… Каково же было мое удивление, когда соседней оказалась могила Валерия Брумеля! Две немецких фамилии, два борца с земным тяготением… «Бывают странные сближения», – сказал Пушкин.)
Что же такое тогда случилось, что Брумелю и Власову удалось сразу то (лучше всех в мире поднять планку и выше головы и над головой), что десятилетиями не давалось в нашей стране до них никому? Вопрос на засыпку. И ответ один: свобода. Хотя какая там свобода! Всего лишь надежда.
Однако уровень сразу был обозначен такой, что надежды другим не оставлял.
С китайцами поссорились, и Лхаса отдалилась на дистанцию Пржевальского.
Пришлось браться за перо.
Если не путешественниками и спортсменами, то скитальцами пришлось стать.
Спорт как текст и текст как спорт – тоже дубль.
Только текст – это личный рекорд, а не соревнование за первое место.
Литература – это не профессия, а состояние текста. Состоялся – не состоялся… Текст – это то, чего не было, а потом есть всегда. Все, что не подходит под это определение, текстом еще не является. Время – беспощадный судья.
Все настоящие тексты – рекорды.
Спортсмен ли Стерн?
Стерн не спортсмен.
Есть абсолютные рекорды –
Сраженье с мельницею есть
Не то, что бить друг другу морды.
Пройдут века, пройдут народы,
И только собственная честь
Лишь после смерти входит в моду.
Сервантес левою рукой
Писал копье и рвался в бой.
В бою бессмертны только бредни,
И не дописан «Тристрам Шенди».
(4.7.05)
Итак, интеллектуализм и свобода оказываются в основе эволюции спорта.
Когда я думаю о будущем спорта, то все чаще, что дисциплины спорта в ХХI веке отойдут, доведя до человеческого предела сантиметры, секунды и килограммы, уступив пока что экзотическим и экстремальным – фристайлу и серфингу всякого рода: координации владения центром тяжести, то есть гармонической общей ловкости – свободе и красоте, то есть стилю. А то что такое? Один бегает, другой прыгает, третий железки ворочает… Неестественный отбор. Выращиваются из людей кенгуру и медведи – зоопарк какой-то.
Возможности человека эксплуатируются и преувеличиваются – как операции на конвейере: один гайку крутит, другой гвоздь забивает… Молодым это уже не нравится. В спорте их начинает манить не карьера, а свобода.
На моих глазах отмирал жим, хоккей с мячом, отмирает ходьба… Марафонский бег и десятиборье сохраняются как дань античности. Зато возникает вдруг стрельба из лука.
Мы вступили в эпоху, когда уже виды спорта борются между собой: вольная борьба с классической, самбо с дзюдо, бокс с карате, – косясь в сторону еще более редких единоборств. Идет разговор о введении в олимпийскую программу то тенниса, то гольфа, то бильярда, то бриджа.
Иногда мне нравится человек: он все-таки хочет подчинить себе порожденные им технологии, освободив их для себя. Спорт все-таки высвобождает возможности, а не закрепощает их.
Ибо на что мы смотрим и за что болеем? что со-переживаем?
Восхищаясь, мы не завидуем – вот урок! Еще Пушкин говорил: «Зависть – сестра соревнования, следственно из хорошего роду».
Описав эту мертвую петлю опыта, я объединяю здесь две давние повести в одну книгу, как бы сам начав понимать, о чем все это. Это уже третий дубль (после «Дачной местности» и «Путешественника»). Этот дубль – о спорте. Как вопрос и ответ. «Путешествие к другу детства» – это как бы психология соревнования: двух характеров, спортивного и неспортивного; «Колесо» – это уже физиология состязания, его состав. Вместе получается что-то вроде психофизики спорта. Обе повести, хотя и относятся по жанру к путешествиям, по форме являются наиболее игровыми, что, по пониманию автора, органично для самого предмета описания.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!