Текст книги "И все-таки жизнь прекрасна"
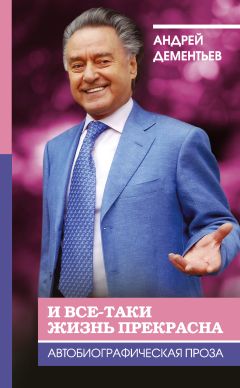
Автор книги: Андрей Дементьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В те карьерные и приспособленческие времена, когда о Ленинской премии мечтали многие литераторы, – это был поступок, говоривший о писательской честности и нравственной неуязвимости Бориса Полевого. А теперь его имя вычеркивают из энциклопедий, главную книгу всей его жизни – «Повесть о настоящем человеке», посвященную мужеству и духовной отваге простого русского летчика, старательно забывают, словно и не было в нашей истории Героя Великой Отечественной войны отважного летчика Алексея Маресьева. Повесть исключили из школьных программ, как будто вечным духовным ценностям – мужеству, честности, милосердию и любви к родной земле – уже нет места в нашей жизни… Мало того, даже бывшие авторы «Юности», кому Б. Н. Полевой открыл дорогу в литературу, позволяют себе неблагодарно и непочтительно вспоминать своего первого редактора. Перелистывая недавно книгу Галины Щербаковой, чья повесть «Вам и не снилось» появилась в «Юности» благодаря Полевому, я с удивлением узрел в ее предисловии такую мелкую мещанскую развязность, которая никак не совмещается с образом Бориса Николаевича и не делает чести его младшему коллеге. О мертвых или хорошо или никак. Щербакова решила, что можно «как». Цитирую. «Певец безногого героя, преодолевшего все и вся… (это о Полевом и Маресьеве) с ярко-зеленым шарфиком на шее и с боковым бантиком не оставлял места для сомнений: дедушке-редактору хотелось быть красивым в свои семьдесят, хотелось быть молодым…» (это о Полевом, перед которым в те времена так трепетала начинающая беллетристка). И вот этот «молодящийся дедушка-редактор», к тому же, по подозрению все той же Щербаковой, красящий басмой свои непослушные волосы, вдруг на полном серьезе признается молодому автору (к тому же женщине), что он не трус, ибо был под Сталинградом, и тем не менее очень боится напечатать ее повесть. А повесть рассказывала всего лишь о несчастной любви. И не более того. Если бы я не знал и не дружил с Полевым многие годы, и если бы не работал в это время рядом с Борисом Николаевичем, я бы мог допустить, что писательская фантазия Щербаковой просто забавна… Но в том-то и дело, что все рассказанное ею не в характере Полевого, который никогда не стал бы так говорить о себе и о войне, как это представила Щербакова, ибо война для него была столь свята, что ссылаться на нее при чужом человеке, да еще по такому частному поводу, мудрый и ироничный Б.Н. не стал бы. Напечатавший за время своего редакторства немало смелых и острых произведений, одолевший нападки на журнал в самых высоких тогдашних инстанциях, в том числе и с трибуны партийного съезда, Полевой не мог столь панически отнестись к женской повести Щербаковой, как о том рассказывает нам автор, дождавшись, когда главный редактор уже не может опровергнуть ее или хотя бы защититься.
А что касается частностей – одежды, внешнего вида, прически и привычек, то Полевой был слишком консервативен и небрежен, чтобы думать о том, как он выглядит и какое производит впечатление. Помню, как-то он зашел ко мне (кабинеты наши были напротив) в своем любимом вельветовом костюме и… в носках. Я спросил: «Что это вы так налегке, Борис Николаевич?» Он засмеялся. «Попал под дождь. Штиблеты намокли. Пойдемте ко мне, выпьем сливовицы. (У него «всегда было».) А то ведь заболею, и вам одному придется отдуваться». Потом я вызвал машину и отправил его домой сушить «штиблеты».
Однажды мы опоздали с ним на пленум Союза писателей в Колонный зал. Мест не было. Полевой уселся прямо на ступеньку около двери. Он вообще не признавал никаких условностей. Ходил по магазинам, на рынок. Не дождавшись машины, втискивался с кульками и пакетами в троллейбус. Мог с мужиками около ларька выпить свежего пива. Выросший в рабочем районе Твери, Борис Николаевич сохранил в себе эту народную потребность общения, привычку чувствовать себя везде своим.
И в то же время он был очень жестким, когда дело касалось его литературной позиции, верности жизненным принципам. Не любил «ловкачей», как он называл карьеристов и подхалимов. Об одном молодом писателе резко изменил свое мнение, когда тот совершил несколько походов к крупным писателям с неприличной просьбой помочь ему занять завидный литературный пост. С этим же пришел он и к Полевому. «Ловкач», – грустно усмехнулся Борис Николаевич, когда тот покинул его кабинет. – И больше не жаловал этого автора.
В то время меня стали часто приглашать на телевидение. В разные программы. Популярные и не очень. «Огонек», «Добрый вечер, Москва», поэтические вечера, музыкальные шоу. Экран сделал меня популярным и узнаваемым. Полевой как-то по-отечески предостерег:
– Не разменивайтесь… Это опасно.
– Почему? – наивно удивился я.
– Потому что на поверхности, – грустно сказал Борис Николаевич.
Мы часто ходили с Женей Мартыновым обедать в ресторан «София», который находился под нашей редакцией на первом этаже. Иногда спускался туда и Борис Николаевич. Там всегда были очереди. Но меня знали, и по-соседски столик всегда был обеспечен. Как-то вечером Полевой пришел в «Софию» поужинать со своим гостем – министром культуры Словакии. На дверях висела табличка – «Мест нет». Борис Николаевич постучал в дверь. Швейцар был неумолим – «Мест нет». И вдруг Полевого увидел проходивший мимо метрдотель и на ходу сказал швейцару:
– Пропусти деда. Это знакомый Дементьева.
На другой день Борис Николаевич, похохатывая, рассказал мне о своем походе в «Софию», и я почувствовал себя мелким узурпатором. Слава Богу, наши отношения от этого конфуза не пострадали. Да и не могли пострадать, хотя его писательское самолюбие было уязвлено, да к тому же в присутствии зарубежного гостя. Но Полевой никогда не был мелочным человеком. Позже между нами случались действительно серьезные трения и разногласия, и всегда Б.Н. находил компромисс. Особенно сложная ситуация возникла вдруг после того, как Василий Аксенов принес в редакцию свою новую повесть «Золотая наша железка». Я прочел и высказался за публикацию. Вначале Б.Н. тоже был хорошо настроен, несмотря на то, что повесть была не в его вкусе – слишком далека от соцреализма. Некоторые члены редколлегии, и в частности Мария Павловна Прилежаева, поддержали меня. А потом что-то случилось. Полевой вдруг резко высказался против. Об этом узнал Аксенов и забрал рукопись. У меня с Борисом Николаевичем состоялся очень неприятный разговор у него дома. Наверное, я был излишне резок, потому что главному стало плохо с сердцем. Я капал ему валерьянку в рюмку и чувствовал себя чуть ли не убийцей…
Вскоре после этого мы случайно встретились с Аксеновым за городом, где наши дачи были по соседству. Я знал, что он собирается уезжать из страны. Мы шли с ним по широкой, обсаженной деревьями главной дороге писательского поселка, говорили обо всем, но только не о предстоящей эмиграции.
Насупившись вдруг, Василий сказал мне:
– В «Юность» я больше ни ногой. – И хитро улыбнувшись, добавил: – Пока ты не станешь главным. И пока не напечатаешь мою «Железку».
– Имелась в виду та повесть, которую отверг Полевой.
Забегая вперед, скажу, что я напечатал ту злосчастную рукопись, из-за которой Аксенов поссорился с Борисом Николаевичем и со своим родным журналом. Так же, как потом были опубликованы у нас и его романы «Остров Крым» и «Московская сага».
Помнится, в августе 90-го года мы с Аней Пугач прилетели на несколько дней в Вашингтон. Созвонились с Васей, встретились. Они с женой собирались уехать на неделю в Нью-Йорк и неожиданно предложили нам пожить в их уютной квартире и даже оставили ключи от машины. В то непростое время еще никто из бывших друзей Аксенова не рисковал общаться с политическим эмигрантом. Даже бывая в Вашингтоне, его именитые советские коллеги старались не звонить и не встречаться с ним. Я почувствовал тогда, что эта боязливая осторожность очень обижала его.
В просторных аппартаментах Аксеновых было много книг. Мы с Аней снимали с полок томики запрещенных в Советском Союзе писателей, в том числе и бывших и будущих авторов «Юности», и мысленно благодарили Васю с Майей за возможность продолжить общение со знаменитыми нашими соотечественниками – Владимиром Максимовым, Георгием Владимовым, Львом Копелевым, Андреем Синявским, Анатолием Гладилиным…
А потом, когда хозяева вернулись, нам посчастливилось попасть на лекцию Аксенова в местном университете Джордж Мейсон, которую он посвятил русской литературе. Студенты были очень активны, что меня немало удивило, потому что мы с Аней за год до того проехались с телегруппой по другим университетам Америки, и впечатления от встреч с молодежью были не столь восторженные. Но Вася сумел так увлечь своих слушателей, что время лекции пронеслось незаметно. И самым удивительным оказалось то, что, перемежая английскую речь русскими цитатами из классики, Аксенов чувствовал, да и мы тоже, полное единение с аудиторией.
Жили Аксеновы довольно скромно. Думаю, что это был скорее избранный стиль, а не стеснение в средствах. В один из дней Майя предложила нам поехать за город в так называемый «мол», где все товары были намного дешевле, чем в обычных магазинах. По тому, как наша спутница свободно ориентировалась в бесконечных отсеках, я понял, что она здесь свой человек… Жену Аксенова я знал еще по тем временам, когда она была Майей Кармен. И во все времена она оставалась красивой, доброжелательной и легкой в общении.
Будучи профессором, Аксенов получал, по нашим представлениям, немалые деньги – 80 тысяч долларов в год… Но позже выяснилось, что при всех американских налогах и дороговизне это не так уж много, чтобы жить независимо и широко, как и пристало известному писателю. А книги не давали больших заработков, поскольку и тиражи и гонорары были невелики. Кроме того, как я не раз убеждался, бывая в США, что читать там не очень любят. Вот и приходилось знаменитому литератору состоять на службе. Правда, через несколько лет Аксенов получил звание фулл-профессора, что пожизненно закрепляло за ним существующую зарплату.
За прощальным ужином я спросил Василия, почему он избрал для себя именно Вашингтон, а, к примеру, не Бостон, где находится один из лучших университетов Америки – Гарвардский. Или Нью-Йорк – радужную мечту всех эмигрантов. Он со своей неизменной добродушной ухмылкой коротко пояснил:
– Я очень люблю Европу. Париж, например. А Вашингтон – это единственный город в Штатах, который похож на европейский мегаполис. Очень спокойная размеренная жизнь и нет этих чудовищных небоскребов. Мне здесь хорошо…
Это почти не расходилось с описанием Америки, которое я вычитал в одной из его лучших лирических книг – «В поисках грустного бэби»…
Но перед этим были нелегкие годы отчуждения и запретов. Мы прорвали их, напечатав обстоятельное интервью с опальным писателем, когда даже сам Василий Аксенов не верил, что в Союзе его могут вернуть в отечественную литературу.
А началось все с командировки в США корреспондента «Юности» Анны Пугач в 1988 году. Она встретилась с Василием Павловичем и взяла первое интервью для отечественного издания. Потом Аксенов и сам появился в Москве. Аня сопровождала писателя в Казань, где прошло его детство и откуда была выслана в лагерь Евгения Гинзбург – его мать, замечательная писательница. «Юность» опубликовала ее горькую книгу о страшных годах заточения – «Крутой маршрут».
Сейчас все это просто рассказывать, как будто не было ни угроз, ни запретов, ни постоянных стычек с цензурой и партийными чиновниками. А тогда… Сколько нервов, здоровья, времени приходилось тратить на то, чтобы доказать свою правоту, которая в конечном счете утверждалась столь дорогой ценой. Помню, как после моего решения напечатать роман Фазиля Искандера «Кролики и удавы» меня предупредили в цензуре, что «будут бить до кровавых соплей». Но роман мы напечатали. Шел 1987 год.
А когда я поставил в номер повесть Юрия Полякова «Сто дней до приказа», уже «нахлебавшись» в инстанциях за его предыдущую вещь – «ЧП районного масштаба», мне позвонили из Главного политического управления Советской армии и предупредили, что готовят на журнал письмо в Политбюро. Я нагло попросил прислать копию этого письма на предмет его публикации вместо послесловия к повести Полякова. Копию не прислали, а повесть мы напечатали.
Времена менялись. Но еще трудно завоевывали свои позиции гласность, свобода слова, независимость общественного сознания.
Когда Борис Васильев – наш постоянный автор и друг журнала принес свою новую повесть «Завтра была война…», цензура накинулась на нее с невероятным остервенением. Потребовала исправлений и доработки. Борис Львович доверился редакции. По согласованию с ним мы сделали все, чтобы спасти повесть. Занимался этим ответственный секретарь редакции Алексей Пьянов. И вдруг тогдашний секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин, отвечавший за печать, наложил «вето». От переживаний и обиды Полевой слег в больницу. Васильев надолго ушел от нас…
Прошло какое-то время… Бориса Николаевича уже не стало. Мы вернулись к отвергнутой рукописи. У меня были по ней некоторые замечания, которые я высказал Васильеву. Они касались всего лишь временных соответствий главных событий в повести. Автор согласился и вскоре принес доработанную рукопись. Я прочел ее за ночь и утром отправил в набор.
После выхода журнала были поставлены спектакли по этому произведению – в Москве и в Риге. Успех был невероятный. Письма, звонки, читательские конференции, интервью. Как-то мне позвонил бывший сотрудник нашей редакции И. Винокуров, который в свое время придумал название первой васильевской повести – «А зори здесь тихие», и сказал – «За повесть «Завтра была война» «Юности» надо поставить памятник…»
Но нерукотворных памятников нет. Хотя столько было опубликовано ярких, правдивых, талантливых рукописей. Видимо, время такое, когда не обязательно помнить добрые дела.
На этом можно было бы поставить точку. Но недавно мне попалась книга воспоминаний Бориса Васильева «Век необычайный» (Москва. Вагриус, 2003), где он совершенно иначе воспроизводит ту далекую историю с публикацией повести «Завтра была война».
Цитирую: «Рыдавший над нею (над рукописью) Дементьев […] не мог ее защитить. Повесть «Завтра была война» пролежала в столе до горбачевских времен. Тогда и была напечатана. Без купюр».
Ничего подобного. Тут все неточно. Во-первых, свою повесть, как я уже писал, Васильев принес в редакцию еще при прежнем руководстве – при Б. Н. Полевом. И главный редактор при всем своем авторитете и умении ладить с начальством, не смог тогда ее напечатать. Уже после смерти Бориса Николаевича я снова вернулся к васильевской рукописи. И мы напечатали ее. Но не при М. С. Горбачеве, как это пишет Васильев, а задолго до его прихода к власти – в июньском номере «Юности» за 1984 год. Приурочив ее к шестидесятилетию писателя, которое только что отметила вся страна. И фраза «Без купюр» тоже не точна. Повторяю – Борис Львович, видимо, забыл, что мои замечания о временных несоответствиях событий в повести он принял и действие ее перенес из военного времени в страшные тридцатые годы. Что исторически было оправдано.
Мне стоило немалых трудов успешно завершить затянувшуюся историю с публикацией повести «Завтра была война». И наши отношения с известным писателем еще более укрепились. Он был благодарен мне, что я отстоял эту повесть. И потому меня крайне удивило его неожиданное признание в книге «Век необычайный», что я не мог защитить его повесть.
Эти слова не только перечеркивают наши дружеские отношения тех лет, но и вошли в полное противоречие с тем, что позднее (уже после многострадальной публикации) написал Борис Васильев в своем открытом письме ко мне, которое было опубликовано в «Литературной газете» в июле 1988 году – в дни моего юбилея. Привожу его целиком, потому что пытаюсь понять, где же мой коллега был более искренен – в те нелегкие дни нашей общей борьбы за независимость литературы или позже, когда я уже ушел из журнала «Юность».
Письмо гражданину Андрею Дементьеву
в день его шестидесятилетия
Дорогой Андрей!
Ночью была гроза, небо грохотало миллионами нерастраченных вольт, мокро шумел лес за окном, а дождь лил и лил, будто новый Потоп пришел смыть скверну с лица нашей земли. Все было библейски преувеличенным, как в детстве, с меня вдруг спала короста пережитого, я снова увидел синие молнии и белый ливень, а когда стали удаляться тяжкие раскаты грома, услышал, как завопили птицы на все голоса, и вспомнил о тебе.
У меня странное чувство, будто я знаю тебя с детства. Это мы с тобой спотыкались о тела погибших от голода мертвоглазых детей, бегая в первый класс. Это мы до слез всматривались в вечную ночь Тридцать Седьмого, глядя, как заталкивают в «воронок» родителей нашего друга. Это мы в фанатическом исступлении кричали «Ура!» портрету Сталина на звонких первомайских демонстрациях. Мы метались в бесконечных окружениях Сорок Первого, мы гибли в Подмосковных снегах вместе с ополченцами в стареньких черных пальто. Мы жевали бессильными деснами бесценную пайку Ленинграда в то самое время, когда Жданов А. А. начал полнеть от недостатка движения. Мы умирали в окопах Сталинграда, форсировали Днепр и в конце концов прочеканили шаг на Параде Победы. Мы. Все вместе. Весь народ. Ибо мы – это и есть наша история.
Я не хочу расточать тебе юбилейных комплиментов, но ты один из первых понял, что Сталин пророс в каждом из нас, как анчар, и с давно позабытой многими гражданской яростью пропалываешь наши души от ядовитого Древа Незнания. Ты сделал иным журнал; твоя «ЮНОСТЬ» не похожа сегодня ни на «ЮНОСТЬ» Катаева, ни на «ЮНОСТЬ» Полевого. Ты открыл непримиримого публициста в уравновешенном Володе Амлинском, твой журнал первым дерзнул сбросить завесу армейских тайн в «Ста днях до приказа» Полякова, а майский номер «ЮНОСТИ» рвут друг у друга из рук, ксерокопируют и перепечатывают. И я горжусь нашим журналом, твоей дружбой и своей сопричастностью к важнейшей странице твоей биографии. Мы обязаны высвечивать для нашей юности все темные углы, ибо именно там и прячутся крысы, грызущие ее память.
Сын моего друга, путешествуя в прошлом году по Восточной Сибири, севернее станции Чары набрел на остатки лагеря. Он видел рухнувшие сторожевые вышки, сотни выстроенных в линию бараков с провалившимися крышами, тысячи алюминиевых мисок, груды полусгнившего тряпья, горы деревянных башмаков. Тайга медленно затягивает эту лепроидную язву, но птицы до сей поры облетают ее стороной, и в смердящем прахе снуют только крысы: ведь в крысах странным образом олицетворилось само то время, и для меня крыса – тотем Сталина. Крыса, ибо не лев он был и даже не шакал.
Знаешь, все мы, естественно, счастливы, что страшные места заточений исчезают с лика нашей земли, и все же тревожная мысль не дает мне покоя: а не стоит ли сохранить потомкам в назидание хотя бы один сталинский лагерь уничтожения? Подобрать наиболее удобный для посещений, восстановить, собрать там одежду и утварь, пока еще живы те, кто может проинструктировать будущих экскурсоводов. Конечно, это потребует денег, так почему бы нам не создать Фонд Справедливости? Убежден, что нашим наследникам необходим не только Мемориал, но и зримый, вещественный музей тех тайных, крысиных времен, и Могила Неизвестного Коммуниста, к которой в День Поминовения (а он будет, я уверен!) счастливые потомки наши могли бы положить цветок.
Извини, дорогой друг, получилось не очень-то юбилейно, но мне хотелось остановиться на той грани твоей личности, которая искренне восхищает меня сегодня. Ты проложил руководимому тобой журналу курс на гражданское совершеннолетие, и это представляется мне самым главным твоим деянием. Новое время требует нового авангарда, и я бесконечно рад видеть тебя в его первой шеренге плечом к плечу с гражданином Виталием Коротичем, гражданином Егором Яковлевым, гражданином Юрием Афанасьевым, гражданином Федором Бурлацким и многими, многими другими…
Здоровья тебе, точного глаза и твердой руки, дорогой мой «шестидесятник»!
Обнимаю.
Твой Б. Васильев.Передано в «ЛГ» 11 июля сего года.
Хотя, справедливости ради, должен сказать, что в 92-м году, в период «раскола» нашей редакции, многолетний автор и член редколлегии «Юности» Б. Васильев был принципиален и честен в своем отношении к нашему детищу и в знак протеста против конъюнктурных потуг «раскольников», ушел вместе со мной и всей редколлегией из журнала… Тем более мне непонятна его поздняя позиция.
* * *
Однажды Владимир Войнович поразил нас всех своим романом о солдате Чонкине. Я понимал, что напечатать его будет непросто. И потому, объявив в «Литературной газете», что в будущем 1988 году «Юность» начнет публикацию нового романа Войновича, срочно опубликовал первую часть в 12-м номере 1987 года, нарушив журнальный этикет и обманув бдительное начальство. Уже позже, когда роман был полностью напечатан в журнале, секретарь ЦК КПСС по идеологии В. А. Медведев на нашей встрече с Генеральным секретарем М. С. Горбачевым просил меня зайти к нему, чтобы объяснить, как попала в редакцию «крамольная повесть» Войновича. Но все обошлось.
Правда, произошел курьез с оформлением. Еще до появления в «Юности» второй части романа помощник Горбачева как-то с ехидцей спросил меня:
– Ты смотрел иллюстрации к Войновичу?
– Смотрел. А что?
– Как что?! Капитан Миляга – вылитый Егор Кузьмич Лигачев. – Надо сказать, что этот самый Миляга – отрицательный тип в романе, капитан КГБ. А Лигачев в то время был вторым человеком в государстве.
На всякий случай я вызвал на другой день своих художников и попросил показать мне рисунки к следующей части романа. Принесли. Я глянул и невольно рассмеялся. Главная героиня Нюра – невеста Чонкина – была вылитая молодая Крупская. «Ребята, – говорю я художникам, – вы чего, охренели, что ли? Я с таким трудом и такой хитростью пробил эту рукопись, а вы мне подножку ставите… Исправляйте!» Исправили. Но с того дня я стал внимательно смотреть иллюстрации, потому что художники в журнале были молодые и очень озорные. Однажды один из них – Андрей Сальников – на всю страницу «Юности» нарисовал нашу юную сотрудницу в образе персонажа опубликованного рассказа. А потом на ней же и женился…
Впрочем, история с творчеством Войновича на этом не закончилась. Володя вскоре прислал нам из Германии, где он в то время жил в эмиграции, вторую книгу романа о Чонкине, прочитав которую я очень огорчился. Новая рукопись не шла ни в какое сравнение с уже опубликованной. Свои сомнения я высказал автору. Он расстроился, естественно. Начались дипломатические дискуссии, переговоры, пошли письма, ходатаи, телефонные звонки…
Вот одно из писем Войновича.
«Дорогой Андрей! Пишу тебе за короткое время уже третье письмо по одному и тому же поводу. Я пытался подготовить отрывки из «Претендента на престол» для одного номера «Юности» и беспощадно выбрасывал из рукописи все, что возможно. Я сократил ее на треть, а больше не могу. Я очень прошу тебя прочесть книгу еще раз в переделанном виде. Она сильно отличается от первоначального варианта. И, честно говоря, не думаю, что она по своим литературным качествам недостойна «Юности». Некоторых смущает, что в книге мало Чонкина, но его отсутствие соответствует замыслу.
Сейчас я пишу третью книгу, в которой будет одна часть о Нюре без Чонкина (хотя Чонкин будет в ее воображении), потом вторая часть о Чонкине без Нюры, и потом третья, где они снова сходятся.
Мне, право, ужасно не хочется на тебя и на редколлегию как-то давить, но положение складывается довольно нелепое. Если тебе понравится (представим!) третья книга и тебе захочется ее печатать, что получится? Одна книга напечатана, другая – нет. Третья – да?
Пожалуйста, подумай еще раз и реши.
Желаю всех благ и дружески жму руку. Володя Войнович».
Я прочел повесть в сокращенном виде. Подумал, как просил автор, и рукопись мы опубликовали. Но я оказался прав. Успеха не было. Ни писем, ни шума, ни критических баталий.
Случались и горькие истории. В 1987 году по просьбе писателя Виктора Некрасова, автора замечательной книги о войне «В окопах Сталинграда», мне передали его повесть «Городские прогулки». Виктор Платонович был в немилости у советской власти. Его выслали из СССР, и он жил в Париже. Подписывал там «крамольные письма», ругал коммунистов, давал сомнительные интервью… Но писатель он был замечательный. И эта повесть – грустная, романтическая – тоже выделялась своей искренностью и художественной глубиной. Я позвонил ему и сказал, что буду печатать. Он не поверил. И не зря. Повесть остановили. Шло время. Я добрался до Политбюро. Меня попросили прислать четыре экземпляра верстки – для Горбачева, Лигачева, Яковлева и Лукьянова. Вскоре «высочайшее» разрешение было получено. Виктор Платонович уже знал, что повесть печатается (я послал ему в Париж верстку), но он не дожил до ее выхода нескольких дней…
Много позже я побывал в том романтическом городе, где завершилась его долгая и трагическая жизнь. Мы сидели с Анатолием Гладилиным, тоже известным в свое время автором «Юности» в кафе «Монпарнас», где любил бывать Некрасов, и грустно вспоминали своего коллегу.
Он в этом зале принимал гостей.
Здесь у него был постоянный столик.
Среди газет, тоски и новостей
Уж он-то знал, чего разлука стоит.
…Плывет над взглядом сигаретный дым.
Он опускает голову все ниже.
…Мы в память о Некрасове сидим
За тем же самым столиком в Париже.
А сколько историй связано с Андреем Вознесенским! Помню, он принес в редакцию свою поэму «Ров» – страшную летопись человеческого изуверства и низости. Напечатать ее оказалось нелегко. Слишком уж неприглядной выглядела наша жизнь на фоне тогдашнего официального оптимизма. К тому же автор резко критиковал власть за сокрытие преступлений. В общем, черноты хватало, чтобы погасить наши надежды на публикацию. Я ходил в главлит, доказывал, цитировал, защищал… К счастью, и там были люди думающие и смелые. Немного, но были. И один из них – очень образованный филолог Владимир Алексеевич Солодин. И поэму Вознесенского «Юность» напечатала.
Вот что писал об этом сам Вознесенский в книге «На виртуальном ветру»:
«Будучи редактором «Юности», он (Дементьев. – А.Д.) взял на себя публикацию поэмы «Ров», в которой повествовалось о разграблении сегодняшними вандалами еврейских захоронений в Крыму. При свете фар они вырывали золотые зубы, сдирали с костей кольца, раскопав трупы двенадцати тысяч людей, когда-то расстрелянных гитлеровцами.
…На еврейскую тему существовало государственное табу. Саша Ткаченко с друзьями, рискуя, добыл для меня тайные документы. Собственно, поэма не была эстетическим шедевром, она была средством обнародования этой жуткой правды. Может быть, поэма предсказала преступное нутро советского человека, приведшее сейчас к криминальной революции. Понятно, что власти вели борьбу против поэмы на уничтожение».
А начинались наши добрые отношения с Андреем очень напряженно и тяжело. Осенью 1968 года я возглавил в издательстве «Молодая гвардия» редакцию современной советской поэзии. Из огромного потока рукописей отобрал три, которые решил сам редактировать, – «Четки лет» Расула Гамзатова, «Тень звука» Андрея Вознесенского и «Избранное» Булата Окуджавы. С Гамзатовым все было просто – книга вышла в срок, и кавказский классик был доволен нашей совместной работой. Книгу Окуджавы задержали. Об этом я расскажу отдельно. А вот с Вознесенским мы сразу пошли друг на друга в штыки. Я снял из его рукописи несколько стихотворений, посчитав их слабыми, повторявшими его прежние стихи. Андрей Андреевич прислал директору издательства В. Н. Ганичеву возмущенное письмо, в котором просил защиты, но поменять редактора не требовал. Прошло несколько дней. Однажды мы сели с Андреем и вновь вместе перечли рукопись. В чем-то он меня убедил. В чем-то я не согласился с ним. В 1969 году сборник вышел. В пятом томе собрания сочинений (Вагриус. 2002 г.) Вознесенский вспоминает о том периоде наших отношений:
«Вообще мне везет на людей с чистой аурой. Даже суровые натуры порой оборачиваются ко мне солнечной стороной.
Как мы враждовали с Андреем Дементьевым! Как я ошибался в людях!
Работник ЦК ВЛКСМ, назначенный редактировать мою книгу, казавшийся мне монстром и пижоном, он с ходу зарубил тридцать стихотворений. Я взбесился. Потом мы сели за стол переговоров, и я строка за строкой объяснил ему смысл моей эстетики. Вечерело. Оказалось, что он искренне считал, что мои метафорические сплетения – это лишь политический кукиш. Он понял, распахнулся. С тех пор мы на долгие годы крепко подружились. Он был предан поэзии. «Я ненавижу в людях ложь» – эта строка его была не лозунг, а жизненное кредо. За что он тяжко расплатился судьбой».
Но история с книгой «Тень звука» на этом не закончилась. Я уже работал заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ, когда мне позвонил свой человек из «Комсомольской правды» и сказал, что в редакции лежит разгромная статья на Вознесенского. Я поехал в «Комсомолку» и прочел очень злую статью на книгу «Тень звука». Статья была поверхностна и несправедлива. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить ее. В тот же день ко мне прибежал испуганный главный редактор издательства «Молодая гвардия» Валя Осипов и сказал, что его вызывают в ЦК для объяснений по поводу книги Вознесенского. Я успокоил его: «Вали все на меня, старик… Во-первых, я редактор книги, а во-вторых, по своей должности мне положено курировать ваше издательство… Так что все зло от Дементьева». Валентин хорошо справился с возложенной на него задачей и вернулся от начальства успокоенный. Но шум продолжался. Мы встретились с Андреем, и я ввел его в курс дела, поскольку уже знал, что шумиху вокруг Вознесенского поднял всесильный в те годы, близкий Брежневу человек – председатель Всесоюзного Государственного Комитета по радио и телевидению Сергей Георгиевич Лапин. Кстати сказать, очень образованный чиновник, имевший одну из лучших поэтических библиотек в Москве. Именно он позвонил первому секретарю ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникову с упреками по поводу книги «Тень звука», которая, как ему казалось, была слишком формалистической и таила в себе скрытые антисоветские выпады. Зная все это, я посоветовал Андрею:
– Сходи к Лапину… Обаяй его, поговори с ним по душам, как ты умеешь. Старик поймет, что не прав, что плохо знал тебя и вообще заинтересуется…
– Ты думаешь? – усомнился Андрей. Но пошел. Все произошло, как я и ожидал. Мало того, Лапин предложил ему открыть в «Останкине» серию поэтических вечеров…
…Была зима, когда мы с Вознесенским прилетели в Дубулты на берег Балтийского моря. Я сидел в Доме творчества над новой книгой. Андрей отдыхал, гулял по воспетой им Прибалтике и готовился к предстоящему концерту на телевидении. Я всегда опаздывал на наши общие прогулки, которые Андрей очень любил. Шагая по замерзшим волнам моря, мой друг издали походил на Иисуса Христа, который вот так же шел когда-то среди живых волн озера Киннерет…









































