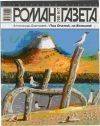Читать книгу "Дорога обратно (сборник)"

Автор книги: Андрей Дмитриев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
И был стол. Полковник Живихин привычно и уверенно им руководил, не допуская долгих пауз между тостами. Свой тост полковник приберегал до поры, когда выпито будет достаточно для того, чтобы пафос тоста был воспринят на самом высоком нерве, и все же еще не столько будет выпито, чтобы тост не был услышан вовсе… Пили за стены, пол и потолок воскобоевского жилья, пили за хозяев и в первую голову за хозяйку, чьи ручки сотворили этот выдающийся стол; легко предположить, какой выдающийся быт сотворят они в этих, пока еще не обжитых стенах. Пили за тех, кто в небе, и за тех, кто в море, пили за здоровье друзей, близких и далеких, и за кореша, который в Вюнсдорфе, тоже пили, ведь был он общий кореш, не только воскобоевский, и до того, как попасть в Вюнсдорф, служил в Хнове… Елизавета поспешила встать из-за стола и показать гостям сервиз «Мадонна», присланный из Вюнсдорфа в подарок к новоселью. Гости долго разглядывали пасторальные картинки на чашках, передавая их по кругу, не разбили ни одной и дружно выпили за сервиз… Почувствовав, что народ дозрел, Живихин встал и навис над столом. Начал полковник издалека. С того, как нелегко личному составу полка с жильем и бытом. Нужен нормальный военный городок, но вблизи аэродрома его не очень-то построишь. Куда ни глянь – озеро, болота, лесопосадки, а рубить лесопосадки нельзя, не для того их сажали. Хновский жилой фонд жалок, строят они медленно и могут выделить военным, к сожалению, не все из того, что строят. Хотя и входят в положение. Обещано, что в скором времени на улице Опаленной юности снесут все эти трухлявые избы, тем более что народ в этих клоповниках почти весь вымер по старости лет. Все, что построят там взамен, отдадут полку. То есть до поры придется терпеть и понимать. Отдельное жилье пока могут получить лишь немногие, самые достойные офицеры.
– …И вот к таким, то есть к самым достойным, имеет прямое отношение капитан Воскобоев, дорогой наш друг и товарищ, – сказал полковник Живихин. Одобрительное бормотание запорхало над столом, любящие лица разом повернулись к Воскобоеву. Возвысив голос, Живихин продолжил: – Мы тут все мужчины. Даже женщины наши в смысле мужества тоже мужчины. И мы не вправе обойти молчанием ужасное несчастье, не будем говорить какое… В детстве я как-то увидел кино, из-за которого, наверное, и пошел в летчики. Помните, там отличный парень, летчик, всех спасает, потом вдруг слепнет, но выдающийся профессор из Москвы возвращает его в строй… Видели это кино, еще довоенное? Его, между прочим, часто показывают.
– Видели! Видели! – загудело над столом. – Как же оно называется? Никто не помнит, как оно называется?
– Я тоже не помню, как оно называется, – сказал Живихин, – но последние слова в нем запомнил. Там командир части глядит в небо на самолеты – помните, они летят, – и говорит: «Хорошая у нас профессия»…
Все захлопали в ладоши. Живихин сказал:
– Должен от себя добавить – опасная профессия. От беды не застрахован никто из нас. Повторяю, никто не застрахован. – Живихин сделал паузу, и в голосе его зазвучало железо: – Но стране и небу над страной крайне нужны такие асы, как капитан Воскобоев. И я верю, что приземлился он ненадолго. За это приказываю выпить. Налить всем, у кого не налито, и выпить.
Перед тем как выпить, каждый подходил к Воскобоеву, чтобы чокнуться с ним, при этом женщины целовали его в щеку, а мужчины хлопали по плечу или же братски трепали за загривок. Когда на смену тостам пришло громовое пение от души, полковник Живихин подсел к Воскобоеву и тихо сказал:
– Слушай меня. Большой полигон – будущей осенью, то есть времени у нас уйма. Успеем все уладить. А пока терпи. Все. – Развернув к столу широкую грудь, полковник присоединился к поющим, и его тонкий пронзительный голос легко перекрыл басы, гремевшие в гулком жилье.
В три часа ночи гости принялись благодарить и прощаться. Воскобоев вышел во двор подышать. Сел на дощатый край песочницы и погрузил в нее руку. Привезенный недавно, песок был свеж и влажен, его живой запах еще не успел улетучиться – запах детства, запах сонной реки на рассвете. Огромный окунь прыгает на песке, беспомощно разевая пасть. Отец одобрительно кашляет и, не глядя на свой поплавок, достает из коленкоровой сумки термос и бутерброды. Когда Воскобоеву исполнилось девять лет, отец умер. В последние мгновения жизни он отчего-то заговорил о той рыбалке: о рассветной сырости, о несчастном окуне, о бутербродах с пошехонским сыром. Сидя на жестком бортике песочницы, Воскобоев попытался и не смог увидеть лицо отца – перед глазами расплывалось рыхлое гипсовое пятно, – но зато окуня, выброшенного на берег, он вдруг увидел до того ясно, что, казалось, смог бы пересчитать зубы в его пасти, разинутой от удушья… Вскрикнула дверная пружина, и хлопнула дверь; огонек сигареты поплыл во тьме. Майор Трутко приблизился к песочнице и уселся рядом с Воскобоевым.
Майор Трутко был книжник. Все на свете уподобляя хорошо известным и мало кому известным книжным историям, он искал во всем соответствие этим историям и, если не находил, мрачнел. Кроме того, он регулярно переписывался с московским литературным критиком Зоевым. Майор этого не скрывал, но стоило кому-нибудь, хотя бы и Живихину, спросить: «Как там твой писатель? Что-нибудь наклевывается?» – отвечал уклончиво: «Мы в полемике».
С некоторых пор он вообще стал уклончив, замкнут, но и подобрел, то есть возымел охоту утешать. Сидя на краешке детской песочницы, он утешал капитана Воскобоева:
– Мы, капитан, в большинстве своем подобны той лошади, у которой на морде висит торба с овсом. Лошадь всю жизнь, сколько себя помнит, тащит воз, жует овес и довольна… И вдруг у нее отнимают торбу, потом выпрягают и оставляют одну посреди прекрасного луга: давай, мол, пасись на свободе, скачи в табун, заслужила… А лошадь стоит как вкопанная, без воза шагу ступить не может, не видит вольного табуна, что резвится вдали, не чует сочной травы под копытами, – так и будет стоять, пока не околеет от голода и от тоски по оглоблям…
– Если мы в большинстве своем лошадь, – сказал Воскобоев, – то что же тогда табун?
– А это, надо понимать, те, кого мы прежде и не замечали. Человечество, вообще говоря.
– Табун – он и есть табун.
– Спорно, но я не о том сейчас. Я сейчас попробую еще раз тебе разъяснить… Кто-то, вроде бы сам Чехов, думал написать рассказ о собаке, которая была всю жизнь прикована цепью к своей конуре. А когда ее вдруг пожалели и спустили с цепи, собака принялась ходить вокруг конуры, вместо того чтобы бежать куда глаза глядят и резвиться, где ей захочется…
– Небо – не конура, и авиация – не цепь, – сказал Воскобоев, – и меня, собаку, не пожалели, а прихлопнули.
– Вы это «прихлопнули» так произнесли, будто вас рублем подарили, – обидевшись, перешел на вы майор Трутко. – Надулись вы своей бедой, как, честное слово, индюк… Вы, капитан, взгляните на жизнь иначе, чем привыкли: не сверху вниз, но и не снизу вверх – а попробуйте взгляните по сторонам. Командировку возьмите или отпуск, попутешествуйте. Книги хорошие почитайте. Одним словом, живите легко, не хмурьтесь, и в конечном итоге мы вам позавидуем.
– Как там ваш литературный специалист? Пишет, товарищ майор? – неприятно вежливо спросил Воскобоев.
– Мы в полемике, – ответил Трутко.
– О чем спор?
– О разном, – сказал Трутко. – В последнее время – о «Бедной Лизе».
– Рассказали бы вы, товарищ майор, что с этой Лизой стряслось.
И майор Трутко рассказал Воскобоеву историю бедной Лизы.
Вот эта история. Когда-то очень давно, быть может двести лет назад, в живописной местности под Москвой жила девушка Лиза. И никого у нее не было на свете, кроме мамы. Лиза была красивая, добрая и приветливая. И мама ее была добрая и приветливая. Жили они в бедности, но опрятно. Лиза продавала московским жителям букеты цветов, чтобы заработать на хлеб, а мама ткала полотно и содержала домик в чистоте и уюте. Однажды Лизу увидел московский юноша Эраст. Он был богат, знатен и хорош собой. Он увидел Лизу и сразу полюбил ее. Желая привлечь к себе внимание, он часто покупал у Лизы цветы. И Лиза полюбила Эраста. Маме Эраст тоже понравился, такой он был вежливый и воспитанный. Она поила Эраста молоком и разговаривала с ним о старине. Лиза и Эраст гуляли по живописным окрестностям и клялись друг другу в вечной любви. Эраст хотел жениться на Лизе, а Лиза обещала ему быть послушной и верной женой. Каждый вечер, простившись с Лизой, Эраст возвращался в свою Москву. Там, в Москве, вместо того чтобы думать о Лизе и, тоскуя о ней, разглядывать в тишине букеты полевых цветов, Эраст предавался бурным и бессмысленным удовольствиям светской жизни. Сердце у Эраста было доброе, душой он был предан Лизе, но изменить образ жизни не мог. Проводить время в пустых развлечениях было обязательным правилом тех людей, среди которых Эраст родился и вырос. За Лизу сватался богатый жених из крестьян. Лиза отказала ему во имя Эраста, хотя и понимала умом: чувства чувствами, а Эрасту она неровня. Тем временем отношение Эраста к ней переменилось. Он продолжал любить Лизу, но уже не той чистой, невинной любовью, как прежде. Добрый сердцем, но извращенный телом, Эраст хотел уже, чтобы Лиза ему отдалась. Потребовать этого у Лизы он не решался, и все же, благодаря победе плотского влечения над возвышенным чувством, перестал видеть в Лизе неземное существо. Лиза стала для него как все. К тому же она была крестьянского происхождения. Однажды Эраст объявил Лизе, что идет на войну. Лиза долго плакала, прощалась с любимым и боялась, что его убьют. Эраст сказал, что умереть за родину ему совсем не страшно, и за эти слова Лиза полюбила его еще сильнее. Как-то раз Лиза пришла в Москву продавать цветы и вдруг увидела Эраста. Оказалось, ни на какую войну он не поехал, а остался в Москве пить вино, играть в карты и соблазнять замужних женщин. Не зная ничего об этом, Лиза бросилась к нему в объятия, но Эраст прогнал ее. Он сказал, что скоро женится на богатой и знатной. На прощание он дал Лизе сто рублей. Не помня себя от горя и унижения, Лиза отослала эти деньги маме, а сама бросилась в пруд и утонула. Ее мама не смогла этого пережить и умерла. Когда Эраст узнал, что Лиза погибла по его вине, он горько плакал и уже до конца своих дней был несчастным человеком… Возможно, в загробном мире он когда-нибудь встретится с Лизой и она его там простит, – ведь если ум у Эраста и был легкомысленным, то душа его остается доброй.
– Красивая история, – сказал капитан Воскобоев. – Но не нужно меня утешать. И не нужно думать, будто я собираюсь быть несчастным до конца своих дней. А разве я сейчас несчастен? Я просто жду, когда все утрясется, а ждать скучно. Ты бы дал мне что-нибудь почитать, чтобы не было скучно.
– Что бы такое дать тебе почитать? – проговорил майор Трутко задумчиво и значительно. Воскобоеву не понравился его тон, он сказал:
– Ну и не надо, – встал и размял затекшую спину… Небо вздрогнуло от удара, будто в тяжелый колокол ударили; затем раздался тонкий и протяжный гул. Задрав голову, Воскобоев поискал глазами огни истребителя, преодолевшего звуковой барьер, и ничего не нашел на небе, даже звезд, стертых ночными тучами…
Когда Воскобоев вернулся в квартиру, Елизавета показала ему письмо, пришедшее с утренней почтой, но забытое в суматохе дня. На двойном, в косую линейку тетрадном листе ее мать желала дорогим новоселам, чтобы их дом поскорей стал полной чашей, и заодно спешила обрадовать: отец дал о себе знать. Пишет, что жив, здоров и что волноваться о нем не нужно. Обратного адреса он не пишет, а почтовый штемпель размыт и невозможно разобрать, что там размыто: Сыктывкар или Самарканд.
Елизавета проснулась совсем скоро, на рассвете, и обнаружила, что ее муж тоже не спит, жмурится, улыбается каким-то хорошим мыслям. Она попробовала притвориться спящей и понаблюдать за ним из-под ресниц, но не тут-то было, – Воскобоев поцеловал ее в щеку и приказал:
– Подъем.
За скорым завтраком он, смущаясь, признался, что приснился ему запах грибного супа и так захотелось этого супа поесть, что сон как рукой сняло.
И они пошли по грибы.
Хнов спал, и по случаю выходного намеревался спать до одури. Они шли по безлюдным улицам и насмешливо поглядывали на глухие оконные занавески, за которыми тонули в душных сновидениях вчерашние гости. Воскобоев то и дело порывался постучать по стеклу и убежать, но рассудительная Елизавета не позволяла, дергала его за рукав, тянула прочь с притворной укоризной… Они вышли к окраине, туда, где улица Опаленной юности переходит в шоссе республиканского значения, и наконец ступили на зернистый, сильно побитый асфальт шоссе. Солнце глядело им в затылок. Лица купались в прохладе, а затылки томило тепло. День был весь впереди, он обещал жару, а в остальном был загадкой, потому что Воскобоев и Елизавета ждали от него радости и боялись, что радость не состоится.
Они свернули с шоссе в сторону, противоположную озеру, и углубились в лесопосадки. Здесь было сухо, светло, гриб здесь сам выходил навстречу. Они разошлись, как это и подобает серьезным грибникам. Они громко и часто аукались, хотя и не теряли друг друга из виду: лесопосадки были еще молоды и просматривались далеко, – а аукались Воскобоев и Елизавета просто так, для удовольствия, для того, чтобы попробовать на воле свои молодые утренние голоса, и еще для того, чтобы расстояние между ними их не разъединяло, а, наоборот, связывало. Когда уставали аукаться, когда расстояние, разделяющее их, начинало раздражать и даже оскорблять, они сходились на полянке, усаживались на плащ-палатку и хвастались друг перед другом своими трофеями, вываливая их из ведер прямо на теплый мох. Потом подолгу молчали, пристально разглядывая пленников из разных грибных племен, дивясь тому, до чего не похож гриб на растение, как быстро и споро он успевает вырасти и повзрослеть: всего за несколько часов от мига рождения, – или мы ошибаемся, и прежде чем выбраться на свет и волю, он провел утомительно долгий и темный отрезок жизни, скрытый от солнца, птиц и людей.
Голоса птиц расстроились. Начинало припекать, и птицы страшились надвигающейся жары. Птицы спешили подыскать себе укрытие, но это было непросто: реденькая хвоя сосновой рассады не могла укрыть от горячих лучей даже малую пичугу. Воскобоев и Елизавета тоже заторопились в поисках бугорка, ямы или лощины, где можно было бы подремать в прохладе. Прохлады они не нашли. Солнечный свет просачивался всюду и заполнял все, подобно воде во время наводнения. К тому же Хнов проснулся: лесопосадки наполнились шагами, голосами, плащи и рубашки замелькали между сосенок, – казалось, все в Хнове сумели подсмотреть воскобоевский сон и разом захотели грибного супа. Пошло такое на все лады ауканье, что перепуганные птицы и вовсе замолкли. Едва Воскобоев и Елизавета опустились на мох в жидкой тени, как тут же к ним присоединился кто-то, папиросу попросил, принялся жаловаться на жару и предложил глотнуть водки за компанию, предупредив, что водка, пожалуй, тепловата. Они отказались от водки и, не рассиживаясь, покинули лесопосадки, переставшие им принадлежать. Возвращаться в Хнов не хотелось. Казалось, настоящая радость еще не наступила, прячется до поры где-то в иных зарослях.
Воскобоев и Елизавета перешли на другую сторону шоссе и возле фанерного щита «Лось – богатство нашего края» ступили на узкую, мокрую, никогда не хоженную ими тропинку. Тут было прохладнее. Низина выдыхала тяжелую влагу, лесопосадки глушил жирный кустарник. В этой сумеречной сырости было не до грибов. Воскобоева и Елизавету нисколько не тянуло свернуть с тропинки туда, где тускло краснела волчья ягода, где заросли ольхи, папоротника и осоки, казалось, таили в себе чью-то враждебную жизнь. Елизавете в каждом шорохе чудилась злая змея-гадюка; Елизавета вскрикивала, оборачивалась, ей казалось, что сердце ее сделалось маленьким, слабым и вот-вот остановится. Шедший впереди Воскобоев лишь посмеивался; его горделивая ухмылка выражала презрение ко всякого рода бабьим пустяковым боязням. Елизавета улыбалась, чувствуя в муже силу, способную ее защитить, и не понимала, куда он так торопится, пренебрегая ее усталостью, а он пытался сдержать шаг и не мог – первобытный ужас зрел в глубине его существа. Воскобоев удивлялся себе, стыдился, прятал страх за горделивой ухмылкой и убыстрял шаги…
А тропинка с каждым шагом становилась все уже, кусты, папоротники, шорохи обступали все теснее, кривые ветки и жала осоки цеплялись за одежду, и небо уже не стояло над головой, но лишь слабо сочилось сквозь хвою, – тут и Елизавета, отдавшись страху, забыла об усталости, ускорила шаг, задышала мужу в затылок…
Внезапно заросли распахнулись, над головой развернулось небо, вновь нависло жаркое солнце – Воскобоев и Елизавета очутились на просторной поляне. Поляна давно не принимала людей, и трава на ней была по колено, такая густая и тяжелая, что, упав на нее, невозможно было почувствовать землю. Посреди поляны стояло невысокое бревенчатое строение без крыши. Воскобоев разъяснил жене, что когда-то это была часовня, где молились, – ему про нее рассказывал Живихин, исходивший с ружьем все хновские окрестности. Разрывая сапогами спутавшуюся траву, Воскобоев смело шагнул к часовне, Елизавета подалась за ним, и ей все казалось, что из темного дверного проема, из-за порога, заросшего мхом и осокой, вдруг да и выпрыгнет прямо на грудь зверь какой, или земноводное, или что-нибудь такое гадкое и крикливое, чему даже имени нет…
В часовне оказалось весело и светло. На проросшем полу валялись ребра провалившейся крыши, спокойное, мягкое солнце дремало в каждой щербинке рыхлых бревенчатых стен. Глаза Воскобоева и Елизаветы горели ребяческим азартом: казалось, если осмотреться повнимательнее, то удастся найти какую-нибудь стародавнюю вещь, второпях забытую теми, чей след на земле забыт, но ничего не удалось обнаружить, кроме крупных квадратных букв, старательно вырезанных ножом возле самого окошка:
КОНЦОВ ГЕРОЙСКИЙ ОРДИНАРЕЦ
ЗДЕСЬ В ЭТОМ ХРАМЕ СУТКИ СПАЛ
НЕ СЛЫША ГУЛА КАНОНАДЫ
НА ОРДИНАРЦА СОН НАПАЛ
СПАСИБО БОГУ ЧТО ПРОСНУЛСЯ
ЖИВЫМ И ЖИЗНИ СНОВА РАД
ЧТО ОТ МОРОЗА НЕ ЗАГНУЛСЯ
И НЕ ЗАСЕК МЕНЯ КОМБАТ
Елизавета прочла надпись вслух, радостно забила в ладоши, но потом помрачнела, вообразив себе желтые кости геройского ординарца Концова, которые дотлевают, быть может, в болотной трясине, или под душным дерном хновских лугов, или на глубоком каменистом дне озера. Воскобоев поспешил уверить Елизавету, что парень этот, Концов, скорее всего выжил, на то он и ординарец, чтобы выжить, да и сам он пишет, что выжил; те, которые с юмором, вернее других выживают…
Выбравшись наружу, Воскобоев и Елизавета похлопали часовню по осевшему боку, а потом Воскобоев вспомнил, что поблизости должен быть колодец: Живихин не мог соврать… Колодец был мертв, вода ушла из него давно, как только некому стало за ним присматривать. Елизавета крикнула в колодец и Воскобоев крикнул, но эха не было – булькнуло что-то в ответ, плюхнулось, зеленая муть на дне немного поколебалась, потом замерла… Больше на поляне делать было нечего, пришла пора подаваться к дому. Воскобоев не пожелал возвращаться прежним путем и предложил Елизавете идти через болото к озеру. Елизавета согласилась. Она была готова согласиться на что угодно, лишь бы Воскобоев не поскучнел, лишь бы он вновь не оступился в мрак, еще вчера казавшийся беспросветным. Болото начиналось сразу за поляной. Они оробели, вступив в его пределы, почуяв его холодное, недоброе дыхание. Елизавета внезапно ощутила тяжесть ведра с грибами. Воскобоев смело шагнул вперед, крикнул ей, чтобы не отставала, и она пошла за ним по кочкам след в след. Болотная плоть ледяной хваткой сжимала ее голени, и приходилось до боли напрягать стопу, чтобы не отдать трясине резиновые сапожки, почти новые, без единой трещины на голенище. Воскобоев шел как одержимый. Он нарочно не оборачивался, чтобы показать жене, насколько он в ней уверен, чтобы не позволить ей подчиниться усталости и страху, и, быть может, благодаря воскобоевской одержимости они благополучно пересекли топь. Елизавета даже не сразу поняла, что болото пройдено. Когда Воскобоев скрылся в густом ивняке, она подумала, что это всего лишь островок зелени, как бы оазис в гнилой пустыне. Но свежий озерный воздух ударил в ноздри; Елизавета вскрикнула, подалась вперед и, продравшись сквозь кустарник, увидела поникшую спину мужа, капитана Воскобоева. Озеро, подступив, обнимало его сапоги… Справа по берегу, за заливным лугом, на уходящей в озеро песчаной отмели крутились разлапистые железные уши. Сразу за отмелью смутно поблескивали всевозможные усики, ниточки, коробочки. Это был аэродром. К нему и направились Воскобоев и Елизавета – прямиком через луг, вдоль прохладной воды…
Не прошло и часа, как дежурная машина везла их домой в Хнов по пустынному бетонному покрытию специальной дороги. Потом они переодевались во все сухое, спали, чистили грибы, картошку, резали лук. Наконец запах грибного супа наполнил квартиру, хлынул на лестничную площадку, поплыл по Архангельской и по улице Клары Цеткин… Елизавета помешивала суп половником, улыбалась супу, порой сокрушенно покачивала головой: у соседей за стеной разгорался скандал. Слышно было, как подвывает, жалуясь, Галина, тоненько и резко вскрикивает майор Трутко. О чем он вскрикивает, было не разобрать, но, судя по тону, он нападал, а Галина оборонялась – ее жалобы становились все тише, реже, слабее, вскоре она и вовсе замолкла, а победный клекот майора Трутко продолжал звучать в тишине… Елизавета подмигнула капитану Воскобоеву и принялась разливать суп по тарелкам.
К середине ноября были забыты не только грибы, но и все, что за ними последовало: ежедневные дожди, слившиеся в один, жирный и холодный, тайваньский грипп, завезенный в Хнов командированными из Ленинграда, забродившая глина дорог, по утрам подернутая грязным ледком, гулкие волны озера, навалившегося грудью на луговины и отмели, озерный ветер, который, блуждая в соснах, пел об угрюмой и бесполезной своей свободе. К середине ноября стала безветренная снежная зима. Воскобоев целыми днями пропадал в части. Живихин, не позволяя ему захандрить, завалил капитана работой. В ожидании мужа Елизавета вязала крючком – с тем бездумным и радостным исступлением, с каким, должно быть, сооружает свой кокон личинка бабочки, чтобы отогреться в нем, потом расправить влажные крылья и начать жить в полную силу. Вечером заходила поболтать Галина, продремавшая весь день в библиотеке ДК железнодорожников. Пересчитывая петли, Елизавета в который раз рассказывала ей о том, как ожил и встряхнулся капитан Воскобоев, стоило лишь сводить его по грибы. Хорошо, что он теперь увлечен работой, одно плохо: некогда ему заниматься благоустройством квартиры, говорит: «Ты погоди, осенью большой полигон – отлетаю, в отпуск пойду и все оборудую…»
– И оборудует, – говорила Елизавета, жмурясь. – Он у меня энергичный. После того как за грибами сходили – ну тогда, я тебе рассказывала, – он такой стал энергичный, что мне по полдня потом нужно отсыпаться, да. Дело брюхом кончится, точно тебе говорю. – И, отложив крючок, Елизавета насмешливо, но с гордостью признавалась Галине во всем, в чем женщина может признаться женщине наедине.
– Ишь ты! Ишь ты! – хохотала и краснела Галина, пытаясь вообразить воочию воскобоевскую энергичность. – Это что же, стоит всего лишь за грибами сходить и как следует подышать свежим воздухом?!
– Ну, а как же! – смеялась Елизавета, вновь бралась за вязанье и вновь принималась рассказывать тот день: как Воскобоев захотел грибного супа, как они шли по Хнову, аукались в лесопосадках, кричали в колодец, как чуть не утонули в страшном болоте…
– Ишь ты, ишь ты, – вздыхала печально Галина.
Не слушая Елизавету, она глядела в окно на лиловые сумерки и думала о том, что мечты прекрасны до той поры, покуда они не сбываются. Когда-то она жила прекрасной надеждой, что ее муж – не как все, а нечто особенное. Сам Трутко не подозревал в себе ничего необычного, но у Галины были основания надеяться. Майор был не в меру чувствителен, любил исполнить под гитару серьезную песню на слова Есенина или Лермонтова, пел застенчиво, не старался брать голосом, и если пел выпивши, то плакал. Кроме того, он был подвержен резким и беспричинным перепадам настроения, что, по убеждению Галины, намекало на тайное томление исключительной, но еще не осознавшей себя души. Галина не сумела бы толком сказать, каким именно она хотела бы, наконец, увидеть мужа, ведь не как все – это неизвестно еще что такое и толковать можно по-разному. Мерещился ей некий образ, завораживающий и смутный, как отражение облака в вечерней воде озера, и напряженное созерцание этой еще не воплощенной тени вызывало у Галины дрожь, как если бы она созерцала божество. Она верила – настанет день, когда неясный образ воплотится в майоре, и мир станет иным…
Однажды майор Трутко прочитал поэму Александра Блока «Двенадцать». Снежный вихрь, гуляющий по поэме, застиг его врасплох, подхватил, понес невесть куда. Когда поэма была дочитана и вихрь улегся, майор взглянул на себя со стороны и увидел незнакомого, но куда более интересного, нежели прежний майор Тругко, человека. Еще не вполне доверяя собственным чувствам, майор спросил у жены, в чем, по ее мнению, секрет воздействия поэмы на его самосознание. Галина сказала, что поэт Блок был декадент, что означает «чокнутый».
– Так ведь и ты у меня чокнутый, – предположила она ласково.
Майор взялся осваивать мир звуков и идей. Для начала он попытался разобраться с теми, кого жена называла декадентами. Он нырнул в незнакомую стихию, не страшась ее мглистых, непроницаемых для понимания глубин; ему важнее был гул, вихрь, мешанина красок, тревожащая нервы. Привычная тяга к ясности, не находя иного применения, понуждала майора к неожиданным открытиям. Так, он заявил жене, что стихотворение Иннокентия Анненского «Смычок и струны» нельзя понимать буквально, то есть речь в нем идет не о скрипках, но о таких, как он, майор Трутко…
– «И было мукою для них, что людям музыкой казалось», – произнес он торжественно, как слова присяги, и посетовал: – Когда я делаю маневр на скорости два Эм, вы внизу от восторга писаете, головы задрав. Какие бывают перегрузки на скорости два Эм, вам совершенно пофигу. Вам красиво, а мне мука.
Никто вокруг не восторгался Анненским, даже не слышал о нем. Это смущало. Статья в энциклопедии от смущения не избавила – в ней не чувствовалось волнения. Но в той же бесстрастной энциклопедии, рассеянно перелистывая ее, майор набрел на статью о критике Зоеве. Там были статьи и про других критиков. Зоев, однако, выделялся внушительным списком публикаций и наружностью. На махоньком фотопортрете Зоев казался большеголовым, был курчав, с маленькой, как у испанца, задорной бородкой, глаза его, похоже, косили, и ясно было, что этот Зоев – не от мира сего, а от того мира, мира звуков и идей… Трутко направил Зоеву взволнованное письмо на адрес самого толстого журнала. Майор рассказал критику о своих пристрастиях и смущениях. Для большей убедительности он привел пример с маневром самолета на скорости два Эм.
В долгом и стыдливом ожидании ответа он жадно множил увлечения: читал запоем и отбрасывал, не дочитав, загорался и остывал, познавал и спешил забыть. Неизбывной любовью оставалась поэма Блока «Двенадцать». Майор и сам пытался сочинить что-нибудь в таком роде. Обветренный блоковским вихрем, он склонялся над листом линованной бумаги, мучился, тосковал, зачеркивал, но на линованной бумаге вихря не получалось, а выходило нечто такое, чему майор не мог дать определения и краснел…
Наконец, пришел ответ из Москвы. Критик просил не смущаться: истинные почитатели родной словесности признают И. Анненского поэтом действительно выдающимся. Пример с маневром самолета не показался критику удачным, но убедил: живое дыхание поэтического гения обречено коснуться всякой живой души. Критик не советовал записывать И. Анненского в декаденты и вообще предостерегал от увлечения терминами, уводящими в сторону от сути и наносящими непоправимый вред целомудренному и эмоциональному восприятию текста. Критик предупреждал: не следует замыкаться в узком кругу чтения в ущерб планомерному и вдумчивому освоению всей сокровищницы мировой литературы. К письму был приложен машинописный длинный перечень, озаглавленный «СОКРОВИЩНИЦА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ».
Майор Трутко был в полете, когда Галина обнаружила перечень. Она прочла перечень, прочла письмо с обратным московским адресом, потом ждала мужа до позднего вечера. Он вернулся измученный, посмотрел на нее слезящимися, набухшими кровью глазами. Она опустилась перед ним на колени и заплакала. Майор растерялся. Решил, что она беременна, и долгое время пребывал в этом заблуждении.
… – За что боролась, на то и напоролась, – мрачно проговорила Галина.
Елизавета обиделась:
– Ты меня совсем не слушаешь.
– Я от чая сомлела, – сказала Галина. – Но я все слышу. Ты – о мебели.
– Еще бы, конечно о мебели! Ему все некогда, а кухня уйдет. Не одна я такая умная, желающих – море. Придется потом пилить в Ленинград, организовывать… С контейнерами одна морока…
В дверь позвонили. Отложив вязание, Елизавета пошла открывать… Майор Трутко, не снимая морозной меховой куртки, ввалился в комнату, увидел жену, отвернулся и сказал:
– Лясы точишь, а мне не попасть домой.
– Мой-то где? – спросила Елизавета, вновь принимаясь за вязание.
– Не знаю, не разглядел. Командир завалил его бумажками – не разглядеть за бумажками. – Майор опустился на табуретку, распахнул куртку, спросил у жены: – На ужин что?
– Сейчас придумаю что-нибудь, потерпи, – испуганно сказала Галина и порхнула к дверям.
– На ужин шиш, – вяло проговорил майор.
– Чего Галину изводишь? – спокойно спросила Елизавета и, беззвучно шевеля губами, принялась пересчитывать петли.
– Говоря по совести, она все время мешает мне думать, – сказал майор. – Постоянно требует, чтобы я на нее глядел, слова говорил, ходил с ней в кабак по субботам… Кабак – это еще терпимо. Но ей нужно, чтобы я ей все про себя выкладывал: что я себе мозгую, что мне пишет этот мужик из Москвы, в какую мы с ним вступаем полемику. Во-первых, это слишком. Личная жизнь – это одно, это пожалуйста, а внутренняя – это совсем другое, не нужно трогать. Во-вторых, она плачет. Я ее презираю, я ее разлюбил, и все в таком противном роде. Я понимаю, нервы. Но и у меня нервы. Хочешь, чтобы тебя не разлюбили, – веди себя прилично.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!