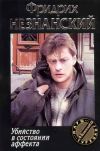Читать книгу "Траектория превосходства"

Автор книги: Андрей Гвоздянский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Андрей Гвоздянский
Траектория превосходства
«Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают» (приписывается Карелу Чапеку)
«Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости» (Сирах, 28: 20)
Пролог
Нелегкая судьба эмигрантов – тема распространенная. И я, молодой журналист, в то время активно ей интересовался. Мой интерес, однако, вызывали не проблемы адаптации в новом социальном окружении (которые, как известно, в принципе присущи эмигрантам), а случаи исключительные. Представьте: человек живет на новой родине вполне комфортно, проводит время в светском обществе, востребован и даже, быть может, стоит в шаге от того, чтобы стать знаменитым. И вдруг случается некий казус, начинающий потихоньку подтачивать его жизнь. Обстоятельства, поначалу вроде бы незначительные, неотвратимо накапливаются, подобно песчинкам, застревающим на поверхности надкушенного и случайно оброненного на пляже яблока. И вот все вокруг меняется, и эмигрант почитает за счастье вернуться, даже если его никто не ждет, затаив обиду на жителей новой родины.
Должен сразу предупредить читателя, что, несмотря на наличие у меня определенных философских убеждений (среди них – уверенность в том, что чаще всего причиной бед человека является не злой рок, а он сам), я ни в коем случае не буду пытаться навязывать их. Скорее, они будут выступать в роли противовеса, помогающего читателю скептически относиться к информации, получаемой из единственного источника, которым является один из таких эмигрантов, в 1947 г. покинувший Турцию. Книга основана на интервью, которое я провел с ним в августе 2013 г. Имя этого человека не раскрывается по его просьбе. Будем называть его Мехмет.
Турция, 1931-1947 гг.
– 1 –
Мехмет родился в Стамбуле в 1931 г. Он был четвертым ребенком в семье зажиточного промышленника. Большую роль в его жизни сыграла мать – именно она подметила в Мехмете музыкальный талант и прилагала все усилия, чтобы развивать его. Отец выступал против, настойчиво агитируя сына переключиться на более практическое занятие, но проиграл в битве за влияние на детский ум. Ребенок в итоге стал пианистом.
Вот те немногие, скупо-шаблонные сведения, которые предоставил мне поначалу Мехмет в ответ на просьбу осветить его детство. Когда он докладывал мне эти факты, лицо его напряженно застывало в безуспешной попытке найти подходящую маску, а глаза сосредоточенно упирались в стол, словно он, задумавшись, пытался вспомнить решение сложной математической задачи. Когда же он умолкал, лицо мгновенно расслаблялось, глаза закрывались на мгновение, а затем, открывшись, кардинально меняли заряд, и он произносил что-то вроде короткого смешка или хлесткого междометия, в которых чувствовалась изрядная доля самоиронии. Видно было, однако, что в те моменты, когда он снова начинал говорить, слова с трудом слетали с его языка, потому что его внутренний цензор жестко фильтровал каждую мысль, претендовавшую на то, чтобы стать маленькой звездочкой в повести о его длинной жизни.
В тот вечер мне так и не удалось добиться от Мехмета подробностей о самом раннем этапе его жизни. Впрочем, я сделал это в ходе одной из последующих бесед. Для удобства читателя здесь и далее я соблюдаю хронологический порядок повествования, несмотря на то, что сведения, которые я получал от Мехмета в ходе наших встреч, носили неструктурированный, крайне разрозненный характер. Ведь я пытался получить эмоциональный отклик от собеседника – меня не устраивала та сухая бюрократическая манера, в которой Мехмет начал излагать свою жизнь во время первой беседы. Поэтому я зачастую провоцировал его, в ответ получая спонтанный рассказ охваченного волнением человека, рассказ, который мог относиться к любому периоду его жизни, поскольку возникал непроизвольно, как бы из глубин подсознания. Дело оставалось за малым – зацепиться за интересные подробности, выяснить, к какому периоду относится всплывшее воспоминание, и достроить его уже на рациональном, сознательном уровне, не гнушаясь, конечно, и историческими сведениями из общедоступных источников. Таким, в двух словах, был мой метод исследования – конечно, не единственный из тех, что я применял, но уж точно один из самых продуктивных.
– 2 –
Мехмет родился в годы турбулентных общественных преобразований, проводимых в жизнь твердой рукой Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента новоиспеченной Турецкой республики. Он превратил Турцию в светское государство, демонтировав систему, основанную на исламе и султанате (а в последние годы – и национализме).
Мехмету повезло – проблема национальных различий никоим образом не задела его. Поэтому он не задумывался над этим тогда, что естественно, ведь мало кто из нас всерьез размышляет, скажем, о проблеме интернет-мошенничества, если при этом не делает покупок в сети. Так и Мехмет – рос, принимая текущий порядок вещей за Богом установленную точку отсчета, в которой ценностям традиционного общества было оставлено место лишь за скобками. Мельком проскользнул в его откровениях рассказ отца о том, как тот еще в юности чуть не спятил после вынужденного отъезда его первой музы, девочки-армянки: словно отказываясь верить в исчезновение прекрасного фантома, он каждый вечер приходил к дому, где она жила, и каждый вечер сквозь мутное стекло знакомых окон на него отрезвляюще пялился силуэт пожилого сгорбленного старика, готовившего в турке кофе; а бегавшие вокруг ровесники кричали какую-то бессмыслицу про невесту с курчавыми волосами.
Большая любовь появилась у Мехмета не сразу. Ей предшествовал ряд мимолетных увлечений. Одно из них – влюбленность в темноволосую девочку Хотидже – сыграло в его профессиональном пути роль столь же судьбоносную, что и мать. Это чувство было нераздельно связано с восхищением прекрасной игрой Хотидже на скрипке, но было подточено желанием найти в себе такой же талант и успешной реализацией этого желания. Влюбленность та, короткая, но очень яркая, осталась с Мехметом навсегда, лишь «немного» изменив форму – она переросла в любовь к музыке, в любование своим талантом и честолюбивые мечты, которые, как раковая опухоль, оккупировали его мозг. Но это, конечно, лишь мое мнение, мнение стороннего наблюдателя, основанное на отрывочных сведениях, предоставленных мне Мехметом. Наблюдателя, не верящего в чистоту помыслов; журналиста, считающего Никколо Макиавелли не циничным злодеем, а прагматичным реалистом, не желающим серьезно обсуждать сказочные, нереалистичные проекты вроде идеального государства Платона или Аристотеля. Читатель, конечно, вправе составить о главном персонаже этой книги свое мнение, однако факт остается фактом – мой собеседник говорил о Хотидже только в контексте занятий музыкой, не упоминая ни об ее личных качествах, ни о причинах разрыва отношений (хотя мне кажется очевидным, что причины эти лежат на поверхности и непосредственно связаны с появлением у него нового увлечения).
Когда Мехмет говорил со мной, его шея напрягалась, на ней обозначались несколько жил, которые, как стальные тросы, укореняли голову на плечах. Редкий пучок седых волос едва доставал до того места, где шея перерастала в голову. Тогда, в 1947 году, Мехмет был еще красивым черноволосым юношей. Все до единого волоски его в изящном изгибе спадали с плеч. Со старой фотографии на меня смотрел уверенный взгляд, гораздо более живой и любопытный, чем взгляд сидевшего передо мной старика. То был год, когда молодой пианист-самоучка отправился в Парижскую консерваторию, за неимением соответствующих заведений на родине. Вторая мировая война, в которой Турция не принимала участия, закончилась, и Франция все охотнее стала принимать перспективных иностранцев на музыкальное обучение…
Франция, 1947-1950 гг.
– 1 –
Турецкий экономический бум конца 1920-х гг., возвысивший отца Мехмета в мир горнего богатства, стал важным элементом в формировании Мехмета-пианиста. Именно отец, хоть и скептически хмыкая, открыл перед ним финансовую возможность поездки в Париж и подготовки к консерватории с помощью частного преподавателя. Более того, Мехмет стал одним из первооткрывателей пути на Запад среди турецких музыкантов, играющих классику. Он просигналил всем, что теперь, в новой светской Турции, для амбициозной молодежи открыты все дороги. И даже Франция, еще недавно с трудом сопротивлявшаяся немецким войскам, уже была готова дружелюбно распахнуть двери перед турецкими гостями.
Дух вольности, который в Турции Мехмет ощущал с рождения, во Франции проникал в самое сердце, постукивая в голове тремя известными словами: «Свобода. Равенство. Братство». Дух поиска передался ему от матери, которая любила проводить время в созерцании предметов искусства и могла легко отделять зерна от плевел. Мехмета она определила к зернам, и хотя к тому моменту он уже и сам подозревал о наличии у него музыкального таланта, именно она сыграла роль тумблера, обратившего мечты в действия.
За судьбой братьев и сестер Мехмет не следил, а я и не спрашивал. Причина проста – он был поглощен музыкой без остатка. Событием, которого он с придыханием ждал все три года обучения в консерватории, был его первый самостоятельный концерт. Он не мог думать ни о чем другом. Часто по ночам ему снились роскошные концертные залы, заполненные одинаковыми до степени смешения лицами. Иногда это были кошмары – лица аплодировали как-то слащаво-приторно, а с задних рядов даже слышались смешки. Но чаще овации были настолько хороши, что напоминали сильный дождь после засухи или хлопанье крыльев стаи чаек, завидевших обильную добычу. Каждый человек поглощен происходящим внутри него самого, как самодостаточная планета, остальные же выглядят астероидами на периферии, вносящими лишь небольшие внешние возмущения. Иногда, конечно, астероид оказывается слишком велик для планеты, провоцируя либо ледниковый период, либо, в крайнем случае, остановку жизненных процессов.
Такая самозацикленность не помешала ему, однако, пропитаться атмосферой послевоенного Парижа, где катающееся на льду духовное лицо вполне сочеталось с парочкой, откровенно милующейся на лавочке, у катка. Время от времени ему встречались одинокие девушки, задумчиво сидящие с блокнотом в самых многолюдных местах, ни одна из которых, впрочем, не спешила признаваться ему, что занимается отнюдь не сочинением стихов или созданием зарисовок, а тихой охотой за добычей, которая могла бы привнести немного счастья в ее личную жизнь. Попадались на улицах и грустные персонажи, которые, однако, особенно не запоминались Мехмету, поскольку совсем не вязались с его радостным настроем, полученным как коктейль путем смешения нового опыта, осознания сладости заданной цели и ощущения стремительного движения к ней.
В те годы, самые беззаботные в его жизни, даже те микроскопические проблемы, которые у него когда-то были, уверенно отступили на второй план. Сформировался новый, более интересный круг общения: у Мехмета появилось два друга из консерватории и постоянная площадка для новых неожиданных знакомств.
Первый товарищ, Марсель, коренной парижанин, уже на втором курсе разочаровался в музыке и начал страстно стремиться стать писателем. Конечно, у него ничего не выходило, но это его желание не пропало даром – он очень много читал, а потому мог в любой момент развлечь компанию каким-то интересным фактом или высказыванием, иногда приводя его к месту, а иногда и не очень. Второй друг Мехмета, Винсент, приехал из пригорода. Он отличался умением выпить и поговорить практически на любую тему.
– 2 –
Парижанин Марсель, собственно, и вывел компанию на новую постоянную площадку для общения, которой оказалась брассери «Липп» на бульваре Сен-Жермен. Это заведение сыграло роль театра, любезно предоставившего декорации для развития биографии нашего героя.
Небольшая литературная премия Каза, вручаемая здесь писателям, не отмеченным другими наградами, притягивала определенное количество любителей словесности, среди которых оказался и Марсель. Атмосфера здесь, конечно, уступала в торжественности большим премиям, однако в камерности действа было что-то неуловимо близкое. Винсент говорил и говорил без умолку, но вдруг все посетители брассери внезапно замолчали. На небольшую сцену вышел человек средних лет, с тонкими усами и в изящном смокинге. Винсент, впрочем, этого не заметил, и, отвечая на какую-то реплику Марселя, громогласно объявил:
– Нет, приятель, я не ты! На премию кружку пива не променял бы никогда!
Слова эти повисли под потолком, подхваченные вихрем алкогольных паров, а воздух, услужливый проводник звуков, аккуратно доставил их в уши притаившихся на мгновение людей.
– Пошли, – резко встав, бросил в ответ Марсель. – Отойдешь, глядя на звездное небо над головой.
Компания торопливо ретировалась из брассери, и там, как ни в чем не бывало, возобновилась церемония. Винсент плюхнулся на удачно подвернувшуюся скамейку и, забыв про совет друга, немигающим, но сонным взглядом уставился на мостовую. Мехмет с Марселем стояли рядом.
– Ты не присмотришь за ним, пока я на минутку сбегаю в брассери? – беззаботно спросил Марсель, чувствуя, что не получит отказа.
Мехмет только кивнул. Марсель тут же упорхнул туда, где все с нетерпением вглядывались в равнодушное лицо человека с тонкими усами. Взглянув на Винсента, Мехмет понял: его роль сводилась разве что к ночному стражу, стерегущему далеко не чуткий сон подвыпившего человека. Собравшись было в монотонных раздумьях провести ближайший час (минута в понимании Марселя могла растягиваться гораздо сильнее, чем эластичный бинт), Мехмет вдруг услышал осторожные шаги, звук которых доносился со стороны брассери, и, не сомневаясь, что увидит Марселя, резко обернулся, метко выстрелив глазами прямо в лицо незнакомой барышне, тем самым несколько напугав ее.
Подробности последовавшего разговора ускользнули из памяти Мехмета. Он вспомнил лишь, что сбивчиво извинялся, пытаясь одновременно с этим сгладить неловкость комплиментами. Каким-то непонятным образом нелепый разговор этот затянулся, перейдя ближе к финалу в нечто осмысленное. Даме, как выяснилось, стало скучно на церемонии, потому что она, американская актриса, привыкла к более масштабным действам. Музыкой, однако, она интересовалась, и даже пообещала прийти на концерт в консерваторию. Звали ее Марта.
Сольный концерт Мехмета, обещанный ей через три дня, на тот момент существовал лишь в турбулентном сознании пианиста, и ему пришлось изрядно напрячь все свои социальные навыки, чтобы воплотить этот фантом в жизнь. Руководство консерватории после некоторых колебаний пошло ему навстречу, а в роли зрителей приглашены были исключительно ее слушатели, каждый из которых, по принципу дона Корлеоне, теперь надеялся на то, что его бескорыстный поступок в скором времени принесет хорошие плоды.
Забавно, но ни один из вышеупомянутых друзей Мехмета по консерватории не видел Марту в лицо: Винсент тогда просто-напросто спал, тогда как Марсель, участвуя в церемонии вручения литературной премии, повышал свой уровень причастности к писательской тайне (что было похоже, впрочем, на попытки выведать секрет приготовления необыкновенного блюда путем просматривания фотографий довольных посетителей ресторана, отведавших его). Неудивительно, что они до последнего момента сомневались в том, что она придет на концерт. И даже более того – Мехмету казалось, что они сомневались и в самом факте ее существования.
Марсель в разговорах сравнивал ее и с рекой, текущей и потому постоянно изменяющейся, и с небом, принимающим в свои объятья то солнце, то луну, то целую груду тяжелых (как боксерские груши) и темных (как космическое пространство) туч, то легкие перышки беззаботно порхающих облаков. Вероятно, с помощью этих приемов он хотел намекнуть Мехмету, что Марта может и не прийти в силу женской непредсказуемости. Но это ему не удалось. Настрой на успех был глубоко укоренен в характере Мехмета, и он не понимал, зачем сомневаться в исходе начатого дела, если все усилия уже приложены, и мяч теперь находится у другого игрока, действия которого контролировать невозможно…
– 3 –
В день концерта народу в зале было мало. Позы людей выражали лениво-скучающее настроение, как будто их оторвали от праздника жизни и усадили смотреть детский спектакль. Винсент и Марсель напросились слушать концерт из-за кулис. Разместившись на низкой скамеечке, они разговаривали в ожидании начала. Мехмет, сосредоточенно сидевший за роялем, слышал каждое их слово.
– Наша профессия даст нам возможность всю жизнь чувствовать свободу, жить не по расписанию, – говорил Марсель. – Ты же не хочешь, гуляя в воскресенье по площади, в то же время сокрушаться и думать, что завтра тебе непременно надо на работу?
– Нет, конечно, приятель, – отвечал Винсент. – Но безграничной свободы не бывает. Вот сейчас, например, ты вынужден торчать здесь, ведь ты дал обещание Мехмету, а мог бы пойти в брассери, отдохнуть.
– Само собой, мой друг, но ведь больше свободы – это лучше, чем меньше…
– Ты говоришь банальности, – перебил его Винсент. – Представь себе русскую матрешку. Слой за слоем она нарастает, как может до поры нарастать степень нашей свободы. Но однажды, приятель, она упрется в размеры комнаты, в которой находится, как и наша свобода упирается в силу обстоятельств.
– Продолжая твою аналогию, скажу, что свобода тем и примечательна, что при появлении обстоятельств каждый из нас волен по-своему обойти их. Я, например, вынес бы матрешку на улицу, где она достигла бы предела роста лишь тогда, когда и мои правнуки уже состарились бы, – выкрутился Марсель.
Винсент попытался было продолжить этот философско-лирический диспут, но осекся. В зале стояла полная тишина: все смотрели на Мехмета, поднявшегося из-за рояля и уже подошедшего ко краю сцены. Робко глядя на женщину в красном вечернем платье, в которой не сразу можно было признать Марту, он громко и торжественно объявил о начале концерта.
К середине мероприятия зрители несколько оживились, награждая исполнителя бурными аплодисментами в перерывах между произведениями. Было видно, что скучавших в начале концерта слушателей консерватории действительно зацепило выступление Мехмета. Однако он, к своему удивлению, чувствовал совсем не то, к чему привык в ходе «концертов» во сне. Не было наслаждения овациями, а улыбка самодовольства и не думала показываться на его лице. Боковым зрением он видел, что красное платье не колыхалось – женщина сидела неподвижно и даже как-то спокойно-величественно, и это заставляло его все сильнее нажимать на клавиши. Зал наполнился канонадой звуков, но четкой, выверенной, по-военному стройной. В воздухе чувствовалась лошадиная энергия – казалось, целый табун отстукивает ритм где-то под потолком. Внезапно музыка побежала, как ручеек. Кони застыли, будто остановившись на водопой. Вода быстро прибывала, и вот уже бурная река несла разгоряченных лошадей в неизвестность, а в небе, стянутом тучами, мелькнула молния, и гром пробежал между рядами. На улице действительно пошел дождь, но никто не смотрел за окно. Зрители стоя аплодировали пианисту, и среди них, взволнованная и восхищенная, была она.
Дальнейших подробностей Мехмет не выудил из памяти, сколько я не пытался препарировать ее. У меня осталось чувство, что в тот момент нечто переломилось в его судьбе. Последующие несколько месяцев осели в моих записях лишь самыми крупными мазками. Не думаю, что Мехмет от меня что-то скрывал – это было лишь проявлением особенностей человеческой памяти, в которой мелкая деталь может порой оставаться гораздо дольше, чем некоторые значительные, на первый взгляд, события.
До того, как Марта уехала, Мехмет успел побывать у нее. Они провели великолепный вечер, и она обещала ему обязательно приехать через несколько месяцев на его выпускной концерт. Знакомые на следующий день наперебой высказывали ему свое почтение и уверяли, что никак не ожидали такого чувственного, живого выступления.
Последующие месяцы Мехмет провел в консерватории в статусе звезды. Поначалу это его удивляло и немного смущало. Но постепенно Мехмет вышел на траекторию превосходства – он был особенным, талантливым человеком, а удел остальных заключался в том, чтобы, тихо завидуя ему, на людях его восхвалять. Мехмет считал, что тем, кто восхищается его талантом как чем-то необычным, просто не хватает упорства самостоятельно достичь того же, а следовательно – они лентяи.
Чем ближе подходило время выпускного концерта, тем меньше он появлялся в брассери. Все чаще он проводил вечера в одиночестве, за роялем. Эта новая любовь, как я могу судить по имеющимся сведениям, стала очередным событием, заставившим Мехмета с остервенением заняться совершенствованием профессионального мастерства. Каждый такой поворот резко поднимал его уровень, но как будто отдалял его от прошлого, уводил в новый вираж: перед глазами возникли многочисленные пути, разветвляющиеся, как корневища, а за спиной скрывалась пройденная дорога, которая казалась такой пыльной и неровной, что о ней хотелось тотчас же забыть. И это постепенно происходило – Мехмет все больше погружался в настоящее, часть сил отнимало будущее, а прошлое последовательно исчезало.
За несколько дней до выпускного концерта мысли Мехмета уже настолько перемешались, что он перестал различать день и ночь. Покрасневшие глаза, потрескавшиеся губы, неустойчивый, рассеянный взгляд, слегка взъерошенные волосы – таким он предстал перед роялем в тот самый, ожидаемый им так долго, день. И только пальцы его излучали уверенность – они ни разу не дрогнули; они выглядели, как каменный монолит, могучий, почти всемогущий…
– 4 –
И снова она одарила его присутствием. На этот раз – искрящееся золотое платье, и какой-то иной, полный почтительной внимательности, взгляд. Он мог бы сыграть так же, как год назад – этого было бы вполне достаточно. Но он стоял уже на ступень выше – теперь его целью было не просто подчинить инструмент своей воле, а виртуозно управлять его самыми малейшими вздрагиваниями, вселять в него свою душу, свои переживания, увлекать ими окружающих, обволакивая их, как невидимый вездесущий эфир. А кроме этого – порадовать ее слух чем-то новым, не повторяя ни фразы из той мелодии, что заворожила ее тогда. Мехмет должен был подтвердить, что это не мелодия сама по себе очаровала ее, но что это он – волшебник.
На этот раз все началось тихо и печально, будто лунный свет осторожно пробирался между тонкими веточками, которые, однако, были угловатыми, что вынуждало лучики света без конца прыгать из одной октавы в другую. По земле, присыпанной листьями, шуршали маленькие обитатели леса – ежи. Лес был густой, деревья стояли на каждом шагу, и ежи то и дело задевали их кору своими иголками. Когда это происходило, они затихали, но вскоре снова продолжали свое движение. Легкий дождик слегка гладил лесной покров, не нарушая при этом общего фона – мерного шуршания строя ежей.
Вдруг в середине леса образовалась полянка. На ней быстро росли грибы. Когда гриб вырастал, на его шляпке выскакивали пятнышки, образуя симметричный, разноцветный узор крапинкой. Глубокие, басистые цвета сочетались в этом узоре с цветами легкими, тоненькими, как паутинка, они причудливо переливались в голосистой мелодии, заставляя сердце вздрагивать от волнения, словно вся печаль мира выплеснулась наружу и показалась на суд зрителей, обнаженная, а потом, приглушенно вздохнув, тихо ушла куда-то в пустоту, оставив после себя лишь прозрачную бесцветную шаль – тот материал, на который наносятся краски, но который сам по себе не имеет ни цвета, ни запаха, распадаясь на мельчайшие частицы ничего не значащих атомов на исходе отпущенного ему срока.
По окончании концерта подле него тотчас же возникла Марта. Она уверяла его, что он играл даже лучше, чем Владимир Горовиц на концерте в Карнеги-холл, что, конечно, не могло быть правдой, но, тем не менее, все равно приятно грело душу. Когда Мехмет говорил мне об этом, на его лице едва ли не впервые за время наших отнюдь не мимолетных бесед проскочила слегка уловимая улыбка – печать превосходства, которая и в старости еще не до конца оставила его.
– Ребеночек, – прошептал Мехмету на ухо женский голос. На него робко и смущенно смотрела Марта. Энергия движения как будто перетекла из его пальцев в голову: мысли забегали беспорядочными токами в попытке встроить услышанное в привычную картину мира.
На это потребовалось несколько часов, и одними мыслями не обошлось. В конце концов, они пришли к совместному решению – в скором времени взять билеты в США, в один конец. Мехмет не корил себя за неосторожность и не сомневался в том, что отец ребенка – именно он, а крайне спокойно отреагировал на новость. Мне показалось, что такой поворот событий не противоречил его планам, а возможно (да простит читатель мою врожденную недоверчивость), был даже частью его хитроумной интриги.
Он никому не рассказывал до последнего момента, до того самого дня, когда он отправился в путь. Целая толпа заполонила улицы в тот день, но не затем, чтобы проводить его – это коммунисты вывели людей на протесты против войны в Индокитае. Шел 1950 год. Казалось бы, лишь полвека с небольшим отделяет сегодняшний день от того времени. Сегодня широко распространилось мнение, что после Второй мировой войны гуманизация начала стремительно охватывать население Земли, якобы осознавшее все ужасы войны. Но нет, с тех пор утекло еще очень и очень много крови, в том числе в колониальных войнах. Ужасы войны так «напугали» Францию, что она, едва избежав участи стать колонией фашистской Германии, тут же, в 1946 году, ввязалась в длительную войну в Индокитае. Овцы стали волками? Вряд ли. Не было ни овец, ни волков, но только люди, способные надевать маски.
Какую же маску примерил в тот день Мехмет? Боюсь, нельзя ответить на этот вопрос со всей достоверностью. Приятное удивление от негаданного счастья, возможно, в некоторой степени имело место, однако, в противоположность заверениям Мехмета, я уверен, что это было не единственное, и, более того, не главное чувство. Желание выделиться из общей массы, показать всем вокруг свой истинный статус и когда-нибудь в будущем, вернувшись на денек, получить почетный прием, и посмотреть на всю эту толпу тем взглядом, которым успешный менеджер смотрит на бомжа? Непреодолимая жажда покорения новых рубежей, сходная с тягой бывалого моряка к укрощению диких волн с помощью паруса и штурвала? Или просто стремление к обретению новой, спокойной родины, не отягощенной памятью об ужасах войны, и принимающей всех, из кого сочится талант?… Впрочем, это лишь мнение молодого журналиста, которое читатель, безусловно, вправе игнорировать.
Пребывание Мехмета в Париже оборвалось крайне резко. Он не стал устраивать прощальных вечеринок или романтических, запоминающихся прогулок, а просто взял и уехал. По-английски. Хотя, возможно, уместнее было бы сказать – по-американски.
США, 1950-1964 гг.
– 1 –
Переезд принес совсем не косметические, а самые настоящие глубинные изменения. Уже через два месяца Марта родила дочь, которую Мехмет хотел назвать Хотидже – в честь любви к музыке, вероятно. Жена, однако, воспротивилась этому тюркизму. В итоге, в результате лингвистического компромисса, дочку назвали Джесси, сокращенно – Дже. Последнее имя, впрочем, использовал только отец – оно позволяло забыть про американское окончание и представить, что произносится «Хотидже». Ударение на последний слог в имени-музе Мехмета облегчало эту умозрительную задачу.
Дочка росла медленно и первое время не доставляла хлопот. Возможно, потому, что ей занималась Марта, тогда как Мехмет, оказавшийся с ее помощью в высоком светском обществе, которое было для него в новинку, с головой погрузился в освоение нового пространства – конечно, в свободное от музыкальных занятий время.
Та Америка, которую он увидел, коренным образом отличалась от его представлений, сформированных в Европе. После Второй мировой в Европе вовсю бурлили политические страсти, на кону стояло восстановление нормальной жизни общества, недопущение повтора трагедии… Америку же война обеспечила огромным рынком сбыта, и на фоне европейских стран именно в тот период она вырвалась в неоспоримые лидеры. Народ Европы в конце 1940-х годов, однако, в массе своей еще не успел заметить этого. А в Америке, тем временем, шли совсем другие процессы: в отсутствии политического котла бурлил котел культурный, вместо пузырьков рождая фильмы, вместо пара – песни. По лицу Мехмета я угадывал ощущение ностальгии. И действительно, та Америка, про которую рассказывал он, разительно отличается от Америки, которую я лицезрел прошлым летом в отпуске. Один знакомый экономист сказал мне, что тогда экономика страны росла чуть ли не по 5% в год – поразительно высокие темпы для такой богатой страны, как США.
Мехмет с женой обосновался в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина. Работа появилась сразу – благодаря Марте его стали привлекать к записи музыкального сопровождения для фильмов. Свободное время Мехмет предпочитал проводить в гостях. Представляется важным отметить как минимум два общества, в которых он часто бывал.
Первое носило условное название «Салун у Люсьен». Оно представляло собой сообщество иммигрантов, преимущественно из Европы, добившихся в США хорошего положения. В слове «салун» звучало что-то интригующе-дикое, интерьер комнаты для собраний изобиловал деревом, а хозяйка этого злачного места, француженка Люсьен, носила не по-женски грубые буро-рыжие волосы. Посетители проводили время именно так, как это делают люди, добившиеся очень многого и поэтому не имеющие ни малейшего представления, чем же им заниматься в жизни теперь, – а именно, за карточным столом, играя в покер.
Если бы кто-либо вошел без стука в комнату для собраний, он с первого взгляда бы решил, что все играющие крайне поглощены происходящим за столом. Реплики были бы сухими, немногословными. Лица говорящих не поворачивались бы в сторону ни на градус, глаза их были бы постоянно устремлены на сукно. Но если бы этот кто-то немного пообвыкся в этом обществе, он бы понял, что за внешней неподвижностью скрывается колоссальное внутреннее напряжение, необходимое, чтобы выверять каждое произносимое слово. Зато вместе все эти слова пребывали в невиданной гармонии – противоречие между высказываниями приравнивалось к крайней грубости, а желание во что бы то ни стало убедить собеседника в своей правоте – к неуважению и непониманию сути происходящего.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!