Текст книги "Спасение. Рассказ"
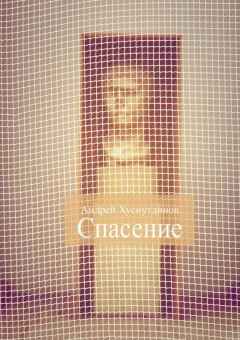
Автор книги: Андрей Хуснутдинов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Спасение
Рассказ
Андрей Хуснутдинов
© Андрей Хуснутдинов, 2017
ISBN 978-5-4474-5071-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
***
– Думаешь: ангел, так всё – предел разрешения, тело без органов? – говорил «бедовый» Михайлов, физик-недоучка, друг детства Марьи Александровны (был то ли день рождения Вовки, то ли ее собственные именины, то ли вовсе годовщина у мужа). – Ну, да – предел. Но какой? Их отличие от нас не то, что они с крыльями, или бесполые, ну, там, без этого… или вообще кастраты, а что ангел – изотропен. Свойства его не меняются, с какой стороны ни подойди. И сколько ни дели, все одно, как режешь голограмму или гидру, получишь ангела.
– А мы? – растерялась Марья Александровна, не понявшая ничего. – Люди – что же?
Михайлов захлопнул альбом с фотографией петропавловского шпиля, из-за которого и шел сыр-бор.
– А мы – анизотропны. Человек – пирамида, пирог. И тут чего только не понасовано – здоровье, деньги, квартира… Даже какая-нибудь клумба под балконом. Так вот вытащи что-то одно – и всё, тю-тю, нет человека. Был и сплыл.
– А что есть?
– А то и есть – скот или протоплазма.
Марья Александровна, чья учительская память походя отсеивала заумь, одно время забыла о разговоре, но вспомнила его до последнего слова, когда два года спустя тот же «бедовый», дыша перегаром, пряча глаза и путая слова, сказал ей, что Вовка пропал с семьей в Германии.
Да, было именно так: по страшном известии она сначала вспомнила о пирамидальном устройстве человека. Мысль, что из мира могли куда-то деться ее единственные сын, внук и, пусть нелюбимая, стоявшая ближе к остальному человеческому классу невестка, – эту мысль ее вышколенная глухота к немыслимому было тоже отправила в долгий ящик. Другая мысль – что ничего из перечисленного Михайловым не исчезло, включая разбитый ею палисадничек у подъезда, – наоборот, захватила. Марья Александровна как бы замерла. Всем своим рассудком, еще не дававшим сбоев, она налегла на схему с человеческой пирамидой. Так, не восприняв сразу значения новости, она и осталась в здравом уме. Рассудок, хотя и обманом, подобно тому как завлекают колбасной шкуркой собаку, удержал ее при себе. Михайлов продолжал что-то говорить, она у него что-то спрашивала, а потом откуда ни возьмись явилась знакомая врачиха из скорой, мать позапрошлогодней выпускницы, засверкали шприцы, заклацали пузырьки, и гостиная, будто ящик, стала переворачиваться с пола на восточную стену. От этого дикого времени, прошедшего на уколах до получения визы, в памяти задержался только черно-белый сон – что она больше не Марья Александровна, а полая статуя, покрытая изнутри копотью сожженных внутренностей, тело без органов.
***
Михайловскую пирамиду со временем заменила «штука» – мобильник, который сын подарил в том году, в будний день, с бухты-барахты, заскочив в школу между уроками. На вопрос Марьи Александровны: «Зачем?» – Вовка сперва отмахнулся, но взглянул на часы, вывел ее под локоть из учительской и тут, посреди грома и гвалта большой перемены, все объяснил. Верней, отбарабанил в отцовой манере, заводясь с полвопроса и сбиваясь на казарменные словечки, оттого что Марья Александровна не понимала «простых вещей». Они чуть не поругались в тот раз. Марья Александровна тянулась к сыну, пробуя не то приласкать, не то ущипнуть его, а он, пятясь, только сильней раздражался. Наконец она встала, смиренно опустила руки и, поглядывая вокруг, молча слушала. Суть подарка, «симки с секретом», состояла в том, что это был какой-то «защищенный, невидимый канал», звонить «отсюда» можно было кому угодно, кроме Вовки, а звонить «сюда» мог только Вовка, в крайнем случае – Наташа (невестка), ну, или, если доберется, Ромка (внук), секретом же являлась полная «автономность карты», то есть Марья Александровна могла пользоваться номером «хоть на Луне» и не заботиться пополнением счета. Было это накануне командировки сына в Ливан, отчего беспокойство Марьи Александровны возрастало чрезвычайно, но из Ливана Вовка стал названивать как ни в чем не бывало, она успокоилась и даже, если звонки слишком частили, пеняла ему за расточительность. В Питер он вернулся нежданно-негаданно, сильно раньше срока, почерневший от солнца, высохший от дизентерии и запершийся в себе. Разговорить тогда Марье Александровне не удалось ни его, ни Наташу. О лютом случае в Бейруте, когда выкрали кого-то из наших посольских, и были какие-то переговоры, и заявление МИДа, и пленников отпустили только после того, как на угрозу расправы захватчики получили в коробке ампутированное достоинство кого-то из своих родственников – обо всем этом Марья Александровна знала из вторых рук и так и не могла разобрать, что тут правда и что россказни. «Бедовый» Михайлов, с университета околачивавшийся в органах и, собственно, и намагнитивший туда Вовку, на ее расспросы отзывался невпопад, налегал на то, что волноваться не о чем, так как дорога на Ближний Восток Вовке была заказана, но теперь, когда земля плыла под ногами Марьи Александровны, сам как в воду канул – не появлялся, не отвечал на звонки. Недолго думая, Марья Александровна решилась звонить другому Михайлову, тоже старому другу, тоже имевшему отношение к органам, но обитавшему в тех сферах на такой высоте, что вряд ли догадывался о существовании своего подначального однофамильца. Разговор этот не задался с начала. Михайлов говорил нехотя, как сквозь сон, выбирал слова, точно сверялся с бумажкой, и все время просил прощения, отвлекаясь на кого-то там в кабинете или в машине. Учительское чутье сразу подсказало Марье Александровне, откуда дул ветер.
– Если ты думаешь… – сказала она, скатываясь по слогам, как по ледяному желобу, в вымученный шепот, чтобы не задохнуться, – если вы думаете, что Вовка… что он переметнулся, то он все равно позвонил бы мне.
– Мы ничего такого не думаем, Маша, – длинно вздохнул Михайлов. – Бог с тобой. Мы делаем все, что можем.
– И что вы делаете?
– Ждем.
– Михайлов, ты знаешь, с какого номера я звоню?
– Знаю, Маша. Конечно.
– И знаешь, что будет, когда Вовка позвонит?
– Да. Ты только не волнуйся.
– Нет! – вскричала она в сердцах, чувствуя, что будто опрокидывается, летит куда-то вниз головой. – Ничего вы не знаете! Это будет значить, что он жив! Что он и Ромка – живы! Вот и все!
Бросив трубку, она ходила по дому и, как если бы Михайлов еще слушал ее, повторяла, что они не знают Вовку. Через несколько дней после похорон мужа она проснулась ночью оттого что девятилетний сын стоял в дверях спальни и глядел на нее. «Что ты?» – сказала она. «Ты не умрешь?» – спросил он. И это была мýка, конечно. Марья Александровна, повидавшая маменькиных сынков и старавшаяся держать на расстоянии, не приклеивать к себе Вовку, чувствовала, что в те дни между ними как бы завязывается новая, невидимая, полнокровная пуповина. Вовка сам потянулся к ней, и как могла она оттолкнуть его? Он и в органы определился, потому что вылетел с медицинского, не прошел «мясные ряды» анатомички, то есть, поняв, что не способен стать ей защитником от болезней, решил сделаться защитником как таковым. И до чего, наверное, у него скребли кошки на душе, если в своих командировках он не мог звонить ей, когда хотел. И что другое еще была эта его «штука», телефон, как не возможность в любое время встать в ее дверях: «Ты не умрешь?» И как это мог делать предатель?
Марья Александровна подобрала трубку, прижалась к ней губами, сморгнула слезы и таращилась на уровень заряда батареи потертом экранчике – после проклятого известия «бедового» она стала бояться, что из-за севшей батарейки телефон отключится в самый ответственный момент, и Вовка не дозвонится. Теперь она носила трубку с собой всюду, даже в ванную, подзаряжала ее, стоило погаснуть первой засечке на батарейной шкале, и оставляла на ночь возле будильника. Телефон молчал, так что подчас Марья Александровна сравнивала его с самим Вовкой, замыкавшимся в себе по совершенным пустякам, начинала тревожиться, не разладилось ли что, звонила с него на свою обычную трубку, потом на домашний номер, потом набирала знакомых, которые отвечали настороженно, так как номер не определялся, а оттого что он не определялся, было нельзя проверить главного – работала ли карта на прием. Просить о помощи кого-то сведущего в этой игрушечной машинерии Марья Александровна опасалась – мало ли что там можно было сбить ненароком, да и Вовка требовал помалкивать об их секрете. Номер, помимо него, вероятно, знал еще Михайлов, но отныне Михайлов перестал для нее существовать, навсегда растворился в своем поднебесье. Услышать заветную трель и почувствовать в руке одуряющую, как озноб, вибрацию звонка она могла только, если переключала что-нибудь в настройках сигнала, и, бывало, просиживала за этим до тех пор, пока не замечала щербинку на шкале, не откладывала трубку и не бралась за голову.
***
Альпийский городок, собранный по лесистым склонам вокруг лебединого озера, точно макет на выставке, ошеломил ее: она ехала в прифронтовую полосу, в дым, грязь и развалины, державшие в заложниках сына, а попала в какой-то детский сон. Было начало осени, леса подергивались кровяно-золотой пыльцой, по утрам с гор сходили туманы, тут и там на фасадах попадались чеканные известия о постое то Гофмана, то самого Гете, и Марье Александровне потребовались целые день и ночь, чтобы совместить, стянуть это сказочное место с мыслью о пропаже Вовки. На деревянном коттедже – опрятном, как ларец, смотревшем на озеро верандой в диком винограде, – не было никакой таблички, которая говорила бы, что Вовка с семьей арендовал его три недели назад, но Марья Александровна даже не сверяла адрес с каракулями в записке «бедового», каким-то шестым чувством она поняла, что сын останавливался именно тут. И тотчас, стоило ей поставить себя на место Вовки, будто невидимая завеса пала между ней и сказочным миром вокруг нее. И отчего-то это было страшно. Она смотрела на дом, на лебедей, скользивших знаками вопроса у берега, и как бы перестала узнавать их. Потом охнула, пошла прежней дорогой к гостиничке и на ходу все заполошно оглаживала голову, удивляясь, как та оставалась цела после чудовищной мысли, что такая сказочная красота могла соблазнить кого угодно, не то что Вовку. Затем, часа через полтора, когда собирался дождик, вернулась к коттеджу, думая, что под тучами будет легче совладать и с красотой, и с непрошеной мыслью о ее власти над человеком, и притом втайне, в какой-то животной, бесстыдной глубине сердца страстно благословляла и эти горы, и озеро, и лебедей за то, что хоть так, ужасной ценой предательства, сын получал возможность вернуться к жизни. Однако тут откуда-то взялся домовладелец, и все только больше запуталось, сбилось.
Сивоусый хозяин коттеджа был до помрачения похож на Максима Горького лицом – в чем, судя по куцей цитатке из «Буревестника», отдавал себе полный отчет, – но сходство это было отталкивающим, карикатурным из-за малого роста немца. На январской фотографии в Пушкинских Горах тот узнал и Вовку, и Ромку, и Наташу, сказал, что они останавливались у него дважды, последний раз в августе, были веселые и хотели приехать снова.
– Хотели снова? – повторила Мария Александровна не столько за немцем, сколько за собой, договаривавшей, ставившей на ноги его полуживые русские слова, и почувствовала, как у нее начинает колотиться в груди, как кровь приливает к лицу, буквально бьет по щекам.
– Хо-тели… – Немец не глядя, жестом опытного гида указал раскрытой пятерней в коттедж позади себя. – Sie wollten… hierher… Хо-тели. Ja.
Скоро, впрочем, выяснилось, что главного, того, как съезжал Вовка, он не видел, да и вообще редко видел, как съезжают постояльцы, а просто забирал в условленный день ключ из прихожей, обходил – für alle Fälle – комнаты и вызывал горничную. Марья Александровна тихо спросила, нельзя ли посмотреть дом. Немец, как если бы она в эту самую секунду возникла перед ним, отступил на шаг, смерил удивленным взглядом ее лицо, дрожавший глянцевый снимок в пальцах, строго сказал: «Плакать, скандаль тут – запрет», – и кустистые горьковские усы его надулись, как кроны. Оббив тростью подошвы своих охотничьих ботинок, он ушел.
Марья Александровна, не разбирая дороги, двинулась к берегу, чуть не оказалась в воде, потом набрела между деревьев на скамью, села и, теребя за угол фотокарточку, глядела в землю. На немца она не обижалась, ей было не до него, лишь где-то внутри, как плевок на солнцепеке, изглаживалось чувство неловкости, какое бывает, если обознаешься или вовсе примешь за человека пятно на стене. Теперь она казнила себя за то, что, пусть и спасительным, секундным принятием измены сына сама предала его. Подойди он сейчас, и что она сказала бы ему? Чем еще можно было страшней оскорбить Вовку, как не признанием того, что к его отзывчивой душе – «Ты не умрешь?» – подошел ключ от приозерного ларца? Дождь кропил ее занемевшие руки, она совсем измочалила край карточки и не смела поднять глаз, оттого что по правую сторону скамьи ей мерещился каменный памятник сыну и по левую – сам сын у позорного столба. В голове у нее мутилось, она боялась, что стучавшее сердце, которого одна половина как бы лежала под памятником, а другая отчаянно хваталась за опозоренного Вовку, не выдержит, в самом деле разорвется на части, и правда не откроется ей. До темноты, до высыпавших по берегу огней она сидела под дождем, и дошла до того, что, никогда не верившая в Бога, стала молить Его о каком-то знаке. Что это мог быть за знак, она не знала, и быстро, как и любую заумь, забыла думать о нем. В виду игрушечных приземленных квадратных звезд, не то звавших в счастье, не то кричавших держаться от него подальше, она снова видела себя телом без органов, полой статуей, закопченной изнутри.
Однако мольба ее была услышана.
На следующее утро, когда она вышла из гостиницы и через квартал встала, не понимая, куда идет, ее окликнули. Моложавая, лет сорока, фройляйн в егерского вида куртке и такой же чуднóй шапочке с фазаньим пером нагнала Марью Александровну и вполголоса, на слегка натянутом, но чистом русском спросила, не было ли у ее родных кошки. Сначала Марья Александровна подумала, что сходит с ума или еще не проснулась (она почти не спала, сочиняя предлоги, один другого безумней, чтобы опять идти к немцу), а потом ее словно толкнули в лоб, и она вспомнила про Масяню. Из-за вшивого, едва разлепившего глаза трехцветного котенка, которого Ромка подобрал в детском саду и до прихода матери прятал за пазухой, три года назад Марья Александровна рассорилась и с невесткой, и с сыном, и с самим внуком. Отроду не терпевшая кошек – нелюбовь ее, как магнит, со временем обросла железными иглами научных, житейских и даже литературных ссылок, – она до сих пор чувствовала себя преданной ни за грош. Может, они и таскались с Масяней по своим заграницам оттого что, отдавая должное рассудочной силе этого чувства, боялись оставлять животное в Питере на попечение кого бы то ни было. Даже по полном примирении, после стерилизации зверя, когда, бывало, стиснув зубы, Марья Александровна брала серо-буро-малиновое чудище на руки (на ощупь, ни дать ни взять – ощипанная курица в пуховой шали), ее благодушию не верили, старались, шутя или спохватываясь, забрать кошку, спровадить достояние своего слепого милосердия подальше от греха. И кто бы сказал, что однажды Марья Александровна будет чуть не взмывать над землей, что тевтонская брусчатка сама полетит под ней при одной мысли о Масяне? На ходу она кивала фройляйн, разглаживала складки на плаще и с досадой вспоминала о забытой в номере пудренице. Неожиданно фройляйн задержала ее руку. Они остановились в облепленной палыми листьями тени кирхи. Ангел в нише над портиком держал меч с отбитым клинком.
– Вы слышите, что я говорю? – спросила фройляйн.
Марья Александровна, невзирая на то, что еще только спускалась на землю, приходила в себя, с усмешкой покачала головой. Конечно, она слышала. Прозванная Юлием Цезарем за то, что могла разом выслушивать и править лепет домашних заданий («Духовной жаждою томим, В пустыне страшной я влачился…»), следить за порядком в классе и гасить какую-нибудь отчетную писанину, разве выпустила бы она хоть слово из того, что говорила фройляйн? Продолжая расправлять плащ и посматривать на обезоруженного ангела, она, точно пристыженная школьница, стала наизусть, вполголоса пересказывать то, что говорила фройляйн, но по мере того как из слов складывался вид приозерной домины – и, главное, то, что было в самом коттедже, к чему ее не пропустил усатый работодатель фройляйн, – говорила все тише, пока наконец не умолкла с поднесенной ко рту рукой. Фройляйн пристально, с какой-то задорной злостью глядела на нее и в то же время опасливо постреливала глазами по безлюдной улице. Марья Александровна стояла чуть дыша.
Когда вчера немец рассказал про ненормальную русскую, которой были неизвестны ни правила приличия, ни великие русские писатели, фройляйн сразу подумала о кошке. Англичане, жившие в коттедже после русских, пожаловались на запах мочи, мяуканье и шумы по ночам в кухне. В тот же день спасатели достали из-за плиты трехцветную кошку. Немец опознал в ней питомицу «русских варваров» («Буревестника» он, кстати, и пел для русских, для своих – «Заратустру» или «Антихриста»), сделал выговор фройляйн и поручил ей навещать «подкидыша» в приюте. Тогда фройляйн сама попеняла «варварам» за жлобство – кошку бросили, а переноску пожалели, забрали. Была и другая странность, не вязавшаяся ни с кошкой, ни с чем вообще: кристальная, сияющая чистота в доме, какой прежде по выезду постояльцев фройляйн не видала в съемных квартирах. Получается, перед тем как съехать, они не только заправили постели, вымыли посуду и протерли столы, но еще достали из чулана моющий пылесос и сделали влажную уборку. Что такое было возможно, фройляйн поверила лишь после того, как ее киевская землячка, работавшая в приюте, сказала, что по краям морды и на ушах у спасенной кошки врач нашел точки запекшейся крови – чьей, непонятно, но точно не кошкиной. То есть, хотя бы и так, на живую нитку, на время, без кошки, тут все сошлось: убили у себя кого-то, прибрались хорошенько и были таковы. Но неделю назад позвонила землячка, попросила зайти к ней на работу. С кошкой в приюте было такое, что врач только разводил руками и говорил, что это первый случай в его практике. Так фройляйн снова задумалась о необычном выезде русских. И это было как сон, до мурашек по спине. И когда вчера стало ясно, чтó за русская wilde Frau приходила к немцу, фройляйн вспомнила не только про кошку. Вспомнила она и то, чему до сих пор не придавала значения: в доме тогда, пусть и полностью убранном, так что ей оставалось проветрить комнаты и сменить белье, несло пóтом, как в футбольной раздевалке. Стало быть, накануне там было много людей, и они делали что-то, что сначала требовало большого напряжения сил, а затем большой уборки.
– И что с кошкой? – спросила Марья Александровна. Своего голоса она почти не слышала, до того шумело в голове. Листья на мостовой казались ей прорехами в заслонке над ослепительной печью.
– У вас все лицо красное, – сказала фройляйн.
Марья Александровна слово в слово, полагаясь уже не столько на слух, сколько на память о необходимом напряжении связок, повторила вопрос. Фройляйн кивнула куда-то вдоль улочки. Кирха стала отворачиваться, ангел скрылся, потом мелькнул схваченный диким виноградом трельяж, проплыли какие-то стриженые кусты, вздохнула автоматическая дверь и запахло псиной. К фройляйн из-за конторки протиснулась дебелая девица с шиньоном. Мешая русские и украинские слова, они запричитали о чем-то. Марья Александровна ждала, держась рукой стены. Ей казалось, она попала на дебаркадер. Пол как будто ходил слегка. Наконец девица вернулась за конторку, а фройляйн, подступив к внутренней двери и пуча от волнения глаза, шпионским перебором пальцев подозвала Марью Александровну. Миновав несколько комнат с рядами клеток, в которых что-то спало, сопело, возилось, стояло на задних лапах и совало носы между прутьев, они очутились на безмолвных задворках. Здесь пахло больше аптекой, чем псиной, вдоль стен были в три этажа составлены картонные переноски и в окнах посверкивало озеро. Фройляйн дважды открывала и закрывала одну и ту же дверь, начинала хмуро, точно в лесу, оглядываться. Посматривая на нее, Марья Александровна с потаенным облегчением думала, что они заблудились, надо поворачивать обратно, как вдруг – в одинокой клетке, похожей на веранду оттого, что была закрыта сверху и с боков холстиной – увидала Масяню. Та спала, свернувшись клубком. Марья Александровна нащупала позади себя табурет, но так и осталась стоять.
От морды и сплошь до кончиков лап, будто захвативших цветной пыли, у Масяни теперь была белая шерстка. И бросалась в глаза нечистота этой белизны – как у старого, с прогалинами, истоптанного снега. Было, наверное, странно, почти дико узнать в белой кошке трехцветную, но Марья Александровна потому и не сомневалась, что первое время смотрела на нее как бы взглядом посторонней. И чем дольше мешкала обычно скорая память ее нелюбви, тем лучше видела она, что игра масти тут была ни при чем, а была это страшная бледность потрясения еще молодого существа, белый флаг пусть крохотной, но живой души, внезапная, подлая седина. Она все-таки присела. Фройляйн стала сюсюкать с кошкой, пытаясь привлечь ее внимание. Где-то в комнатах замурлыкал телефон, на звонок взлаяла собачка, ей ответила другая. Марья Александровна глядела на фазанье перо в шапочке фройляйн и словно не могла понять, что происходит. Ее мысли о сыне и о том, что в клетке перед ней содержался смертный приговор ему, бушевали как будто за стеной. Помня первый свой припадок, она с мертвым спокойствием думала, что новый, который хотя пока не переворачивал стены, будет последним. Рассеянным взглядом жертвы она поглядела по сторонам – проблески озера в окне, рисунок рассеченной утробы в простенке, проклятая клетка – и снова остановилась на пере в шляпке фройляйн. Развязка казалась ей близкою. Подобравшись на табурете, она просто смотрела перед собой, ждала. Но когда лучистой дельтой боль уже расходилась в затылке и от нутряного гула крови темнело в глазах, она вдруг как бы выхватила что-то из-под пера, разглядела за ним. И открывшееся было так удивительно и сложно, что, дабы не запутаться, ей пришлось проговорить свое открытие про себя. Она сказала: перо не седое, не то что кошка. И, сказав это, поняла, что если тут и было открытие, то удивительным в нем был вовсе не его смысл, но то, что следовало за ним. А следовал за ним стертый, неуловимый, как слепое пятно, провал на месте имени сына. То есть она не могла вспомнить, как зовут Вовку. Верней, она прекрасно помнила, что он Вовка, но так же хорошо знала и то, что это была всего лишь вывеска, название какой-то чепухи, его приземленного существа, как, плохо глаженные рубахи или разбросанные тетради, и никоим образом не имя. И вот это настоящее имя она сейчас забыла. Или только сейчас поняла, что не помнила уже какое-то время. И это было настолько ни в какие ворота, что она встала и таращилась на шапочку фройляйн. Она не чувствовала, как боль отпускает ее, как проясняются глаза и от свинцовой тяжести в затылке остаются разве что звон в ухе да иглы в пальцах руки. Она смотрела на перо и, словно различая в нем следы упущенного, пробовала если не вспомнить имя Вовки, то хотя бы понять, как могла забыть его. Через это упущенное мысли валились в какую-то бездну, но не пропадали совсем, а возвращались, как зеваки, ходившие смотреть место крушения, и как у зевак остается на лицах печать увиденного, так в мыслях являлась сумасшедшая уверенность, что в утраченном имени и заключалось Вовкино спасение – вспомни его она, и Вовка вернется. С шалой улыбкой она разминала занемевшие пальцы, отдувалась и уже не знала, что думать. Ноги едва держали ее, в голове был хмельной туман. Приходя в себя, она чувствовала потребность в каком-то решительном действии, которое бы подтолкнуло к воспоминанию, и когда фройляйн, устав сюсюкать, обернулась к ней и спросила, что делать с кошкой, она со словами: «Делайте, что хотите», – как ошибку из предложения, выдернула из ее охотничьей шапочки перо.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































