Текст книги "Исповедь уставшего грешника"
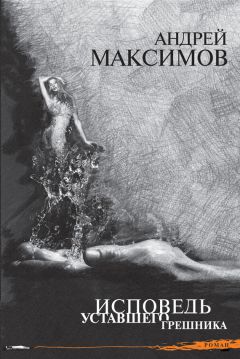
Автор книги: Андрей Максимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Я не сказал всего этого, конечно. Разумеется, я всего этого не произнес. Я чего-то такое тупо-лирическое ляпнул, а это все в несказанном виде упало куда-то внутрь меня, где и затаилось злым раздражением.
И мы опять лежали, опять курили-молчали и говорили о бессмысленном, перекидывались пинг-понгом какими-то незначащими словами о любви, и вдруг зазвонил мобильник.
Ирина.
– Да, – сказал я.
– Привет, – сказала жена. – А ведь у тебя в театре сегодня нет репетиций. И вчера их у тебя не было. Ты что, дурачок, не понимаешь, что мне это очень легко проверить? Вроде, взрослый мужик, мог бы как-нибудь научиться врать. А то бы и честно сказал: мол, завел себе бабу по причине того, что ты меня не возбуждаешь, а я боюсь простатита. Кстати, дорогой, ученые давно доказали, что возникновение простатита совершенно не зависит от количества половых актов. Пока!
«Как же Ирка меня хорошо знает», – почти с нежностью подумал я.
Твоя мама говорила совершенно спокойно: и тени той истерики, которая нам с тобой столь хорошо известна, не было в ее словах.
– Жена? Неприятности? – казалось, Марина готова мне искренно сострадать.
– Да нет, – вяло ответил я. – У Сашки там что-то случилось.
– У детей постоянно что-то случается, – Марина, как ей казалось, кокетливо, поцеловала меня в нос. – Только ты, милый, совершенно не умеешь врать.
«И эта туда же, – подумал я. – Марина, ты – удивительна. Даже твое сочувствие – банально».
– Тебе надо домой? – Марина села на кровать, и я непроизвольно отвернулся, чтобы не разглядывать тонкий жирок на ее спине. – Беги! – Марина меня уважала и не устраивала сцен ревности.
Когда я пришел домой, Ирина уже спала. Или делала вид, что спит.
Удивительно, как быстро я привык к тому, что меня никто не встречает! А раньше выскакивал Кузьма, подходила Ирина со своим, конечно, формальным, но все-таки поцелуем, и ты тоже появлялся из комнаты, опять же с формальным, но все-таки приветствием: «Привет, пап».
«Значит, «выяснялки» будут завтра», – подумал я, расстелил свой матрац и уснул абсолютно спокойно – как мужик после секса, а вовсе не как человек, у которого не чиста совесть.
Почему я закончил репетицию раньше? Почему я так хотел придти домой не поздно? Почему я не брал телефон, видя, что звонит Марина? Почему я вел себя, словно подросток, который несет домой дневник с двойкой? Короче говоря: почему я боялся? Отчего нервничал я – взрослый, состоявшийся, не бедный, и, как подтверждает жизнь, вполне себе здоровый мужик? Что я боялся потерять? Что? Квартиру, из которой давно исчезло то, что, собственно, и превращает четыре стены в настоящий дом, – уют? Жену, которая на ползущего по кухонному полу таракана обращает внимания больше, чем на меня? Тебя? Может быть, действительно, тебя?..
Ты, сын, единственное, что я по-настоящему люблю в нашем доме. Я могу на тебя кричать, могу дать тебе подзатыльник, но, когда ты входишь в комнату – у меня сердце сжимается от нежности. Почему-то мне кажется, что я воспитываю тебя, когда мы сидим вместе у телевизора и смотрим футбол. Или когда ты задаешь какой-нибудь дурацкий вопрос, а я не смеюсь над ним, но отвечаю тебе, изо всех сил стараясь выглядеть серьезным. Помнишь, ты спросил меня, как целоваться с девочкой, и я подробно объяснял тебе? Оказалось, нет в мире ничего более отвратительного, чем объяснять технику поцелуя, но я понимал: если в чем-то ошибусь, то ты осрамишься, и потому очень старался. И когда мы просто разговариваем, я думаю (или придумываю?), что воспитываю тебя. И мне почему-то кажется, что если мы станем жить в разных домах, я буду воспитывать тебя хуже.
Все это так. Но главное – не в этом. Если и боялся я какой-то потери, то лишь потери самого себя. И это не красивые слова, поверь… Мне казалось, – а точнее сказать: чувствовалось, что если мама выгонит меня из дома (и я, разумеется, уйду), то без мамы, без тебя, без нашей квартиры я превращусь в какого-то совсем другого человека. Возможно, этот другой будет лучше меня сегодняшнего, возможно – хуже, главное: он будет иной. А если тебе под полтинник, меняться очень страшно, особенно, когда неясно: а меняться-то ради чего? Ради Марины? Смешно… Ради другой такой же Марины – Лены – Кати? Ради третьей? Глупости, глупости… Ужасной, нервной, холодной жизнью в своем доме я дорожил, потому что это была моя жизнь, а какой может быть жизнь иная, я не ведал, а потому боялся ее, как любой человек боится неведомого.
Я ехал домой не поздно, словно кому-то что-то этим доказывая, я понимал, что еду «на выяснялки», и боялся: и самих «выяснялок», и того, что за ними может последовать. Из-за этого страха я был отвратителен сам себе, но ничего не мог поделать.
Я открыл дверь. Вошел на кухню.
– Привет, – сказала Ирина, подошла ко мне и поцеловала в щеку. – Есть будешь?
– Очень, – почему-то ответил я. И добавил. – Очень буду.
Потом она спросила:
– Как идут репетиции Нушича?
Я не ответил.
Она переспросила, как бы показывая свою заинтересованность.
Я отвечал что-то не важное, не интересное, а сам думал: «Сейчас Сашка ляжет спать, и начнется».
Но мама легла раньше тебя.
На следующий день повторилось то же самое.
И на следующий.
Я, словно боясь чего-то, приходил домой вовремя. Я покупал тебе мороженое и еще какую-то идиотскую колбасу, и пельмени зачем-то, и картошку – в общем, разную ерунду, которая всегда может пригодиться.
Я как будто доказывал твоей маме, что я – примерный муж, хотя она не просила никаких доказательств.
Мама встречала меня с улыбкой, целовала в щеку, разбирала сумки, и мы ужинали втроем, и вели какие-то пустые разговоры, мы с тобой периодически грызлись, потом мирились, короче говоря, шла нормальная, семейная, по-своему прекрасная своей занудливостью жизнь, которая меня невероятно бесила: я совершенно не понимал, что с ней делать. Как быть с «выяснялками», со скандалами всякими я очень хорошо понимал, а что делать с нормальной жизнью – не знал.
Первым, конечно, не выдержал я.
У нас был прогон второго акта. Мне показалось, что все очень скучно, неувлекательно, вяло. Я наорал на артистов. Наорал грубо, глупо, скучно, и, главное, бесперспективно. Артисты сидели, потупившись, не спорили, не возражали, и это было совсем противно.
Я пришел домой, выпил пол стакана водки, и, когда мама сказала: «Всем – добрых снов», прошел в ее (еще недавно нашу) спальню, сел на кровать и спросил:
– Ты не хочешь со мной поговорить?
– Встань с кровати, – сказала Ира совершенно спокойно. – Ты же знаешь: я не люблю, когда в тех же брюках, что ходят по улице, садятся на кровать.
Я встал.
– О чем? – спросила Ира.
– На пуфике не спят? – буркнул я, как мне показалось – зло и иронично, и рухнул на пуфик. – Ты знаешь, о чем.
Ира подошла ко мне близко-близко. Она смотрела на меня сверху вниз, и от этого я чувствовал себя виноватым.
Я опустил голову.
Ира молчала и улыбалась. Я молчал, хмурился, смотрел в пол. Сколько это длилось, я понятия не имею. Лично мне показалось, что прошла вечность.
Ира нагнулась, поцеловала меня в затылок, – ее длинные, рыжие волосы забыто щекотали мне щеки.
– Хороший мой, – мне казалось, что она улыбается, хотя я этого и не мог видеть. – Хороший мой, меня совершенно не интересуют твои бабы. Веришь?
Я зачем-то подумал: «Хороший мой» – это ведь гораздо лучше, чем «милый», «зайчонок» или «мася».
– Хороший мой, – словно специально повторила Ира. – Мы с тобой близкие, чужие люди. Так бывает. Близкие и чужие. Ты совсем не понимаешь меня, а мне вовсе не охота понимать тебя. Но между нами есть что-то такое, что непременно связывает людей, если они живут так долго…
– Да-да, – радостно сказал я, не поднимая головы. – Я как раз недавно думал об этом.
Ирина потрепала меня по голове:
– Видишь, как хорошо: мы всё ещё думаем с тобой об одном и том же.
И тогда я спросил, сам не зная зачем:
– А ты еще хочешь со мной стареть?
Ирина ответила, не меняя интонации:
– А вот это вопрос подлый, и ты это прекрасно понимаешь. Кстати, хороший мой, ты, наверное, думаешь, что старость от нас далеко? Не хочется тебя огорчать, но, к сожалению, она уже наступает. Ты что, надеешься, что здесь будет, как в театре: «картина последняя – старость», и актеры начинают играть стариков? Нет, мой хороший. Старость наступает постепенно, как… – Ирина задумалась на мгновение. – Как… Как утренний туман, она наступает. Наступает, наступает, и вот ты уже – другой, старый, затуманенный.
Ирина расхохоталась.
Я обнял ее за ноги. Она отстранилась.
– Близкие и чужие, – повторила она, продолжая смеяться. – Правда, я здорово придумала: близкие и чужие?
Я вышел из ее спальни, выпил еще водки, почистил зубы, выключил везде свет, пошел в кабинет.
«Моя жизнь ее совершенно не волнует, моя жизнь ее совершенно не волнует, – повторял я, как школьник, который учит наизусть стихотворение. – Моя жизнь ее совершенно не волнует».
Я посидел за письменным столом, зачем-то для самого себя делая вид, будто готовлюсь к репетиции. Расстелил матрац. Разделся, аккуратно развесил вещи в шкаф.
Лег. Погасил ночник.
Я не испытывал никакого облегчения из-за того, что Ирина не будет выяснять со мной отношения, гораздо больше, признаюсь, меня поразило, что ей абсолютно не интересна моя жизнь. Как такое может быть? Я вдруг стал не интересен своей жене? Со всеми моими бредовыми идеями, потрясающими планами, увлекательными и смешными рассказами, со всей нашей общей жизнью, наконец? Я – человек, который вытащил ее из болезни, от которого она родила сына, вместе с которым построила дом, – стал ей абсолютно безразличен? Как такое могло произойти? Почему она смогла так быстро вычеркнуть меня из своей жизни? Неужели я такой незначительный, даже для своей жены, человек, что меня можно так легко выкинуть и из жизни, и из души?
А… Наверное, у нее у самой роман… Почему нет? Женщин, конечно, не страшит простатит, но в сорок лет невозможно прожить без секса. Наверняка у нее есть мужик. Или женщина? Почему нет? Все женщины – потенциальные лесбиянки… Я стал думать, какой вариант меня раздражает меньше: если у жены – любовник или если у неё – любовница? Как ни странно, эти размышления меня успокоили. Предположение, в котором я был практически убежден, делало мир более понятным, и, значит, не таким противным.
И тут возникла новая догадка: все вообще очень просто: у нее – климакс. Почему нет? В сорок лет – рано? Кто сказал? А, может быть, ее болезнь спровоцировала ранний климакс? Вполне, кстати, возможный вариант.
Я уснул, абсолютно уверенный в том, что в ближайшие дни мы разведемся, и волновало меня только одно: как рассказать о нашем разводе тебе, моему сыну.
Но на следующий день ничего не произошло. И через день тоже. Мы продолжали играть в семью. Поначалу я ещё спрашивал самого себя: зачем? Но потом надоело задавать вопрос, на который нет ответа.
Приближалась премьера, и работа, как водится, спасала меня от размышлений, раздирающих душу. Знаешь, что такое размышления, раздирающие душу? Эти те мысли, которые не ведут ни к каким решениям. Просто дерут твою душу мысли бессмысленные и беспощадные, как русский бунт, и всё.
Премьера «ОБЭЖ» прошла, на удивление, успешно. Народ хохотал, радовался, хлопал. Мой Василий долго жал руку и обещал гастроли в Питере, Прибалтике и еще Бог знает где.
Ирина пришла на премьеру в потрясающем, неведомом мне платье. Она сказала мне: «Молодец», а на банкете отменно играла роль любящей жены, которая гордится своим мужем.
От всего этого мне было почему-то невыносимо грустно, сам даже не знаю почему.
Дома я спросил Ирину:
– Ну, и как тебе, если серьезно?
Мне очень хотелось поговорить с ней про премьеру. Не знаю: привычка это или не привычка, просто хотелось очень.
Но Ирина только улыбнулась:
– Я же сказала: «Молодец». Доброй ночи!
И ушла в спальню.
«А если сейчас взять и ворваться в ее спальню», – вздохнул я и пошел в кабинет на свой матрац.
Марина пришла на второй спектакль, который, как водится, был хуже первого: актеры успокоились, драйв не рождался… Однако, зритель хлопал все равно, мне кричали: «Браво!» Я скромно кланялся, выводил артистов, в общем, всё было вполне себе по-премьерному.
На следующий день я приехал к Марине.
На кухне меня ждал празднично накрытый стол. Причем накрыт он был не лишь бы как и чем, а очень вкусной едой. Я с наслаждением ел, а Марина с не меньшим удовольствием смотрела, как я поедаю ее стряпню. Она бесконечно говорила, что я – гений, что я сам не знаю, какой шедевр создал, и что в наше злое время столь необходимы такие добрые, легкие спектакли, на которых люди могут отдохнуть от этого времени и даже немного возвыситься душой.
Я смотрел на нее и думал: «Ну, почему же я не люблю тебя, такую хорошую? Почему же мне так скучно с тобой? Почему все твои слова меня не радуют, а раздражают? Что же мне еще, придурку, надо? Ну, что я за сволочь?»
Однако, я честно старался улыбаться, изображать страсть и между блюдами успевал целовать Марину в какие-то неожиданные места.
Потом мы пошли в спальню, и я зашторил окно. Пока я его зашторивал, Марина успела раздеться. Когда я повернулся к ней, она лежала, раскинув руки, и улыбалась, как ей, наверное, казалось, призывно.
– Ну, иди ко мне, гений, – зачем-то прошептала она. – Иди, милый. Представляешь, ты первый гений, с которым я делю ложе.
Я быстро разделся, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сказать какую-нибудь гадость, закрыл глаза и рухнул в постель, по-моему, даже придавив какую-то ее выступающую часть тела…
…Я уже собрался уходить, когда Марина вдруг сказала:
– Когда мы расстанемся, я ведь могу рассчитывать на твою дружбу?
– А почему… – начал я.
Но Марина не дала договорить:
– Милый, я все чувствую. Я, конечно, не гениальная, как ты, но я все чувствую. Если захочешь, ты можешь уйти от меня в любой момент. Правда. Никаких обязательств. Ты очень нерешительный, будешь мучиться – не стоит. Знаешь, человеку бывает сложней поверить в то, что его не любят, чем в то, что его любят.
Это была интересная мысль, мне даже понравилась.
Что надо говорить, я не знал и мямлил:
– Нет, Марин… Почему? И вообще… А дружить, если…
Но она снова не позволила мне договорить. Тут-то она и сказала то, что я изо всех сил стараюсь забыть, но не могу.
– Милый, ты понимаешь, что на моем месте может быть любая женщина, которая сможет с открытыми глазами слушать твои рассказы и жарить тебе картошку так, как ты любишь. Любая, понимаешь? Потому что, в сущности, все, чего тебе не хватает в жизни: внимания, и чтобы картошку жарили не лишь бы как, а именно так, как ты любишь…
Я решил, что больше не приду к Марине никогда.
х х х
Выяснялось, что я совершенно не умею расставаться с женщинами. Вообще. Как-то я предпочитаю, чтобы они уходили от меня сами, и сами говорили какие-то прощальные слова. Нет, послать я, конечно, могу. Истерику там устроить. Запросто. Но вот красиво уйти, уйти так, чтобы остаться друзьями, – не получается. Я вообще не очень понимаю: как можно остаться друзьями с той, которую любил? Вот женщина была для тебя миром, загораживала мир, заменяла… А потом остаться друзьями?
Не понимаю…
Когда в театре я увидел эту вертикальную спину, я почему-то сразу подумал, что расстаться с ней будет невозможно.
Или я это уже сейчас придумал?
Времена так путаются в голове: прошлое, настоящее, и будущее все время забегает. Старость, наверное…
А что, сынок, старость – это, может, когда времена путаются в голове. Как думаешь, я прав?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Если я, почти пятидесятилетний, и почти (так, во всяком случае, мне кажется) здоровый мужик, у которого есть работа, относительное признание и еще более относительная семья, есть, наконец, сын, которого я люблю до умопомрачения, хотя всячески стараюсь этого не показывать, отчего подчас бываю излишне груб, и сам же от этого злюсь… Так вот. Если я, такой, как я есть сегодня, сейчас, в эту самую минуту, спрошу себя самого: «А что такое, в сущности, моя жизнь?» – что я сам себе смогу ответить? Наедине с самим собой, когда никого рядом: только ты сам, Небо и какая-то неясного происхождения стеснительность внутри, которая не позволяет врать – что?
Можно, конечно, решить, что у меня – кризис среднего возраста… Почему нет? В юности все проблемы можно списать на то, что ты слишком юн; не успеешь оглянуться, а уже – здрасьте! – кризис среднего возраста; потом – раз! – и уже всё можно списывать на старческий маразм. Когда жить – вообще неясно.
Неясно вообще: кто измерял возраст, кто ведает, когда у жизни этого конкретного человека начало, а когда кризис именно среднего возраста? Вот если б можно было эдак поглядеть на свою жизнь сразу, целиком ее окинуть – тогда, конечно, тогда понятно, где именно середина… Но на такое только Бог способен, а Он телеграммы: «Дорогой, ты дошел до середины жизни, у тебя – кризис», – не посылает чего-то.
Недавно меня пригласили на теле-шоу под девизом: «Для тех, кому совсем нечего делать», что-то такое рассказывать про театр и про искусство. Ладно, поехал. А вез меня пожилой таксист-армянин, переживший, как выяснилось, землетрясение в Спитаке. Колоритный такой человек, седобородый мудрец. Так вот он сказал мне: «Господи, если б я знал, что доживу до моих преклонных, разве бы я так жил? Нет, я бы жил совсем иначе, я бы жизнь на потом откладывал. Маялся бы, маялся, а лучшее откладывал на десерт. Говорил бы: «Не надо мне пока. Я пока говно свое похлебаю, зато буду уверен, что потом покушаю десерт. Вот было бы хорошо! Но – невозможное дело!»
Итак. Если честно, не увиливая, не философствуя, не разукрашивая… Конкретно, как в милиции – ответьте, будьте любезны, для протокола: «Что такое есть ваша жизнь?»
Ты, мама, театр, друзья, женщины – все это вместе, что ли, и есть моя единственная и неповторимая жизнь? Если жизнь – дорога, то, что из всего этого – путь? Если жизнь – река, то какие у нее берега, и к ним я плыву или от них? Стержень имеется какой-нибудь во всем этом? Или все мы так нынче существуем, что в жизни лишь объем важен, масса, количество, а на что оно все нанизано – фигня фигнёвская?
У зверей моих любимых существует ведь основа жизни: самое главное, самое необходимое? Конечно! Пожрать! Бог его знает, о чем страдает по ночам, скажем, лев, или почему волк воет на луну – тоже, наверное, переживает за что-то своё. Но при этом стержень осознает: жрать! Наверняка среди величественных жирафов есть такие, кто ненавидит свой рост и даже страдает из-за него, плачет по ночам, что никогда ему не быть маленьким, словно мышка, однако, все равно: тяни шею, ешь листочки, насыщайся – это главное.
Так жить не только проще, но и разумнее. А у меня – что? Может быть, главное в моей жизни: стержень, дорога, берега реки – безлюбье? То, что человек может жить любовью – понятно, про это миллионы книг написаны, а вот может ли он жить безлюбьем? Отсутствием любви, бесконечными, робкими, как бы скрытыми от себя самого попытками ее найти, может быть, и определяется моя жизнь? Мужчина, который не исключает, это и есть мужчина, живущий безлюбьем. Не так разве?
«Живущие безлюбьем» я бы так и назвал свой новый спектакль по Чехову, только ненавижу, когда пьесы переименовывают. Если назвал Антон Павлович свою пьесу «Вишневый сад», – значит, так тому и быть, хотя название и не кассовое. «Живущие безлюбьем» или «Вишневый ад» было бы, конечно, для афиши лучше, но он так свои пьесы не называл.
Да, я снова решил ставить Чехова, да еще и заезженный – переезженный «Вишневый сад». Вася, как водится, сначала был против, но потом я ему рассказал, как там и что будет, да еще и пообещал дилогию по Антону Павловичу выдвинуть на какую-нибудь премию. Вася и согласился. Смешная у меня игра с моим директором происходит: и правила одни и те же, и результат предсказуем… Однако не будь ее, и мне было бы скучно, и ему. Зачем люди играют все время? От скуки, не иначе.
Герои Чехова тоже играют все время, потому что живут скучно. А какой может быть интерес, азарт, страсть в атмосфере безлюбья? Разве живет тот, кто никого не любит и кому любить некого? Не живет он, только вид делает. Атмосфера безлюбья – это кладбище человеческих душ. Ведь если нет любви – зачем душа? Ни за чем. Незачем, то есть. Не нужна.
Герои «Вишневого сада» – люди без души. Да-да… Они душой ни на что не откликаются, потому что играют все время. У нас ведь, как кто про Чехова вспомнит, сразу все вокруг начинают трындеть про духовность, да про духовность. Забавно… А Антон Палыч, между прочим, обозначил жанр «Сада» – «комедия». Комедия про духовность – это вообще может быть?
Да не просто комедия, а комедия дель арте, в которой действуют не живые люди, а маски: маска страдающей русской помещицы, маска ее брата, маска неудачника… По сути, только два живых персонажа в пьесе: Лопахин и Фирс. Один потому что – слишком деятелен, чтобы постоянно играть. Другой – слишком стар, чтобы продолжать игру.
…Я понимаю, сын, что тебе, наверное, скучно это все читать. Где ты и где Чехов? Но если ты все-таки дошел до этого места, ты можешь легко все, что про «Вишневый сад» написано – пропустить. Совсем скоро я расскажу тебе про встречу с той, с кого, собственно, и начался Чехов… Потому что «ОБЭЖ» какой-нибудь – он рождается просто так, ни с чего. А чтобы Чехов… Тут должна появиться женщина, которую хочется удивлять.
Зачем я фиксирую все эти мысли? Зачем я переписываю свою первую речь перед актерами? Гордыня? Стараюсь для потомков? Всяко может быть. И вообще, почему я должен перед кем-то отчитываться? Пишу, потому что нравится – и всё!
А если даже и для будущего стараюсь – так что? Разве нельзя? Ты, сынок, покажи мне режиссера, поэта, актера, писателя, художника – короче говоря, творца – кого бы вовсе не волновало, как его будут вспоминать. Эти творцы, даже самые бездарные, они ведь не просто так орут, они в будущее голосят, не могут без этого. Как жирафу не прожить без листочков, а волку – без мяса, так и они: умрут без этого крика, направленного в будущее. И если ты встретишь творца, которого не волнует, как его будут вспоминать потомки, – значит, перед тобой лжец, ты держись от него подальше.
Я так хотел, чтобы Лиза была на первой репетиции. Потому что я знал, что заведусь, буду эмоционален и смогу произвести впечатление чертовски талантливого человека.
Но Лиза, как водится, уехала на гастроли…
На первой репетиции я просто читал актерам цитаты. Потому что ключ к «Саду» в тех словах, которые говорят герои. Не в поступках, не в отношениях, а вот именно – в словах. Так нелепо, неискренне, позерски, наконец, просто глупо люди не разговаривают. Нам почему-то кажется, что в то время именно так и разговаривали, но «то время» – это начало ХХ века. Герои Льва Толстого, Горького, да и более раннего Островского так не говорят. Значит, Чехов специально придумывал героям противоестественную речь, – даже удивительно, как этого можно не замечать!
(Господи, сынок, как мне обидно, что ты не любишь читать пьесы! Каждый читатель пьесы как бы ставит ее в своей голове. Это ведь так интересно… Ну, да ладно.)
Итак, на первой репетиции я читал артистам цитаты, чтобы они убедились, как манерно, без тени открытости говорят герои.
Вот Раневская появляется в доме: «Детская, милая моя, прекрасная комната… Я тут спала, когда была маленькой… И теперь я как маленькая…»
Вот сестра вспоминает о гибели брата: «Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик». Это сестра – о гибели брата?!
Вот Гаев: «Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи».
Вот Дуняша, простая русская девушка: «Я стала тревожная, вся беспокоюсь… Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь… Страшно так…» Это текст дворовой девки?!
Вот Прохожий, проходя, произносит такие слова: «Чувствительно вам благодарен. Погода превосходная… Брат мой, страдающий брат… выдь на Волгу, чей стон… Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать…»
Вот Трофимов: «Это ужасно! Что она говорит? Это ужасно… Не могу, я уйду… Между нами все кончено».
Епиходов: «Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие…»
Продан «Вишневый сад», и Аня успокаивает маму: «Мы посадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..»
Они что, с ума там все посходили? Дочь не в состоянии отыскать нормальные, человеческие слова, чтобы успокоить маму? Что за странное сборище экзальтированных дам и господ? Почему они все разговаривают так, словно играют? Почему они так боятся быть искренними? Почему они за красивыми словами скрывают истинные проявления своей души?
Разве можно ставить «Вишневый сад», делая вид, что не понимаешь: нормальные, живые люди так говорить не могут?
Чехов доводит дело до абсурда в знаменитом монологе Гаева: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв… » И так далее.
Как же можно это играть по законам русского психологического театра? Люди, существующие в безлюбье, люди, которые боятся и собственных, и чужих душевных порывов – существуют в театре абсурда, который сами же и создали.
Я одел героев в костюмы комедии дель арте. И загримировал их соответствующим образом. Среди них было два нормально одетых и нормально разговаривающих человека: Лопахин и Фирс. Лопахина эта бесконечная игра бесит, Фирс же от нее просто устал. И когда все уедут, забыв про старого слугу, Фирс удовлетворенно – это важно: удовлетворенно, а не печально – скажет: «Про меня забыли… Ничего, я тут посижу…» Потом улыбнется себе: «Жизнь-то прошла, словно и не жил». И ляжет спать, удовлетворенный тем, что играть больше не надо.
Где происходит действие «Вишневого сада»? Оно происходит за кулисами жизни. За кулисами оно происходит! Вот этот странный мир закулисья жизни нам с художником и надо выстроить. И не будет никакой русской усадьбы, а будет странный, ускользающий, неясный мир театра, где не столько живут – сколько играют персонажи Чехова.
В том мире, где нет любви, где мать и сестра даже гибель собственного сына и брата переживают красиво, где дочь не в состоянии найти человеческих слов, дабы успокоить свою мать, – нет жизни. Есть бесконечная, не столько красивая, сколько разукрашенная, и от того еще более страшная игра.
Нам все кажется, что Чехов любит своих героев. Да не любит он их, повторяю я в сотый раз! Не любит! Он смеется над ними, подтрунивает. Люди, которые не проживают свою жизнь, а играют ее, стараясь перед самими собой и перед другими выглядеть «покрасившее» – достойны лишь того, чтобы над ними посмеялись.
Почему Палыч наш всегда современен? Потому что мы похожи на его героев? Да, конечно. Только нам приятно считать, будто мы близки чеховским героям своей глубиной и духовностью, хотя на самом деле мы похожи на них своим безлюбьем, неумением подлинно проживать свою жизнь и идущим отсюда стремлением ее играть. Нам, так же, как героям Антона Павловича, важно не то, какими мы выглядим перед Богом, а то, какими мы выглядим друг перед другом.
И еще, знаешь, что я тебе скажу? Если бы Антон Павлович писал бы ровно такие же пьесы, а выглядел бы, скажем, как современный бритый качок из фитнесс-зала – мы эти пьесы совсем по-иному на сцену переносили бы. Мы ведь не текст Чехова ставим, мы бесконечно ставим его фотографию в пенсне – фотографию русского интеллигента. Чехов, без сомнения, гений, только он очень ироничный, жесткий и недобрый писатель. К тому же, как я уже говорил, физически довольно крепкий мужик.
х х х
Я лежал на своем матраце и думал о том, что надо бы купить кушетку. В конце концов, я известный режиссер, народный артист, мне почти пятьдесят, я руковожу театром, средняя посещаемость которого одна из самых больших в нашем городе, – и я должен спать на некотором расстоянии от пола. Когда человек умирает, его душа возносится в небо, наверное, поэтому люди решили спать, пусть хоть и на маленькой, но все-таки высоте, чтобы душа постепенно привыкала…
Я смотрел в окно. В окне не было видно ничего, что могло навеять хоть что-нибудь: ни грустного дождя, ни таинственного снега, ни романтических звезд – совсем ничего не было видно в окне. Снизу, с пола, даже дома не светились: только темная, плотная пустота ночи, которая не расширяла реальность, а, наоборот, стискивала ее, уменьшала. Я хотел казаться самому себе маленьким и несчастным, и у меня это здорово получалось, причем получалось вполне себе душевно и радостно.
Я вспомнил, как страдал, когда выяснялось, что я совершенно не интересен твоей маме: мне казалось тогда, что мир рухнул, что я потерял почву, и всякие еще банальности мне мерещились, которые именно из-за своей обыденности и неоригинальности мучили еще больше. Тогда я был несчастен, как говорит ваше поколение, «по жизни», а сейчас – по роли: я печалился, чтобы не испугать своё счастье, которое, понятно, рано или поздно все равно убежит, но зачем же его пугать?
Тогда у меня не было Лизы. А теперь была. Точнее, была настолько, насколько она вообще может быть в чьей-то жизни.
Я посмотрел на часы: два часа ночи. Завтра – репетиция. Актеры, понятно, не сразу приняли моего Чехова, но постепенно свыклись. Особенно после того, как я снял с роли актрису, назначенную на Раневскую. Во время репетиции она двадцать один раз произнесла слово «духовность». Я специально считал. Потом сказал: «Очко. Двадцать один. Поздравляю. Вы выиграли. Приз – ваше свободное время». Я закончил репетицию, выслушал стенания актрисы, назначил приказом другую, которая слово «духовность» не произносила вовсе, ибо не знала его значения. После этого работа пошла куда быстрее.
Завтра репетиция. Я должен быть бодр и энергичен. Мне так говорили учителя: режиссер – это всегда бодрый и энергичный человек, в лексиконе которого нет словосочетания: «не знаю». «Ответить артистам на любой их вопрос: «Не знаю», – это все равно, что дрессировщику сунуть голову в пасть тигра и приказать: «Грызи!», – говорил один из моих учителей.
Я должен быть бодр, энергичен и – в постоянной готовности ответить без раздражения и умно на любую актерскую глупость. А я лежу тут на матраце и с удовольствием страдаю вместо того, чтобы спать.
Тут пикнул телефон: смска! В два часа ночи она могла прийти только от Лизы. Я схватил телефон. Свет экрана ослепил в темноте.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































