Текст книги "Исповедь уставшего грешника"
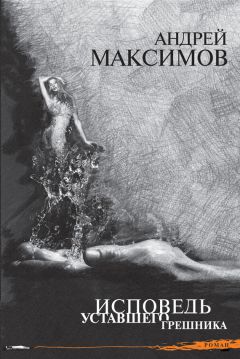
Автор книги: Андрей Максимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
«Я очень тебя люблю. Не злись. Ты мне нужен», – прочел я ослепшими глазами и понял, что завтра я буду таким, каким должен быть режиссер на репетиции.
Мы опять поссорились. Когда это было? Сегодня? Вчера? Какая разница?.. Я не ждал никаких смсок, грустил, и вот…
Повод для ссоры был дурацкий. Лиза, как водится, поехала на гастроли. Она позвонила мне, а вокруг нее перекатывали камни слов отвратительные мужские голоса… Так всегда бывало. Всегда. Иногда у меня получалось не обращать на это внимание, а тут я психанул. Знаешь, что я тебе скажу, сын? Люди слишком часто психуют из-за того, что мир какой-то не совершенный, нелепо как-то он устроен. Не, ну, правда: я тут, на своих репетициях, а она – там, разгребает камни мужских голосов… Красивая, тонкая, талантливая, умеющая восхищать, со своей короткой черной стрижкой и огромными умными глазами… Умные глаза – это самое сексуальное, что может быть у женщины, во всяком случае, с точки зрения седого мужчины.
И вот, она – там, а я – тут. Ну, разве можно спокойно пережить эдакую нелепость мира? Только не надо мне, пожалуйста, говорить: мол, что ж поделать?.. тут же ничего не изменишь, мол… не хочешь же ты погубить ее карьеру, мол?.. При чем тут всё это? Она там, а я – тут. Как же можно не психануть?
Глаза привыкли к свету телефона. «Я очень тебя люблю. Не злись. Ты мне нужен», – еще раз прочел я. Бог мой, влюбленный – он еще хуже ребенка: ребенок верит все-таки не всем словам, а влюбленный – всем, которым хочет верить.
Я прочитал смску в третий раз, написал в ответ какую-то романтическую ерунду, положил телефон и спокойно уснул – как человек, у которого в жизни все в порядке.
В жизни мужчины, который не исключает, обязательно появится женщина. Все-таки, наверное, безлюбье – противоестественное состояние человека, и человек, как может, старается его изменить…
Она подошла первой. На ней было надето узкое красное платье, в руке – стакан апельсинового сока. Сочетание красного с желтым выглядело отвратительно. Но надо всем этим «светофором» светились ироничным любопытством умные черные глаза. Стоило их увидеть, и все остальное переставало иметь значение.
Она сказала:
– Здравствуйте. Как ваши дела? Вы не скучаете?
Она говорила так, будто мы знакомы. И я подумал: а может, мы, действительно, знакомы? С кем только не перезнакомишься за свою жизнь!
Чем она останавливала? На что стоило посмотреть прежде, чем опустить взгляд на вполне себе красивую грудь? Черные глаза? Конечно… Но было ещё одно… Как же его назвать? Как описать? От ее взгляда, от всей ее фигуры, от поворота головы, от взмаха рук шла какая-то испуганная нервность, которая, как правило, и отличает талантливых женщин…
Я ненавижу тусовки, потому что совершенно не знаю, что на них делать, и не понимаю, как себя вести. У меня складывается ощущение, что на сборищах этих я не сам себя веду, а меня ведет некая неприятная, но мощная сила. Раньше, когда мы ходили вместе с мамой, все получалось как-то проще: мы с ней тихонечко всех обсуждали, получалось даже занятно и смешно… Но с тех пор, как она стала вести абсолютно свою, подчеркнуто самостоятельную жизнь, ходить на эти тусовки стало совсем невыносимо.
Поэтому в последнее время я захаживал лишь туда, куда надо было зайти обязательно. Это сборище было как раз из таких. Один раз в год мэр собирал деятелей культуры, дабы сообщить: как он нас всех любит; как нуждается город в нас и как жаль, что он не может удовлетворить все наши материальные запросы, но будет, разумеется, очень стараться. Не прийти сюда означало бросить начальству некий неясный вызов, а вызовы я бросать не люблю, тем более начальству…
В правой руке она держала стакан с отвратительно желтым соком, а пальцами левой нервно выстукивала мелодию на собственной ноге. Пальцы у нее были очень красивые – длинные, тонкие, с ухоженными ногтями… Пальцы у женщины, скажу тебе, сын, так же важны, как обувь у мужчины – они о многом могут сказать.
– Добрый вечер, – ответил я, зачем-то изо всех сил стараясь не смотреть на эти длинные, выстукивающие мелодию пальцы.
– Можно я приглашу вас на свой концерт? – спросила она.
Я понял, что очень боюсь ее. Да, пожалуй, это первое чувство, которое я испытал, ее увидев: страх. Она, без сомнения, принадлежала к тому сорту женщин, которые имеют обыкновение властвовать надо мной. Я слишком хорошо знал, что такие встречи в конечном итоге всегда кончаются печально, если не трагически, да-да, через радости, восторги, истерики, я непременно вернусь к одиночеству, которое после всех этих радостей, восторгов и истерик будет восприниматься особенно безысходно.
Я это понял сразу, потому что, когда тебе под пятьдесят, ты уже умеешь мгновенно сканировать не только саму женщину, но и будущую жизнь с ней. Дело, однако, состоит в том, что это сканирование вовсе никак не влияет на поступки… Словно ты знаешь, что впереди пропасть и что после полета непременно будет ужасное падение, ты убежден в этом так же точно, как в том, что после сегодняшней ночи наступит утро, но ты все равно двигаешься к пропасти. И не потому, что так любишь полет, и не потому, что не боишься падений, а просто двигаешься – и все. Словно тебя двигает будущая любовь, которой очень хочется стать настоящей.
Этот магнетизм будущей любви едва ли не самое страшное, что было в моей жизни. Этот магнетизм, который делает тебя несвободным и беспомощным, но против которого нет оружия. И я бы с удовольствием написал: «Сынок, бойся этого магнетизма! Избегай его!» Пустые слова! Не убережешься…
Однако я еще пытался сопротивляться:
– Спасибо большое, – сказал я. – Но вряд ли получится. Я целыми днями репетирую.
По моим расчетам она должны была обидеться. Точнее, я придумал своей головой, что она должна обидеться, но чувствовал-то я, что обидеться она не может.
Она улыбнулась:
– Знаете, жизнь порой такие кульбиты выделывает, – она залезла в сумку и вынула оттуда билет. – Я все-таки оставлю вам пригласительный. У меня к вам одна просьба, простая. Вы положите его в карман, а не в урну, хорошо? А там – поглядим.
Она протянула мне билет, но вдруг отдернула свою красивую руку:
– На всякий случай, я оставлю вам свой телефон.
Она быстро написала телефон, протянула билет и исчезла.
«Какая наглая девица», – подумал я, убирая билет в карман.
«Какая наглая девица…» Дурацкая фраза, будто я ее не сам придумал, а вспомнил реплику из какой-нибудь пьесы! Чужая какая-то фраза, обязательная, а не естественная.
Я тебе так скажу, сынок: когда мысли твои диктуют одно, а чувства приказывают совсем другое, – чувства всегда побеждают. Они сильнее. Мысли ведь от мозга, от тебя самого происходят, а чувства, или, тем более, интуиция – от Бога. К интуиции ты вообще никакого отношения не имеешь, она падает неясно откуда, и вот ты ходишь, придавленный своими чувствами и изо всех сил пытаешься доказать самому себе, что все догадки и подсказки интуиции – ерунда, ведь совершенно не ясно, на чем они основаны. Однако при этом ты прекрасно понимаешь, что врать и даже искать доказательства собственного вранья умеет мозг, интуиция лгать попросту не умеет, а если тебе, дружок, не получается ей поверить – так это твои проблемы, сам с ними и мучайся, никто не виноват.
Дома я достал из кармана билет. Даже рассматривать его не стал, просто переложил в куртку. Я не выбросил его только потому, что до мусорки идти далеко, а до куртки близко. Я вытащил билет, покрутил в руках (изо всех сил делая вид, что занят своими мыслями, хотя мысли у меня как раз были чужие, словно не мне принадлежавшие) и положил в карман куртки. И всё. Когда-нибудь найду, поверчу в руках, с трудом вспоминая, откуда он взялся, и выкину.
Репетиции «Вишневого сада» шли очень хорошо. Чеховский текст, произнесенный не от себя, как бы играя, отстраненно, стал звучать совершенно по-иному. Казалось, чеховские герои играют потому, что стесняются всерьез произносить столь возвышенные слова, они словно насмехались над текстом, который от этого становился более живым и естественным.
И тут мы уперлись в последний монолог Лопахина. Я понял, что совершенно не знаю, как его ставить… Я не знал, что говорить артисту, а это – самое печальное в моей профессии.
Сначала Лопахин орет: «Я купил!.. Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение…» Тут все понятно: радуется дядька, что сбылась мечта жизни. Ну, и радовался бы. Как вдруг…
О, великий, таинственный Чехов! Что-то он такое в людях понимал, что и через столетие не разобраться.
Мгновение назад абсолютно счастливый человек вдруг произносит: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». Секунда – и снова взрыв: «Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За все могу заплатить?»
Что такое с ним? А может быть, Лопахин, купив вишневый сад, тоже стал ненастоящим, взошел на сцену этого театра, где все играют? На время или навсегда – не важно, но тоже перестал жить, а начал играть?
Но это все – литература. Как показать? Как объяснить артисту, что ему надо делать? Как превратить литературоведческие выводы в действие? Надеть на Лопахина маску, чтобы он игрался ею, то надевая, то снимая? Разукрасить лицо, чтобы он уже с торгов приехал разукрашенным, так же, как все другие персонажи?
Обо всем об этом больше всего мне хотелось поговорить с твоей мамой. Оказалось, что разговоры с ней – это единственное, чего мне по-настоящему не хватает в жизни, в которой мы ней стали «чужими – близкими» людьми.
Вот этого не хватает: прийти, сесть на диван, некоторое время молча смотреть, как Ира режет картошку так, как я люблю, как ломтики падают на сковородку и начинают вкусно шипеть, а потом сказать: «Понимаешь, Чехов и «Вишневый сад», и я не понимаю…» И внезапно замолчать ненадолго, и по тому, как напряжется Ирина спина, понять, даже лица ее не видя, что всё её внимание принадлежит сейчас мне, и что, даже если она ничего не подскажет, то только ей смогу я выговориться так, что все пойму сам.
Режиссер – это человек, работа которого состоит в том, чтобы кому-нибудь что-нибудь объяснять, и потому мне так трудно думать молча. Язык – ключ, который заводит мой мозг, если язык не работает – мозг не заводится. Мама была тем удивительным человеком, рядом с которым хотелось думать. Что такое нас связывало? Или связывает? Не знаю… Что за ниточка, ленточка, веревочка? Как ее назвать? Любовь? Вряд ли? Понимание? Возможно… Может, необходимость? Может, привычка? Да хоть бы и привычка – какая разница! Разве в словах дело, когда речь идет о человеке, вместе с которым живешь полтора десятка лет? Вот этого самого, чему нет названия, мне и не хватало сейчас больше всего.
Декорации нашей жизни остались прежними: та же квартира; те же знакомые вилки-ложки-тарелки; та же домашняя одежда у мамы и у меня; часы как отставали всегда на две минуты, так и отстают, черт бы их побрал; и маленькая трещинка на чашке никуда не девается… Декорации те же, а жизнь в них – совсем другая. Если из дома уходит любовь, человек испытывает примерно то же, что чувствует горожанин, когда в город входят вражеские войска: мир остался, в общем, тем же – дома, улицы, машины, а жизнь невероятным образом преобразилась и стала чужой.
Я пришел домой рано: ни тебя, ни мамы не было. Впрочем, мама пришла довольно скоро, я едва успел принять душ. Я заметил на ней новое пальто: красивое, модное, длинное, почти в пол. Впервые она купила такую важную вещь, не посоветовавшись со мной. Это пальто казалось мне вражеским танком, который вторгся на мою территорию.
– Ты купила себе пальто? – задал я совершенно идиотский вопрос.
Мама, не спеша, сняла обновку, повесила ее на вешалку и только потом сказала:
– Приветтыраносегодняестьбудешь?
Она именно так и сказала, как я написал: без пауз.
Я люблю иногда вести разговор в эстетике театра абсурда и потому ответил:
– Красивое. Тебе очень идет.
Мама посмотрела на меня и усмехнулась.
– Захочешь есть, скажи: я подогрею, – в ее словах появились паузы, но это было единственно хорошее, что появилось в ее словах.
– Хочу, – сказал я.
Ира, молча, пошла на кухню.
Я сел на диван.
– Зачем мы живем вместе? – спросил я.
– Если тебе хочется – уходи, – произнесла мама совершенно спокойно, даже не повернувшись ко мне от плиты.
Надо было что-то говорить. Возникла чудовищная необходимость произносить любые слова. Только эти звуки, сложенные хоть в какой-то смысл (пусть самый глупый, незначительный, пустой, злой, всё это не имеет значения) не позволял встрепенуться памяти. Потому что если молчать… Не произносить никаких звуков здесь, на нашей с ней общей кухне, когда я сижу на нашем, блин, диване, а Ира стоит так, словно и нет меня вовсе… Так вот, если молчать на этом месте, здесь, сейчас, тогда память встрепенется, стряхнет оцепенение и начнет доить сердце, высасывая из него всякие сантименты… А это – лишнее, ненужная эта печаль, не надо ее вовсе… Уже лучше: слова, слова, слова…
И тогда я и спросил, чтобы не молчать:
– А тебе, значит, все равно: уйду я или нет?
Ира развернулась и посмотрела на меня.
Я очень хорошо знал этот ее взгляд: так Ирина всегда смотрела на официантов, которые делали что-нибудь не то. Твоя мама очень не любит обслуживающий персонал, и поэтому такой ее взгляд мне доводилось наблюдать не редко.
– Тызнаешьдорогойчтоябольна, – из ее речи снова исчезли паузы. – Больна, – повторила Ира, и убрала с глаз рыжую прядь, видимо, чтобы волосы не мешали ей смотреть на меня, как на обслуживающий персонал. Она вздохнула и продолжила уже спокойней, пусть с трудом, но все-таки умудряясь делать паузы. – Поэтому мне категорически нельзя нервничать. И тебе, дорогой, не удастся вывести меня из себя, как бы тебе этого ни хотелось.
Вдруг лицо ее побелело, она схватила первое, что подвернулось под руку, – подвернулась тарелка, – и грохнула ее об пол.
– Не надо меня изводить! – произнесла она шепотом, четко отделяя каждое слово.
Я встал и пошел в кабинет. Спиной я почувствовал, что Ира плачет.
Ну, и какой после этого Чехов? Какой Лопахин? Неужели я должен привыкать к тому, что дома я уже больше никогда не смогу спокойно думать? Ну, и зачем, скажите, дом, в котором нельзя спокойно думать?
И я спросил себя в который уж раз: «А зачем я живу тут? Почему не ухожу? Почему я не могу без этого дома? А, может быть, все дело не в Ире, и даже не во мне, а в элементарной лени?»
Куда я, собственно, могу уйти? Придется снимать квартиру, – честно говоря, я даже не очень представляю себе, как это делается. Какую искать квартиру? Однокомнатную? Вроде, одна комната – мало. Двухкомнатную? А зачем мне две комнаты? Ну, ладно, найду я, в конце концов, хату. Сниму. Дальше что? Переезжать туда? Собирать вещи: все свои пиджаки, носки, книжки, рубашки, картины, которые мне дарили, призы всякие, еще чего-то… И вот это все перевозить на съемную квартиру? А потом – что? Потом ходить по городскому начальству, просить квартиру? Выслушивать это вечное: «Вы развелись с женой? Ай-ай-ай… В вашем возрасте? Ну, бывает, бывает… Народный артист, да… Мы подумаем, подумаем. Мы попробуем, попробуем…»
Ужас какой…
Нет, ты – конечно, привязываешь меня к дому… Общение с сыном, это важно. Очень вообще важно, чтобы у сына были папа и мама… Это, правда, необходимо для формирования ребенка… Вот какие слова в голову лезут: формирование ребенка… Но это – правда…
Однако, если честно, лень ведь тоже имеет место ещё как. Инерция. Если бы с неба на меня сейчас упала двухкомнатная квартира. Прилетел бы Карлссон с ключами и сказал: «Вот тебе, народный артист, ключи. Живи». Что бы я делал? Даже страшно самому себе такой вопрос задавать, чтобы не опозориться с ответом…
И что ж тогда получается? Человек живет в своем доме, со своей женой просто потому, что ему неохота ничего менять? Я – тот, кто считает себя духовным существом; я – тот, кто думает о сути и смысле жизни; я, который целыми днями на репетициях не кого-нибудь, а самого Антона Павловича, разговаривает о том, для чего, собственно, живет человек… Вот этот самый «я» остается в своем доме только потому, что ему, видишь ли, лень из него уходить? Как же такое могло случиться? И почему именно со мной?
А дальше память, конечно, встрепенулась. Чего ж ей, собственно говоря, не встрепенуться, когда человек сидит в кабинете, где вот эта книжка подарена Ирой и вот эта тоже, а вот этого смешного ангела мы купили в Риге, когда еще ездили вместе, а матрац на полу и вовсе напоминает о том, о чем надо бы забыть совершенно и окончательно? И встрепенулась память, и начала высасывать сантименты из сердца…
Стало грустно, пусто и совершенно очевидно, что оставаться дома теперь решительно невозможно. Хоть по городу просто так поездить, музыку послушать, может, все-таки что-то придумается про Лопахина… Я схватил куртку, и тут же нащупал билет. Механически посмотрел на часы: 19. 05. Отлично! Значит, я не успею на концерт, и – отлично, и – хорошо. И, слава Богу.
Билет был большой и мешал рулить. Или я так решил, что мешает? В общем, я его достал. Чтобы выбросить. Билет – необычный – не мягкий бумажный, а твердый, картонный, с красивой картинкой и крупными цифрами: 21.00. Время начала концерта.
Из билета следовало, что концерт состоится в католическом храме, где будет играть органист и петь певица. Поскольку органист был мужчина, я понял, что пригласила меня певица по имени Елизавета.
Дальше я начал что-то такое врать самому себе про то, что, мол, просто схожу на интересный концерт, что я обожаю орган, что там, под музыку, подумаю про Лопахина, и, может быть, там, под музыку чего-нибудь придумаю…
Это все неинтересно. Зачем описывать вранье?
Знаешь, сынок, что я тебе скажу? В жизни невозможно прожить без обмана. Периодически врать приходится всем: родителям, женщинам, начальству, подчиненным, иногда даже друзьям.
Врать нельзя только самому себе: больно уж непродуктивное это занятие. Но именно самих себя силимся мы обмануть чаще всего. Глупое занятие, нелепое, невозможное, по сути, бессмысленное и даже опасное. Но такое нами всеми любимое.
х х х
Что такое искусство? Искусство – это искушение искусственным, это, когда тебя вырывают из привычной реальности и ты оказываешься в каком-то другом, ненастоящем и очень интересном мире… На программках моего театра написано: «При выходе из театра не забывайте свою душу». Вася поначалу был против, как всегда, бубнил: «Получается, что все ваши спектакли затрагивают душу? Не слишком ли высокомерно?» Василию Семеновичу непременно надо поспорить: иначе какой же он директор, если будет со всем соглашаться? Я уже говорил тебе: привычная такая игра. А я думаю: если зритель не хочет оставить в театре свою душу, то зачем тогда делать спектакли?
Как долго нас приучали к мысли, что искусство должно отражать жизнь! И сегодня еще находятся люди, готовые на сцене читать газеты и яростно доказывать, что только таким и должен быть настоящий театр. Между тем, я убежден, что искусство должно отражать не саму жизнь, а именно то, чего в этой жизни не хватает. Искусственная реальность более остра, более терпка, нежели реальность настоящая, именно поэтому человек, соприкоснувшийся с подлинным искусством, за два часа может понять о себе и о мире нечто такое, до чего не смог догадаться за всю жизнь.
Я вошел в Храм. Народу собралось мало. Все сидели тихо и переговаривались почему-то шепотом. На полу стояли огромные свечи, я даже не знал, что свечи бывают такого размера. Колыхались свечи и на стенах. Алтарь осветили слабо, поэтому выглядел он не столько свято, сколько мистически. На лики набегали тени, от чего казалось, что лики живут. Глаза святых смотрели на тебя, словно меняя выражение. С ними хотелось познакомиться.
Это был иной мир, который властно выдергивал тебя и из реальности, и из воспоминаний, и из мыслей твоих. Этот мир вырывал из тебя душу, легко подбрасывал ее на ладонях и спрашивал: «Ну, душа, как дела? Как жизнь? Будем лечиться?» И даже, если бы ты хотел что-нибудь возразить, это было совершенно невозможно в этом полумраке, в присутствии этих ликов.
Вдруг зажегся свет над органом и все как по команде обернулись назад – поглядеть на органиста. Безо всякого объявления заиграла музыка. Ведь придумал же какой-то гений, что орган в Храме стоит не рядом с алтарем, не сбоку, а сзади: ты смотришь на алтарь, а тебя словно обнимает музыка. Ни в одном концертном зале не может быть такого ощущения.
Потом запела Лиза. Запела… Какой никчемный, ничего не выражающий глагол! Разве можно этим простым, пустым словом выразить то, что делала Лиза? Да, черт возьми, есть такие вещи, которые не подвластны даже нашему великому и могучему! Разумеется, мне не трудно ляпнуть нечто красивое, вроде: в этот вечер я понял, что это такое – пение ангелов. Да, именно здесь, в Храме, когда играл орган и красивая, тонкая женщина в черном платье пела «Ave, Maria», я понял, что такое пение ангелов. Ну, и кому нужна эта моя фраза? Что и кому она поведает, объяснит?
Концерт длился ровно час. За это время те двадцать человек, что пришли в Храм, не услышали ничего, кроме Божественной музыки и Божественного пения: ни конферанса, ни аплодисментов – ничего.
Я вышел на улицу и некоторое время стоял, ожидая пока моя душа вернется на место. Потом я сел в машину и понял, что ехать никуда не могу. Во мне и даже вокруг меня продолжал жить голос, который я бы назвал ангельским, если б это не было так отвратительно слащаво. Ещё во время концерта этот голос жил сам по себе, он был действующим лицом, который отнимал у нас души, чтобы вернуть их на место другими.
Всё это было, пожалуй, слишком красиво, чтобы являться правдой. Но всё это было именно так. К тому же необходимо было предаваться этим красивым размышлениям, чтобы не думать о другом: естественном и отвратительном. Даже самому себе, даже в мыслях я не хотел признаться, что элементарно хочу завести роман с той, которая умеет творить такое с человеческими душами. А с другой стороны, как можно было этого не захотеть?
Пошлость – это ведь не когда два человека занимаются любовью, пошлость – это когда они занимаются любовью под музыку Баха. Думать о романе после такого концерта было пошло, но, как бы ни старались разные религии, людям редко удается обуздать свои мысли, а мыслям мораль неведома.
Я вспомнил, как на дурацкой тусовке у мэра она сказала… как же она сказала?.. Да, она сказала так:
– Жизнь порой выделывает такие удивительные кульбиты…
Тогда я особого внимания на эту фразу не обратил, хотя и запомнил. А сейчас подумал: «Умно, очень умно».
«Умно, – подумал я. – Умно».
Если такая талантливая и красивая женщина окажется дурой – это будет обман, который никак нельзя допустить. В конце концов, в моем возрасте можно убедить себя в чем угодно, а уж тем более в том, что красавица умна. Я выждал минут сорок и набрал номер, написанный на билете.
– Наконец-то, – сказала трубка вместо «здравствуйте». – А я уж испугалась, что вы не мне звоните.
Разумеется, за сорок минут я успел заготовить и даже отрепетировать свой текст. Но я его тотчас забыл, пытаясь врубиться в то, что сказала Лиза.
Я молчал. Молчал, видимо, слишком долго.
– Алле! – крикнула трубка. – Вы здесь?
– Да-да, – почему-то обрадовался я. – Это вам звонит…
Лиза расхохоталась:
– Да вижу я прекрасно, кто мне звонит. И на концерте я вас видела. Спасибо, что пришли: неожиданно, но приятно.
Я начал вертеть головой.
Лиза снова рассмеялась:
– Как вы смешно вертите головой, как ребенок… Я сижу в машине сзади вас. Сейчас помигаю вам фарами. Видите?
Отрепетированный текст забылся окончательно, и я брякнул:
– Лиза – вы гений!
В трубке раздалась тишина. Даже дыхания не было слышно. Прерывать эту тишину я почему-то боялся.
Наконец, я услышал:
– Спасибо. Это вы серьезно или просто комплемент?
– Совершенно серьезно.
– Вы знаете, для меня очень важен этот концерт. И очень важно, что вы пришли. Вы только скажите мне честно: вам, правда, понравилось? Расскажите, расскажите, мне важно…
– Это было потрясающе. Вы создаете какой-то иной мир, который…
Лиза перебила меня:
– А как я пела? Скажите, мне это важно.
– Гениально. Послушайте, Лиза, я не умею оценивать пение, я не знаю, какие слова надо говорить, чтобы…
– Чтобы – что? А вы говорите, какие хочется, без цели.
– Это было невероятно. Это то, что сегодня так необходимо… И чего сегодня так не хватает… Это – искусство… Это мир, который… Понимаете?.. И вы совсем не должны расстраиваться из-за того, что мало народа… Я вот тоже занимаюсь театром, а не кино… Хотя мне предлагали снимать, но я – театром… Потому что в искусстве количество вообще не играет ничего, никакой, то есть, роли… В искусстве потому что…
Невероятно, но я путался! Я не умел найти слова! Мне всегда казалось: если я что и умею делать хорошо, так это говорить. И, поняв, что я не могу подобрать слова, я почувствовал едва ли не панику.
Лиза поняла это.
– Знаете, что… – голос у нее стал как будто тверже. – Мой учитель говорил: никогда нельзя петь для кого-то, понимаете? Надо петь только для себя и немножечко для Бога. Вы это понимаете?
– Да, да! – Почти выкрикнул я, почему-то именно в этот момент осознав весь комизм ситуации: мы находимся на расстоянии десятка метров друг от друга, но почему-то упорно говорим по мобильникам. – Может, мы с вами, наконец, уже воссоединимся? Поужинаем где-нибудь, поговорим?
Я вдруг понял, что сто лет не приглашал незнакомых женщин в ресторан, сто лет ни за кем не ухаживал и тысячу лет не объяснялся в любви. Все как-то само собой происходило, а это, наверное, не правильно.
– Нет, нет, – как-то излишне поспешно затараторила Лиза. – Нет, нет, – зачем-то повторила она. – Не сегодня. После концерта… Глупо… Нельзя… Я обязательно на что-нибудь обижусь.
– На что?
– Не знаю… После концерта… Обнаженное все очень, понимаете? Без доспехов. Ну, вы ведь – творческий человек, должны понимать. Вы что-нибудь скажете вполне себе незначительное и невинное, а я обижусь. Глупо обижаться на человека при первом свидании, правда?
Лиза сделала попытку рассмеяться, но попытка явно не удалась. Я молчал.
Лиза продолжала:
– Ну, когда все заканчивается и начинается нормальная жизнь… Ну, в смысле, концерт заканчивается, и начинается все это… Ну, в смысле – жизнь… Вот этот вход оттуда – сюда. Все очень обижает и ранит, понимаете?
Боковым зрением, я почувствовал, что рядом остановилась машина.
Лиза опустила стекло, я тоже опустил.
– Но вы мне обязательно позвоните, – сказала она почему-то очень тихо. – Обязательно. Имейте в виду: я буду ждать!
Она улыбнулась и умчалась.
Именно в эту секунду мне показалось, что я знаю ее много-много лет и что у нас есть какая-то общая жизнь. Не будет, а уже есть.
Тогда я еще не знал, что Лиза умеет делать так, чтобы о ней постоянно думали. О, это великое умение женщины: исчезать из жизни мужчины так, чтобы оставаться в его памяти и сердце. О, эти безумные диалоги, которые ведет мужчина с женщиной, когда той нет рядом! О, эти бесконечные решения, которые принимаются в отсутствии, чтобы потом в присутствии ничего не сказать и ничего не решить… О, это великое женское оружие: заставить мужчину думать о себе. Лишь та, которая этим оружием владеет, может рассчитывать на настоящую мужскую любовь и настоящую мужскую страсть.
Лиза всем этим владела. Но тогда я об этом еще не знал.
Я ехал домой, и странным образом у меня в голове сразу и вдруг сложилась завтрашняя репетиция: я понял, что надо говорить артисту, играющему Лопахина и как всю сцену строить…
Все очень просто: монолог Лопахина – это как бы отдельный «спектакль в спектакле», в котором Лопахин проживает всю свою жизнь, причем и прошлую и будущую, отдаваясь и мечтам, и воспоминаниям со страстью сегодняшнего дня. Если не ошибаюсь, Смоктуновский говорил: «Не знаешь, как играть, – играй странно»…
Но это не сумасшествие, не нервная истерика, – нет! Это умение прожить за несколько минут всю свою жизнь. Никаких не надо игр с маской, никаких разукрашиваний. Живой, настоящий человек в одно и то же мгновение живет и в прошлом, и в настоящем. Это могло быть очень интересно.
Я ехал и думал: это понимание пришло случайно, просто потому, что я встряхнулся, получил сильное эмоциональное впечатление, или все-таки оно наступило благодаря Лизе? Разумеется, я мог убедить себя, как в том, так и в другом. Поэтому вопрос стоял так: в чем себя убеждать? Потому что, если Лиза – это женщина, которая дарит вдохновение, – тогда я погиб окончательно.
Знаешь, сынок, в твоем возрасте у парня есть, в сущности, одно желание: затащить женщину в постель. И это хорошее желание, правильное, естественное. Но когда ты вырастешь, ты поймешь: самое прекрасное в любви – это «предлюбье». Когда уже всё ясно, но еще ничего не решено. Когда еще нет никаких проблем, но зато есть столько прекрасных фантазий! Когда твой ум убеждает тебя, что ты еще свободен от любви, но чувства томно подсказывают: нет, дружок, ни хрена не свободен, попался, милейший. Когда ты станешь старше, ты будешь стараться продлить это самое «предлюбье», прекрасно понимая, что, как любое начало, оно так и стремится исчезнуть, превратившись во что-то конкретное, а, значит, проблемное и печальное…
С таким ощущением я еще долго катался по городу. Едва ли не впервые в жизни я ездил в тишине: я не мог слушать всю ту муру, которую передают всякие FM. Слушать такую «музыку» после Лизиного концерта – это все равно, что жевать петрушку после шикарного ужина.
Когда я пришел домой, все уже спали. С радостью и удивлением я обнаружил, что впервые за долгое время меня дома ничего не раздражает. Как будто я зашел сюда из другого мира, заглянул на минутку, а скоро опять уйду в тот мир, где хорошо.
Я понимаю, сынок, что наказы родителей детям не интересны. Отвергая родительские наказы, вы считаете, что направляетесь к свободе, хотя чаще двигаетесь к житейским проблемам и житейской глупости. Не об этом речь. Я просто очень бы хотел, чтобы ты запомнил: «предлюбье» всегда порождает ощущение гармонии. Это любовь может уничтожить мир, раздергать его, даже убить. Любовь требовательна и конкретна, «предлюбье» фантазийно и воздушно. Дли его сколь возможно, сынок. Поверь мне: ты не пожалеешь.
Я позвонил Лизе на следующий день. До репетиции. Я был уверен: если позвоню до – буду репетировать с хорошим настроением.
Мы договорились о встрече мгновенно.
Репетиция прошла замечательно. Актер, играющий Лопахина, все понял. Потом он даже получит какую-то премию за мужскую роль. Но это будет потом.









































