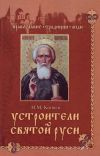Текст книги "Опальные воеводы"

Автор книги: Андрей Петрович Богданов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
* * *
Сие противоречие прекрасно выразил великий русский историк Николай Михайлович Карамзин в начале XIX века. «История» Курбского была для него ключом к описанию царствования Ивана Грозного, но сам беглый князь – преступником!
«Бегство не всегда измена, – писал Карамзин, – гражданские законы не могут быть сильнее естественного – спасаться от мучителя; но горе гражданину, который за тирана мстит Отечеству!
Юный, бодрый воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, муж битвы и совета, участник всех блестящих завоеваний Иоанновых, герой под Тулою, под Казанью, в степях Башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг царя, возложил на себя печать стыда и долг историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников»{16}16
Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1843 (репринт: М., 1989). Стлб. 33–34.
[Закрыть].
Нельзя не заметить, однако, что это жесткое определение не вполне убедило русское общество. Яркая гражданская позиция Курбского, выраженная в его сочинениях, изданных в 1833 году Николаем Гавриловичем Устряловым, заставляла рассматривать его «измену» как трагедию античного масштаба.
Это чувство прекрасно выразил драматург барон Е. Ф. Розен (Князья Курбские. СПб., 1857). Оно в той или иной мере присутствует в объемистой книге С. Д. Горского (1858), повестях М. И. Богдановича (Князь Курбский. СПб., 1882) и М. Д. Ордынцева-Кострицкого (Опальный князь. Пг. М., 1916).

Московский боярин, придворный, воин, татарский воин. Гравюра XVI в.
В исторической публицистике прошлого столетия противоречие между обвинением и оправданием Курбского проявлялось острее, хотя тень «измены» постоянно присутствовала в характеристике героя. Причины живучести преступного или, по выражению Н. А. Попова, «уголовного» элемента в представлениях о Курбском четко назвал Николай Иванович Костомаров.
Прежде всего, обвинения против Курбского более или менее откровенно служили оправданию неисчислимых злодеяний Ивана Грозного.
«Нам советуют, – писал Костомаров в “Вестнике Европы” за 1871 год (т. VI, кн.10), – не доверять Курбскому и другим писателям его времени насчет злодеяний Ивана. Не отрицают, впрочем, фактической действительности казней, совершенных им: это было бы чересчур произвольно, при собственном сознании тирана. Задают вопрос: “Да не было ли, в самом деле, измены?..” Бросается подозрение на замученных царем Иваном Васильевичем; они, подобно Курбскому, хотели бежать в Литву; там у них были свои идеалы».
Но в действительности, доказывает Костомаров, «история не представляет никаких, даже слабых, доводов к подкреплению таких произвольных подозрений… Вина падает на мучителя, а не на замученных. Мучительства производили бегства, а не бегства и измены возбуждали Ивана к мучительствам».
Еще важнее, что клеймо «измены» на беглом князе помогало возвысить интересы самодержавия над общечеловеческими ценностями. Костомаров разъясняет это с предельной четкостью:
– Ставят в заслугу царю Ивану Васильевичу, что он утвердил монархическое начало, но будет гораздо точнее, прямее и справедливее сказать, что он утвердил начало деспотического произвола и рабского бессмысленного страха и терпения.
– Его идеал состоял именно в том, чтобы прихоть самовластного владыки поставить выше всего: и общепринятых нравственных понятий, и всяких человеческих чувств, и даже веры, которую он сам исповедовал.
– И он достиг этого в Московской Руси, когда, вместо старых князей и бояр, поднялись около него новые слуги – рой подлых, трусливых, бессердечных и безнравственных угодников произвола, кровожадных лицемеров, автоматов деспотизма; они усердно выметали из Руси все, что в ней было доброго; они давали возможность быстро разрастись и процветать всему, что в ней в силу прежних условий накопилось мерзкого…
Те доводы, которые приводит Курбский в свое оправдание, имеют в глазах Костомарова характер общечеловеческой правды: «Курбский жил в XVI веке; едва ли уместно в XIX судить деятелей прошлого времени по правилам того крепостничества, по которому каждый, имевший несчастье родиться в каком-нибудь государстве, непременно должен быть привязанным к нему даже и тогда, когда за все его заслуги, оказанные этому государству, он терпит одну несправедливость и должен каждую минуту подвергаться опасности быть безвинно замученным!»
Разоблачил Костомаров и обоснование обвинений против князя Андрея Михайловича с позиции ура-патриотизма, незаметно переходящего в шовинизм: «Руководствуясь русским патриотизмом, конечно, можно клеймить порицанием и ругательствами Курбского, убежавшего из Москвы в Литву и потом в качестве литовского служилого человека ходившего войной на московские пределы, но в то же время не находить дурных качеств за теми, которые из Литвы переходили в Москву и по приказанию московских государей ходили войной на своих прежних соотечественников, – эти последние нам служили, следовательно, хорошо делали! Рассуждая беспристрастно, окажется, что ни тех, ни других не следует обвинять…»{17}17
Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. М., 1989. Кн. 1. С. 20–21.
[Закрыть]
* * *
Тема патриотизма и в особенности национализма в наше время настолько болезненна, что объективно справедливая позиция Костомарова нуждается в пояснении. Историк отнюдь не отвергал любви к отечеству или национальности – он отстаивал её всей своей жизнью, протестуя исключительно против двойной морали, заставляющей становиться на чью-либо сторону независимо от правоты этой стороны, просто потому, что она «наша».
Современным горе-патриотам, разросшимся, как поганки, на развалинах Союза, малопонятны идеи «полнейшей свободы вероисповедания и национальностей и отвержения иезуитского правила об освящении средств целями», отстаивавшиеся Костомаровым в Петропавловском равелине, в ссылке и под полицейским надзором{18}18
Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Литературное наследие. СПб., 1890. С. 61–62.
[Закрыть].
Не менее агрессивные космополиты, в последнее время именующие себя «демократами», давно записали Костомарова в «националисты». Действительно, он посвятил немало крупных трудов освободительной борьбе украинского народа, выучил его язык и даже написал на нём ряд произведений.
Книги Николая Ивановича Костомарова сочувственно рисуют освобождение Украины из-под гнета Польско-Литовского государства и воссоединение её с Россией, а затем – несладкую жизнь малороссов при самодержавии. Однако если читатель понадеется, что историк обойдет молчанием злодеяния самих украинцев, его ждет горькое разочарование.
Даже православие, под знаменем которого развивалось освободительное движение на Украине, рассматривается Костомаровым отнюдь не панегирически, а навязывавшаяся народу польскими властями уния не обличается наотмашь: в ней выявлены некоторые положительные черты. Не случайно работа об унии была уничтожена царскими властями{19}19
См.: Хлебников Л. М. Сожженная диссертация // Вопросы истории, 1965. № 9. С. 213–215.
[Закрыть].
В целом одобрительно относился историк и к войне России с Речью Посполитой на стороне восставших казаков. Однако Николая Ивановича нельзя упрекнуть в причастности к официальным восторгам по поводу раздела Польши в XVIII веке и недостатке сочувствия к освободительной борьбе поляков, рассмотренной им в специальной работе.
В русской истории, которой посвящена значительная часть исследований и популярных трудов Костомарова, отчетливо выделены непреходящая польза многонационального единства, значение русской культуры и государства для прогресса окрестных народов и в то же время – ужасающие следствия гнета самодержавия. Если впихнуть Николая Ивановича в рамки русского, украинского или польского национализма более чем затруднительно, то можно попробовать объявить его славянофилом (хотя видит Бог, мало кто показал столько печального в истории славян).
Но поступим, как обычно делают привыкшие обманывать народ публицисты: вырвем из трудов Костомарова отдельные страницы. Против происхождения Древнерусского государства от норманнов выступал? Выступал, и весьма резко. Идею федерации свободных славянских народов проповедовал? Истинно так! Ну, значит, славянофил.
Только вот незадача – именно Костомаров ещё в 1871 году разъяснил читателям, что «слово общеславянское имеет неопределенное значение общего места, которое можно прилагать к чему угодно»; «чтобы определить общеславянское, нужен гигантский труд… но такой труд ещё никем не совершен, и едва ли результат его в надлежащей степени может быть когда-либо достигнут».
Посему, заключил историк, апелляция к славянской идее ныне и присно будет неотъемлемой принадлежностью политических спекулянтов: «Один будет, злоупотребляя словом общеславянство, усердно кадить той или иной существующей в данное время силе, другой – из тумана общеславянских воззрений показывать ей кулак».
Единственно верным критерием оценки любых исторических событий, по Костомарову, является не взгляд с национальной или космополитической колокольни, а определение, насколько то или иное деяние «способствует благосостоянию человеческого рода, его умственному развитию и нравственному достоинству»{20}20
Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Кн. 1. С. 19–20, 6.
[Закрыть].
* * *
Разговор об «измене» Курбского вообще лежит не в национальной плоскости. И Россия, и великое княжество Литовское были многонациональными государствами. Большинство русских дворянских родов гордились своим происхождением из Золотой Орды и пришедших ей на смену различных ханств, из Литвы, Польши, Пруссии, Швеции, Дании и т. п. Большую часть территории великого княжества Литовского составляли древнерусские земли, основная масса его населения была православной, и даже важнейшие государственные документы писались изначально на русском диалекте.
В рамках земель, вошедших ко времени Ивана Грозного в Московское государство, исторические представления до нелепости искажены «москвоцентризмом». Если неприятель нападает на Москву – это плохо, если же москвичи побеждают защищающих свои вольности и дома новгородцев или псковичей – это хорошо.
Когда князь Олег Рязанский выступает против Дмитрия Донского на стороне татар и Литвы – это «измена». Когда же Москва выступает с татарами против Твери, поднявшей на Руси знамя борьбы с ордынским игом, – это хорошо. А ежели московский князь сумеет натравить татар на Литву – сие, несомненно, замечательное историческое деяние!
Отношение русской историографии к великому княжеству Литовскому, куда угораздило отъехать Курбского, было особо отрицательным не только потому, что оно долгое время было могучим противником Москвы, но и благодаря его моральному преимуществу, которое во что бы то ни стало следовало скрыть.
Ведь Литва боролась с Ордой в то время, когда Москва выступала верным вассалом Чингизидов. Ольгерд, разбивший крестоносцев, отнявший у Польши изрядную часть Волыни, а у Москвы – Смоленск, выиграл битву с татарами у Синих Вод (1362) и освободил Подолие, левобережье Днестра, бассейн Южного Буга и Днепр от лиманов до реки Роси.
Сколь несравнимы эти успехи с Куликовской победой Дмитрия Донского над ханом Мамаем, пошедшей на пользу сюзерену московского князя Тохтамышу! Когда неблагодарный Тохтамыш сжег Москву, Витовт прошел войной по принадлежавшим Орде южнорусским степям до Азова, откуда переселил часть татар под Вильно.
На уровне конкретных личностей умолчания нашей историографии выглядят ещё неприличнее. Герои нашей истории, знаменитые победители на Куликовом поле князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, перешли на сторону Дмитрия Донского, передав ему город Трубчевск.
Это, конечно, не измена. Более того, нам не нужно знать о прежних подвигах Андрея в боях с Тевтонским орденом и в особенности – о дальнейшей судьбе князей, покинувших службу Дмитрию Донскому, вновь ставшему вассалом Орды, и героически погибших под знаменами Витовта в битве с татарами на реке Ворскле (1399).
Если уж быть точным, то и главный герой Куликовской битвы Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский выехал в Москву из Литвы, с Волыни, на что указывает его прозвище. Не случайно вспоминал Курбский о древней доблести своих волынцев!
Переход знати из Литвы в Москву и обратно происходил постоянно. В конце XV века, например, предались великому князю московскому со своими княжествами князья Белевские, Воротынские, Новосильские, Одоевские и множество других. Они не просто участвовали в войнах с Литвой, но были виднейшими полководцами нового сюзерена. Достаточно назвать «победоносного воеводу» Ивана Михайловича Воротынского (отца героя Молодинской битвы), отличившегося в боях с литовцами в 1512 году, когда на сторону Москвы перешли князья, владевшие Черниговом, Стародубом, Гомелем, Любечем, Новгородом-Северским, Рыльском и другими городами и весями великого княжества Литовского.
Вместе с Воротынским при осаде и взятии Смоленска (1512–1514) прославился Михаил Львович Глинский – один из крупнейших польско-литовских полководцев и государственных деятелей, учившийся в Италии и отличившийся на полях сражений в Германии. Перед отъездом в Москву он перебил у себя на родине массу народа и разорил несколько городов, зато занял почетное место при дворе Василия III.
Выезды в Россию виднейших литовских князей продолжались и при Иване Грозном – достаточно вспомнить Дмитрия Ивановича Вишневецкого, предложившего царю изрядный кус Украины и услуги Запорожской Сечи (1557). Только выехать назад в Литву с каждым годом становилось всё труднее.
Тем не менее значительная часть литовской знати имела старые и новые русские корни, так что выезжие из Московского государства легко вписывались в шляхетскую среду. В XVI и даже в XVII веках существовала сильная тенденция к объединению Литвы с Москвой, но при безусловном сохранении таких важных для европейской страны завоеваний, как рыцарские вольности и магдебургское право городов. Развитие российского самодержавия положило непреодолимую преграду объединению братских народов мирным путем, надолго оставив единокровную Литву в сфере влияния католической Польши.
* * *
В XIX веке, при царе-батюшке, историки знали эти обстоятельства и не слишком резко осуждали беглецов из России, тем более что к тому времени эмиграция стала неотъемлемой частью русской культуры. Наибольшая доля осуждения приходилась Курбскому, хотя и его судьба нередко вызывала понимание и сочувствие.
После Октябрьского переворота 1917 года историки и писатели, ринувшиеся обличать «проклятый царизм», оказались значительно более нетерпимы к беглецам из России Ивана Грозного вообще и к Курбскому в особенности.
Казалось бы, парадокс: как могли осуждать «измену» Курбского большевики, открыто выступавшие за поражение Отечества в Русско-японской и Первой мировой войне и тайно воевавшие со своей страной на стороне Японии и кайзеровской Германии на японское и немецкое золото? Ведь они пошли дальше Курбского, желавшего поражения тирану, тогда как большевики продолжали служить немцам и после свержения монархии.
Ответ легко найти, перечитав оправдание князя Андрея Михайловича Костомаровым: в глазах большевиков каждый пункт выглядел смертельным обвинением Курбскому. Спасаться от мучительства! Противопоставить общечеловеческие ценности деспотическому произволу! Восставать против кровавой тирании с мечом в руке! Служить «им», тогда как все должны предать свои страны и служить «нам»!
Сплошь расстрельные статьи, а учёные и литераторы хотели не только жить, но и кушать хлеб с маслом. Удивительно ли, что «апологет боярства», «изменивший своей стране», неукоснительно обливался грязью?! Замечательно как раз другое – нашёлся человек, в самый разгар обличительной вакханалии выступивший в защиту Курбского от наиболее грубых нападок.
Это был великий русский историк Степан Борисович Веселовский. Его работу, конечно, не напечатали, но мужество старого ученого давало надежду, что после окончания сталинского террора положение в науке изменится. Только так не бывает в нашей нелинейной стране.
С наступлением хрущёвской оттепели и до последнего времени появилась масса исследований, в том числе таких видных специалистов, как А. А. Зимин, С. О. Шмидт, Я. С. Лурье, Р. Г. Скрынников, Ю. Д. Рыков и др. Не отставали и зарубежные исследователи.
Большой ажиотаж вызвала книга американского историка Эдварда Кинана. Он счёл, хотя и без достаточных оснований, что переписка Грозного с Курбским и даже «История» князя слишком превосходят уровень мысли и литературы России XVI столетия и могли быть написаны только в XVII веке.
Однако при всём изобилии новых работ основное внимание уделялось узкой прикладной теме – возможности использования сочинений Курбского как исторического источника. Андрей Михайлович оставался в глазах учёных «изменником», только одни писали об этом скороговоркой, а другие смаковали обвинение.
* * *
Более всех потрудился на этой ниве известный ленинградский историк и вузовский профессор Руслан Григорьевич Скрынников. Понимая, что даже повторение бредовых идей Грозного, будто «по совету Курбского король натравил на Россию крымских татар», с точки зрения прав и обычаев воинского сословия XVI века не может служить обвинением, учёный направил свои усилия на доказательство «предательства» князя до того, как он сменил сюзерена.
Это было нелегко. Ведь Курбский не сдавал врагу городов, как это делали многие выезжавшие на московскую службу литовские князья, не подставлял свои войска под удар и не устраивал диверсий, пребывая целый год (с 3 апреля 1563 года) царским наместником в Ливонии. Более того, он честно выслужил годовой срок и почти месяц дожидался смены, прежде чем бежать в ночь на 30 апреля 1564 года.
Но для умелого историка нет ничего невозможного. Хорошо известно, что Курбский долго вёл переговоры с польско-литовскими властями о своем выезде. В период военных неудач, после падения Полоцка, выезд известного русского полководца приветствовался западными соседями особенно сердечно. Но это были отношения людей благородных – обывателю же более понятен намек на шпионаж, пусть даже и не доказанный.
«Затеяв секретные переговоры с литовцами, – пишет Скрынников, – Курбский, по-видимому, оказал им важные услуги». Дело в том, что «за три месяца до побега Курбского в Литву» гетман Ю. Н. Радзивилл разбил русскую армию, вторгшуюся в литовские пределы. А Курбский уже после бегства рассказывал литовцам, что первоначально армию хотели направить на Ригу, но потом решили собрать в Полоцке.
Ну и что? – спросит читатель. А опасливый Скрынников и не утверждает, что Радзивилл, «как видно, располагавший точной информацией» о русском походе и устроивший «засаду», получил шпионскую информацию от Курбского. Но он был «адресатом» князя, к тому же Андрей Михайлович был «ошеломлен» вестью о зверской казни царём «двух бояр, которых подозревали в тайных сношениях с литовцами».
Царь «неслыханно смерти и муки на доброхотных своих умыслиша», писал Курбский. «Волнение Курбского вполне можно понять: над головой этого «доброхота» вновь сгустились тучи», – ядовито комментирует Скрынников. Бояре были обвинены в «изменных сношениях», Курбский принял их казни близко к сердцу – значит, сам такой же «доброхот». Ага! «Намёка, догадка, немогузнайка», – выражался в таких случаях А. В. Суворов. Историк умолчал, что речь идет о знаменитой битве под Оршей, на реке Уле (согласно письму самого Радзивилла, 26 января 1564 года), когда русское войско бежало, а воеводы П. И. Шуйский и князья Палецкие со свитой, выехавшие вперед без доспехов, пали в бою (см. следующую главу).
Сбор армии в недавно взятом Полоцке было не утаить, а каким образом Курбский из Дерпта мог помочь разбить её – немыслимо. Для удачного нападения Радзивиллу нужна была лишь хорошая тактическая разведка; стратегический план московских воевод, подразумевавший соединение под Оршей войск П. И. Шуйского и князей Серебряных (см. во второй части четвертую главу), стал понятен гетману лишь в последний момент. Радзивилл крупно рисковал, атаковав Шуйского под угрозой со стороны подходящих Серебряных, и после победы не продолжил военные действия. Армия Шуйского отступила с минимальными потерями в людях, а Серебряные беспрепятственно прошли войной от Дубровны до Кричева и вернулись назад с многочисленным полоном.
Читатель может спросить, зачем было Курбскому рассказывать литовцам о прошедших событиях, если бы он заранее известил их о русском походе? Но ведь Скрынников ничего не доказывает, его цель однозначна – замарать Курбского. Рассказывает – значит причастен, молчит – тем более!
Например, Андрей Михайлович весьма кратко высказался по поводу своих переговоров со шведским наместником в Ливонии графом Арцем. Когда его покровитель герцог Юхан (будущий король Иоанн III) был заточен сумасбродным королем Эриком XIV, Арц искал помощи одновременно у Литвы и Москвы, но в конце 1563 года был схвачен и казнён в Риге.
Курбский «уговорил» Арца, «чтобы он склонил перейти на сторону великого князя замки великого герцога финляндского (Юхана. – Авт.), о подобных делах он знал много, но во время своего опасного бегства забыл». Очевидно, Андрей Михайлович молчал, чтобы не ставить под удар оставшихся в живых сторонников Арца, коему весьма симпатизировал. Покинув Юрьев, он принял к себе слугу графа и не раз сокрушался о кончине его господина.
Однако по Скрынникову, «неожиданная немногословность и ссылка на забывчивость косвенно подтверждают распространившиеся в Ливонии слухи о причастности Курбского к смерти Арца». Слухи эти ограничиваются замечанием ливонского хрониста Ниештадта, будто Андрей Михайлович «впал в подозрение у великого князя из-за этих переговоров, что будто бы он злоумышлял с королем польским против великого князя». Ниенштадт считал, что Курбский был честен с Арцем. О реакции Ивана Грозного он точно не знал, но, если у царя и возникли подозрения, они могли относиться к самому факту переговоров с иноземцами, да ещё тайных. Для Скрынникова же вопрос ясен: по слухам, «Курбский сам предал шведского наместника Ливонии». А добротой к слуге Арца и сожалениями о его смерти «не желал ли он отвести от себя подозрения насчет предательства?»
Логичен вопрос: к чему бы Курбскому притворяться среди литовцев, если он действительно выдал им Арца? Но дело не в логике, а в упорном, непреодолимом желании очернить память князя, «предательство» которого «было щедро оплачено королевским золотом», как шпиона, а не воина, с коим следовало расплачиваться почестями и поместьями. Основание? Курбский смог захватить с собой из Юрьева только золотые и серебряные монеты «и всего 44 московских рубля», негодует Скрынников{21}21
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 90–94, 97.
[Закрыть], будто он, профессор, читающий курс русской истории XVI–XVIII веков, не ведает, что рубль был только мерой счета копеек и полушек, а крупная монета, в которой знать любила делать накопления (например, к свадьбам), была иностранной. Даже более поздние серебряные ефимки представляли собой четвертушки талеров с русской надпечаткой. А в какой монете, любопытно, Курбский мог делать накопления в Ливонии, где как воевода вполне традиционно «кормился»? О содержимом своего кошелька (по Скрынникову – «мешка золота»), отобранного в Гельмете, князь подробно рассказал литовским властям, подавая жалобу на грабеж. Почему он не усилил обвинение против немцев-грабителей, сказав, что это золото короля?
Вопросы, конечно, риторические. Не у одного Скрынникова имя Курбского вызывает пароксизмы гнева, исключающие совесть и здравое рассуждение. Другие беглецы не производят такого эффекта, даже потомок Гедимина Семён Бельский, утекший в Литву, оттуда в Турцию и Крым, чтобы воевать с Россией и вести на неё войска крымского хана.
* * *
Ненависть советского интеллигента к Курбскому непреходяща. Не случайно признанный образцом интеллигентности академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, говоря о Курбском в связи с изданием его трудов, оставляет свою обычную сдержанность и точность выражений.
Вопреки историзму, к коему не раз призывал академик, Курбский для него не выезжий аристократ, а «князь-изменник», «перевертень», «типичный перевертыш», который «паразитирует на традиционном жанре, разрушая его». Этого мало – следует ещё развернутая убийственная характеристика князя.
«Курбский стал писателем, бежав за рубеж и изменив родине. Ему надо было оправдать себя в глазах общественного мнения в России и в Польско-Литовском государстве. Больше того – ему надо было оправдать себя в своих собственных глазах, ощутить свое право на позицию моралиста и нравоучителя». «Его писания были самооправдательными документами, в которых он позировал перед другими, перед своими читателями, но прежде всего перед самим собой… Грозный был несомненно талантливее Курбского…»{22}22
Лихачев Д. С. На пути к новому литературному сознанию // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 9, ср. с. 6, 10–11. Далее цит. с. 11, 6.
[Закрыть]
Эта оценка, выражающая, несомненно, личное убеждение автора, а не навязанная извне, проистекает из уверенности служилой интеллигенции России, что человек сам по себе не может быть ответственным за судьбу своей страны. По крайней мере русский человек.
В этом смысле вина Курбского действительно огромна. Он заявил свое право решать вопросы государственного устройства страны и вообще назвал Московскую Русь своей, не занимая в ней определенного места, «не по чину».
Он первым выступил против самодержавия и обличил автократию, кормилицу служилой интеллигенции, как врага свободы, сословного представительства и страны в целом. Он поведал миру о таких злодеяниях первого русского царя, какие нечасто встречаются в истории человечества, и впервые заставил самодержца оправдываться, ещё больше раскрывая свою злодейскую сущность.
Всю свою жизнь Курбский, презирая холопство, действовал как сын и полномочный представитель Святорусской земли и, что с его точки зрения неразделимо, православия. Он обличал московского тирана словом и сражался с его слугами оружием, защищал православие в полемике с иноверцами и переводил на церковнославянский классическую литературу, ограждая православие от культурного натиска католицизма и реформации.
Вообще-то на Руси нередки такие люди, презирающие расхожее мнение, будто плетью обуха не перешибёшь. Они встречаются во всех слоях общества, но заметнее среди военных. С некоторыми из них, не только воинами, мы ещё встретимся на страницах этой книги.
Бесстрашные до самозабвения, подлинные герои русской истории были движимы долгом перед своей землей, а не службой, и вполне могли бы заявить вместе с Александром Васильевичем Суворовым: «Горжусь, что я русский!» Конечно, советские авторы не спешили знакомить с ними читателя.
Поскольку Курбского нельзя было замолчать, его следовало так или иначе дискредитировать. Делалось это и делается в меру таланта и откровенности каждого автора. Д. С. Лихачев не нуждается в «шпионской» версии, прекрасно понимая, что в Европе XVI века предательство нередко воспринималось как своего рода доблесть.
Он унижает князя значительно сильнее, представляя гражданский пафос Курбского позёрством и ставя под сомнение его мужество (на что не решался даже Иван Грозный): царя «он разоблачал за глаза из своего безопасного зарубежного укрытия, но как бы и в глаза, прямо обращаясь к нему во втором лице. В моменты этих обращений Курбский наверное чувствовал себя очень смелым, нелицеприятным и прямым…»
Точно выбрано и место главного удара по публицисту всея Руси, труды коего многие века будят самосознание россиян от летаргической покорности диктаторам. У нас таких не может быть, следовательно, все это написано не русским, «перевертышем»:
«Только за границами России бежавший из неё и там волей или неволей переставший себя ощущать русским, князь Курбский решился полемизировать с Грозным. Однако, находясь вне России и даже командуя одно время войсками против Грозного, он лишил себя твердой моральной позиции и принужден был выступать не столько за интересы России, сколько за свои личные».
* * *
Что за личные интересы отстаивал Андрей Михайлович? Ещё пребывая на воеводстве в Юрьеве, князь писал братии Псково-Печерского монастыря, Вассиану Муромцеву с товарищами: «Многажды много вам челом бью, помолитесь обо мне, окаянном, понеже вновь напасти и беды от Вавилона (т. е. царского двора. – Авт.) на нас кипети многи начинают».
Известий о готовящейся несправедливой казни, переданных друзьями гневных слов царя, за которыми следовала обыкновенно зверская расправа, было бы достаточно для отъезда, ведь тот, кто не спасает свою жизнь от «прелютого гонения», по словам самого Курбского, подобен самоубийце. А самоубийство – смертный грех!
Однако переживал князь не только за себя. Принимая нелегкое решение покинуть Отечество, Андрей Михайлович сострадал бедствиям всей Русской земли. Его новое послание из Юрьева в Псково-Печерский монастырь обличало резкое ухудшение положения дворян, которые не имеют даже «дневныя пищи», разорение купцов, безмерные тяготы крестьянства.
Одной лишь необходимости спасать свою жизнь было мало, чтобы Курбский отверг над собой царскую власть. Князь отъехал, только осознав преступность этой власти, и прямо обличил её в письме Грозному, написанном сразу же по приезде в занятый литовцами Вольмар. Почему, «надеясь быть пожалован и утешен во всех печалях моих милостью» короля Сигизмунда Августа, Андрей Михайлович обещал «письмецо это, слезами измоченное, во гроб с собою… положить»?
Прежде чем жаловаться на свои несчастья, Курбский заступается за всех своих товарищей-воевод: «Почто, царь, сильных во Израиле побил, и воевод, от Бога данных тебе на врагов твоих, различными смертями расторгнул, и победоносную святую кровь их в церквах Божиих пролил?..
В чём провинились перед тобою и чем прогневали тебя христианские заступники? Не они ли разорили и покорили тебе прегордые царства, у которых прежде в рабстве были предки наши? Не претвёрдые ли грады германские благодаря разуму их тебе от Бога даны были? За это ли нам, бедным, воздал, всеродно погубляя нас?»
И завершает Курбский послание отнюдь не личными жалобами, но угрозой Страшного суда над тираном от имени всех убитых, заточенных и изгнанных: «Не мни, царь, и не помышляй суемудренно, что мы уже погибли и перебиты от тебя безвинно и заточены и изгнаны без правды, не радуйся этому, будто легкой победой похваляясь!
Рассеченные от тебя, у престола Господня стоя, взывают об отмщении тебе, заточенные и изгнанные от тебя без правды – от земли к Богу вопиём день и ночь против тебя!
* * *
Возвысившийся благодаря Курбскому голос казнённых, заточённых и изгнанных смертельно напугал тирана. Его ответное «широковещательное и многошумящее» послание «во все его Российское государство (вариант – во все города) на крестопреступников его, на князя Андрея Курбского с товарищи о их измене» было составлено немедленно.
За пять-шесть недель – с мая 1564 года, когда в Москве узнали об отъезде Курбского, до 5 июля – Грозный с прихлебателями сочинили целую книгу. Трудно сказать, насколько широко её использовали. Хотя текст царского послания в двадцать раз обширнее письма Курбского, оно явно слабее и отражает смятение среди «маньяков».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?