Читать книгу "Юродствующая литература: «О любви», М. О. Меньшикова; «Сумерки просвещенія», В. В. Розанова"
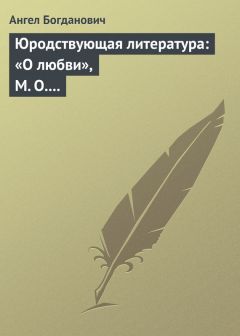
Автор книги: Ангел Богданович
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
А. И. Богдановичъ
Юродствующая литература: «О любви», М. О. Меньшикова; «Сумерки просвещенія», В. В. Розанова
Есть особый сортъ литературы, для котораго мы не можемъ подобрать болѣе вѣрнаго названія, какъ юродствующая литература. Всякому, конечно, памятно еще изъ учебниковъ, кто были наши юродивые и какими нехитрыми способами привлекали они вниманіе и сочувствіе толпы. Обыкновенно это были нѣсколько поврежденные въ умѣ, но съ достаточной хитрецой нищіе духомъ, которые при помощи наивныхъ пріемовъ старались выдѣлиться изъ ряда обычныхъ нищихъ и создавали иной разъ почетное себѣ имя, перешедшее даже въ исторію. Одни изъ нихъ, затвердивъ какое-либо глупое, но мало понятное слово или фразу, говорили его кстати и некстати и тѣмъ наводили мистическій страхъ на простодушныхъ слушателей. Другіе ограничивались тѣмъ, что ходили въ одной рубахѣ или ѣздили на палочкѣ верхомъ, и видъ бородатаго субъекта въ такомъ легкомысленномъ костюмѣ, занимающагося такимъ ребячьимъ дѣломъ, приводилъ въ трепетъ московскихъ кумушекъ и сокрушалъ ихъ сердца. Были между ними подчасъ и искренніе дураки или прямо сумасшедшіе, невмѣняемость дѣйствій которыхъ оказывала тѣмъ большее вліяніе на осатанѣвшую отъ невѣжества и страха толпу. Послѣднимъ представителемъ такого юродствующаго цеха былъ знаменитый Иванъ Яковлевичъ Корейша съ его проникновеннымъ словечкомъ «кололацы», около котораго создалась даже цѣлая литература, защищавшая и комментировавшая его благоглупости, впрочемъ, довольно невинныя по существу.
Но духъ юродства не вымеръ и не угасъ на святой Руси, и отъ времени до времени онъ осѣняетъ того или иного избранника, который, возмнивъ себя пророкомъ и сосудомъ особой мудрости, начинаетъ неутомимо разводить свои "кололацы", гремѣть "металломъ" и сокрушать "жупеломъ". За послѣдніе годы въ литературѣ объявились даже два такимъ сосуда – г. Меньшиковъ изъ "Недѣли" и г. Розановъ изъ нѣдръ нашей реакціонной прессы. Трудно сказать, кому изъ нихъ надлежитъ пальма первенства, ибо каждый изъ нихъ единственный въ своемъ родѣ и вполнѣ достоинъ унаслѣдовать лавры Ивана Яковлевича. Оба щеголяютъ во всей, если можно такъ выразиться, душевной наготѣ, оба имѣютъ по палочкѣ, на которой лихо гарцуютъ по страницамъ печатной бумаги, на соблазнъ и изумленіе читающаго міра. Палочка у каждаго, конечно, своя. У г. Меньшикова она склеена изъ обрывковъ проповѣди графа Толстого, плохо имъ усвоенныхъ и сдобренныхъ собственной отсебятиной вполнѣ юродиваго содержанія и направленія. То, что у графа представляетъ стройную систему, съ которой можно соглашаться или нѣтъ, но которой нельзя отказать иногда въ страшной силѣ чувства и энергіи выраженія,– у г. Меньшикова превращается въ наборъ обрывочныхъ и противорѣчивыхъ словечекъ и мыслишекъ, разведенныхъ елейной водицей съ доброй дозой постнаго масла, затаенной злости и несомнѣннаго фарисейства. Въ своей книгѣ "Думы о счастьѣ", какъ помнятъ, быть можетъ, читатели, г. Меньшиковъ пытался претворить идеи графа на мѣщанскій ладъ, чтобы сдѣлать бремя ихъ болѣе удобоносимымъ для себя и своихъ присныхъ. Новая книга его "О любви" построена на тотъ же ладъ, какъ увидимъ ниже, и по юродству не уступаетъ первой.
Г. Розановъ избралъ себѣ палочку другого типа. Для характеристики ея довольно вспомнить одинъ изъ недавнихъ его подвиговъ, когда по поводу годовщины прискорбнаго событія на Ходынскомъ полѣ онъ забилъ въ бубны и тимпаны и, ликуя, возгласилъ "аллилуйя!" Или его проповѣдь "животности", какъ главнаго начала и устоя семьи. Черезъ всѣ его юродства красной нитью проходитъ мысль о грубой силѣ, которая ему представляется единственнымъ argumentum ad hominem, достойнымъ поклоненія. Въ церковь, имя которой онъ постоянно всуе повторяетъ, онъ готовъ людей загонять дубиной и не прочь жечь на кострахъ несогласномыслящихъ. Науку и просвѣщеніе онъ ненавидитъ и, не обинуясь, предлагаетъ скалозубовскій методъ воспитанія. Единственную свободу онъ признаетъ для себя, какъ право говорить свои откровенія, образчики которыхъ мы приведемъ ниже. Въ отличіе отъ г. Меньшикова, который не пишетъ, а баюкаетъ, не говоритъ, а сладко глаголеть, не разсуждаетъ, а ткетъ тончайшую сѣть афоризмовъ, въ которой въ концѣ-концовъ запутывается и онъ самъ, и читатели до полнаго одурѣнія, г. Розановъ съ величайшими усиліями громоздитъ фразу на фразу, бьется надъ словомъ, подыскивая возможно мудренѣе, вычурнѣе, тяжеловѣснѣе, для вящшаго удрученія читателя, который прямо-таки раздавливается этой неуклюжей постройкой. Чтеніе произведеній г. Розанова есть тяжкій и удручающій трудъ. Все время чувствуешь себя словно въ темномъ, непроглядномъ мѣстѣ, гдѣ то и дѣло натыкаешься на углы и закоулки, рискуя постоянно удариться лбомъ въ совершенно неожиданный выступъ, или провалиться въ волчью яму. И происходитъ это не столько отъ путаницы мыслей автора, вообще, примитивныхъ и дѣтски-невѣжественныхъ, сколько отъ витіеватости его слога, тяжкаго, темнаго, удушающаго, какъ тѣ густыя, зловредныя испаренья, которыя въ осеннія сумерки подымаются надъ смрадными болотами. Если справедливо изреченіе Бюффона, что слогъ – это человѣкъ, то, составляя по этому слогу представленіе о г. Розановѣ, испытываешь жуткое впечатлѣніе. Его допотопныя мысли, изложенныя допотопнымъ языкомъ, напоминаютъ одно изъ вымершихъ чудовищъ въ книгѣ Гетчинсона – птеродактиля, представляющаго переходное существо отъ пресмыкающихся къ птицамъ, – небольшое, странное созданіе, нѣсколько напоминающее нашу летучую мышь, – нетопыря, но болѣе фантастическое по формѣ крыльевъ и головы. Эти, въ сущности, невинныя творенія обитаютъ въ затхлыхъ, плохо провѣтриваемыхъ подвалахъ, развалинахъ и старыхъ заброшенныхъ зданіяхъ; по ночамъ они вылетаютъ на добычу, охотясь за ночными насѣкомыми и пугая дѣвушекъ и женщинъ, съ налету ударяясь о ихъ бѣлыя платья и лица, а днемъ они скрываются въ своихъ темныхъ обиталищахъ, вися головой внизъ, прицѣпившись крѣпкими когтями къ мрачнымъ сводамъ. Такъ и господа Розановы укрываются отъ свѣта солнца по разнымъ темнымъ трущобамъ, куда рѣдко-рѣдко заглядываютъ читатели, и лишь въ сумеречные, неясные дни они рѣютъ въ воздухѣ, приводя въ невольную дрожь своимъ фантастическимъ полетомъ и сказочнымъ видомъ. Кромѣ книги "Сумерки просвѣщенія", о которой мы желаемъ поговорить теперь, издатель г. Розанова – П. П. Перцевъ угрожаетъ намъ еще его произведеніями: "Религія и красота", "Литературные очерки" и проч. Все это уже гдѣ-то печаталось, хотя и врядъ ли было кому на потребу. Но не ошибся ли г. Перцевъ, думая, что именно теперь время гт. Розановыхъ приспѣло? Не запоздалъ ли онъ, скорѣе, съ своими изданіями? Не беремся отвѣчать утвердительно на этотъ вопросъ. Пусть, впрочемъ, судятъ сами читатели.
Но прежде о г. Меньшиковѣ; не о немъ, конечно, а о его книгѣ "О любви".
Любовь, любовь – вотъ, по истинѣ, безсмертная, не старѣющаяся тема, о которой писано и переписано столько, что не хватило бы человѣческой жизни для ознакомленія съ литературой, ей посвященной. Можно себѣ представить, какая это богатая тема для г. Меньшикова. При его многомъ пустословіи, это неисчерпаемый источникъ для безконечнаго потока вздора, искусно завернутаго въ безчисленныя папильотки кокетливаго проповѣдника изъ "Недѣли". Тутъ и Дафнисъ и Хлоя, какъ образцы невинной и, тѣмъ не менѣе, страждущей любви. Тутъ и стихъ изъ Гейне про бѣднаго потомка Азровъ, которые, полюбивъ, умираютъ, – какъ доказательство безпощадности злой страсти. Далѣе Вертеръ подъ ручку съ царемъ Соломономъ, изрекшимъ, что любовь сильнѣе смерти, и пушкинская Татьяна съ Дмитріемъ Карамазовымъ Достоевскаго, Вѣра изъ "Обрыва" и Анна Каренина. А потомъ – непрерывными рядами шествуютъ Шопенгауэръ и Будда, Летурно и Мопассанъ, Мантегаца и Бодлэръ, Верденъ и Гомеръ, Байронъ и Шекспиръ, русскіе сектанты, нигилисты и либералы и проч. Словомъ -
Были тамъ послы, софисты,
И архонты, и артисты, —
пока не явился г. Меньшиковъ:
"Онъ рѣчами завладѣлъ,
И безумными глазами
На красавицу глядѣлъ".
И, наконецъ, повѣдалъ міру плоды своихъ великихъ думъ, вынесенныхъ изъ этого созерцанія.
Дума первая. "Любовь въ алхиміи счастья есть тотъ философскій камень, прикосновеніе котораго къ самымъ презрѣннымъ вещамъ даетъ имъ цѣну золота. Какъ жизненный эликсиръ, любовь возвращаетъ омертвѣвшему отношенію нашему къ вещамъ огонь молодости. Это не просто очаровательное состояніе жизни – это сама жизнь въ ея творческомъ порывѣ, въ благоуханіи ея расцвѣта". Какова галантерейность г. Меньшикова? Можно ли блеснуть очаровательнѣе, отсалютовать любви болѣе парадно и эффектно? Одна "алхимія счастья" чего стоитъ,– "не хитрому уму не выдумать и въ вѣкъ". Но, зная пріемы г. Меньшикова по его прежнимъ подвигамъ въ области философіи и публицистики, мы можемъ быть заранѣе увѣрены, что это – лишь хитроумныя ковы, въ родѣ тѣхъ, что придумалъ сердитый Гефестъ колченогій, чтобы накрыть измѣнницу-жену Афродиту съ свирѣпымъ Ареемъ. "И отъ смѣха боговъ дрожалъ Олимпъ многохолмный".
Такъ повѣствуетъ нелицепріятный Гомеръ о результатахъ хитрости Гефеста. Нѣчто въ этомъ родѣ испытываетъ и читатель книги г. Меньшикова, когда, развертывая одну за другой авторскія папильотки, онъ получаетъ въ концѣ концовъ рядъ поученій изъ прописей, что любовь "не исчерпывается любовною страстью", что въ «супружествѣ необходима строгая воспитанность въ цѣломудріи и долгѣ ненарушимой вѣрности другъ другу», что «чистота духа и тѣла обязательна для мужчинъ и для женщинъ», и что «совершенный союзъ можетъ быть основанъ только на нравственномъ, духовномъ единеніи мужа и жены».
Кажется, что можетъ быть проще и банальнѣе этихъ мыслей, вошедшихъ въ обиходъ мудрости всѣхъ временъ и народовъ, запечатлѣнныхъ и въ религіозныхъ обрядахъ, и въ высшихъ произведеніяхъ общечеловѣческой литературы, и въ народномъ непосредственномъ творчествѣ, какъ оно проявилось въ пѣсняхъ и сказаньяхъ? Но посмотрите, какихъ только вавилоновъ не наворотилъ нашъ публицистъ!
Онъ начинаетъ съ самыхъ отдаленныхъ временъ, когда еще дикарь "ударомъ дубины по головѣ повергалъ женщину", и доводитъ эволюцію любви до Мопассана и современныхъ "дамочекъ", которыя въ любви, своеобразно ими понимаемой, видятъ смыслъ жизни. Если въ жизни дикаря любовное чувство не играло никакой роли, то это и есть "естественное состояніе человѣка", по мнѣнію г. Меньшикова. Только наша извращенная во всѣхъ отношеніяхъ цивилизація отвела этому чувству такое верховное мѣсто, о чемъ свидѣтельствуетъ якобы вся наша литература. Непремѣнно "вся", на меньшемъ юродивые публицисты не мирятся. Это ихъ главный аргументъ,– всѣ въ любви "подлецы", всѣхъ любовь превращаетъ въ "свиней". Начинается литературная скачка отъ пушкинской Татьяны до романовъ Стебницкаго, Писемскаго и Клюшникова, въ которыхъ предаются осмѣянію якобы дѣйствительные факты изъ жизни нигилистовъ шестидесятыхъ годовъ. Услѣдить за головоломными прыжками г. Меньшикова, отмѣтить всѣ его ужимки и тартюфскія киванья въ сторону "интеллигенціи" – мудрено, да и не нужно. Два-три образчика достаточны, чтобы обрисовать съ головы до ногъ несложную фигуру г. Меньшикова, не безъ граціи гарцующаго на своей палочкѣ въ болѣе чѣмъ легкомысленномъ костюмѣ среди "архонтовъ и софистовъ" и доблестно сокрушающаго перья въ борьбѣ съ Иветой Гильберъ, Отеро и имъ подобными "жрицами любви" (см. стр. 60–61 и другія).
Книга его раздѣлена на четыре главы: "О любовной страсти", "Суевѣрія и правда любви", "Любовь супружеская* и "Любовь святая". Первая посвящена анализу влюбленности и тѣхъ бѣдственныхъ послѣдствій, къ какимъ часто ведетъ страсть. Какъ и вообще мысли г. Меньшикова, его изложеніе въ этой главѣ не блещетъ ни оригинальностью, ни глубиной. Всѣ его вопли по поводу злой страсти тысячи разъ повторялись со временъ Соломона и до нашихъ дней. Невѣрны только его общіе выводы. Онъ комбинируетъ разныя стороны любовной страсти, сваливая въ одну кучу и голую, ничѣмъ не прикрытую, разнузданную чувственность, доходящую до болѣзненности въ лицѣ маркиза де-Сада, и то нѣжное, вполнѣ свободное въ началѣ отъ всякой чувственности – чувство, какое охватываетъ влюбленныхъ съ такой силой въ первый періодъ ихъ влеченія. Грубая ложь звучитъ также въ нападкахъ на литературу, которая будто бы создала и поддерживаетъ въ обществѣ ложный взглядъ на страсть, какъ на идеалъ любви. Выудивъ у Пушкина небрежно и вскользь брошенный стишокъ
"Любви не женщина насъ учитъ,
А первый пакостный романъ",
онъ сейчасъ же строитъ на немъ цѣлую систему обвиненія противъ литературы. «Въ заурядной семьѣ, гдѣ бабушка читала Грандисона, маменька увлекалась Понсонъ-дю-Терайлемъ, дочь упивается Марселемъ Прево, – въ такой семьѣ изъ поколѣнія въ поколеніе передается мечта о половой любви, какъ нѣкая религія, священная и прекрасная, и всѣ поколѣнія дышатъ одной атмосферой – постояннаго полового восторга, постоянной жажды „влюбленности“. Великіе авторы, описывающіе любовь во всей ея трезвой, ужасной правдѣ, до большинства не доходятъ, да большинству они и не по плечу; средней публикѣ доступнѣе маленькіе писатели и писательницы, которые, какъ и публика, не знаютъ природы и не умѣютъ быть вѣрными ей, которые не знаютъ, что такое любовь, но тѣмъ болѣе стараются изобразить ее обольстительной. И вотъ тысячами голосовъ, исходящихъ „свыше“, въ каждомъ молодомъ поколѣніи создается ложное внушеніе о любви, дѣлающее эту страсть одною изъ самыхъ гибельныхъ для человѣчества. Литературное внушеніе изъ читающихъ классовъ проникаетъ въ нечитающіе и ослабляетъ способы борьбы съ этою страстью, вырабатываемые всякой естественной, патріархальной культурой. Въ деревенской средѣ, гдѣ народъ не испорченъ (у старовѣровъ, напр.), тамъ молодежь воспитывается цѣломудренно и религіозно, половое влеченіе презирается внѣ брака, и вообще никакихъ „романовъ“ и „драмъ“ не полагается, всякія попытки къ нимъ гаснутъ въ общемъ внушеніи, что это грѣхъ и позоръ. Поэтому здоровое влеченіе обоихъ половъ здѣсь крайне рѣдко развивается въ страсть, регулируясь ранними и крайне строгими браками. Не то мы видимъ въ среднихъ, не трудовыхъ классахъ съ утраченной религіозностью, съ ослабленнымъ представленіемъ о добрѣ и злѣ» (стр. 11–12). Слѣдуетъ далѣе ссылка на Лукреція и его гимнъ Венерѣ, какъ доказательство испорченности «среднихъ классовъ», хотя Лукрецій жилъ въ первомъ вѣкѣ до Р. Хр. и никакого отношенія къ нашимъ «среднимъ классамъ» никогда не имѣлъ.
Но Богъ съ нимъ, съ Лукреціемъ. Если начать высчитывать всѣ ошибки и курьезы учености г. Меньшикова, въ родѣ, напр., того, что "за порицаніе Елены Аргивской былъ ослѣпленъ Гомеръ" (стр. 39),– мы никогда не кончимъ его скучно-напыщенной канители. Приведенный образчикъ размышленій г. Меньшикова чрезвычайно для него характеренъ. Съ поразительной смѣлостью, не сморгнувъ глазомъ, онъ, не обинуясь, переувеличиваетъ одно, какъ въ данномъ случаѣ вліяніе литературы, и извращаетъ другое, какъ противопоставляемую имъ добродѣтель народа и испорченность среднихъ классовъ. Драмъ и романомъ на любовной подкладкѣ въ народной средѣ никакъ не меньше, чѣмъ и во всякой другой, ибо, выражаясь просто, "всѣ люди, всѣ человѣки*. Причемъ тутъ литература? Если гдѣ меньше всего она имѣетъ вліяніе, такъ именно въ дѣлѣ любви, въ виду общности этого чувства, коренящагося въ одинаковой организаціи человѣческой природы на всѣхъ ступеняхъ соціальной лѣстницы. Только въ народной средѣ любовныя драмы принимаютъ особо-ужасный характеръ, благодаря непосредственности, несдержанности чувства, проявляющагося въ грубѣйшей формѣ, и драма, въ родѣ толстовской "Власти тьмы", можетъ служить хорошей иллюстраціей къ народной любовной хроникѣ.
Распространяться на эту тему значило бы идти по стопамъ г. Меньшикова, пережевывая всякое старье, давнымъ-давно ставшее ходячимъ мѣстомъ. Но и слѣдовать за нитью его разсужденій оказывается прямо-таки невозможнымъ. Постоянно смѣшивая два понятія – чувственность и здоровое чувство любви, авторъ до того перепутываетъ эту нить, что нѣтъ силъ разобраться въ навороченной имъ кучѣ своихъ и чужихъ афоризмовъ, то вѣрныхъ, хотя и старыхъ, какъ міръ, то смѣшныхъ до наивности. То онъ заявить, что прежде люди были здоровѣе и сильнѣе, потому что прежде бракъ рѣшался родителями, которые подбирали невѣстъ и жениховъ, отнюдь не руководствуясь ихъ чувствомъ. Въ доказательство – опыты хозяевъ, которые "не дожидаются, чтобы самецъ самъ выбралъ самку по своему вкусу; напротивъ, они этого боятся и не допускаютъ. "То, наоборотъ, "выборъ жениха и невѣсты долженъ быть предоставленъ имъ самимъ", но съ условіемъ, чтобы ими руководило отнюдь не чувство любви, а дружбы. Слѣдуютъ доказательства, что въ любви не руководствуются высшими соображеніями, ибо любовь есть "психозъ, помраченіе разума, гипнозъ" и т. п. Такъ, великіе люди по большей части женятся на женщинахъ гораздо ниже ихъ по достоинству, примѣръ – Гете, Данте, Мольеръ, Гейне и проч. Отсюда выводъ – если ужъ жениться, то лучше безъ любви. Хотя, поправляется авторъ, "я этой страсти ни отрицать, ни утверждать не могу, она явленіе природное, въ своемъ корнѣ отъ насъ не зависящее". А если такъ, то… опять прыжокъ въ сторону, къ какимъ-то невѣдомымъ временамъ, когда "берегли не только физическую, но и психическую невинность юношей, какъ зеницу ока, старались имъ не давать никакого понятія объ этой сторонѣ жизни, скрывали половую любовь, какъ нѣчто постыдное, въ глубокой тайнѣ. Тогда инстинктивно понимали, что "придетъ пора" и все откроется, но лучше, чтобы это открылось людямъ взрослымъ, съ созрѣвшей волею и разумомъ, съ укрѣпившимися понятіями о чести, съ привычкою относиться къ лицамъ другого пола безукоризненно и безтѣлесно". Авторъ не опредѣляетъ, когда это было, заявляя только, что "въ старину, въ хорошихъ семьяхъ", но воздерживаясь отъ указанія на литературу по этому вопросу. И очень понятно почему. Намъ слишкомъ хорошо извѣстно, что творилось въ эту старину, подъ покровомъ невѣдѣнія, и тайны и исторія "дѣвичей" еще не такъ далека отъ современной русской жизни. И прежде, конечно, и теперь были и есть образцовыя семьи. Но ужъ если сравнивать прошлое отношеніе къ любви и современное, беря не исключительные случаи, а среднее проявленіе этого чувства, то безспорно эти отношенія стали теперь и чище, и разумнѣе, и возвышеннѣе. Стоитъ только вспомнить, что представляла русская семейная жизнь еще лѣтъ пятьдесятъ назадъ какъ она отразилась въ драмахъ Островскаго, въ произведеніяхъ Грибоѣдова, Гоголя, Тургенева, въ "Пошехонской старинѣ" Салтыкова и т. п. Тутъ играло роль не только крѣпостное право, страшно принижавшее все и всѣхъ, но и грубое невѣжество, отъ котораго мы, къ несчастью, теперь еще далеко не освободились, какъ свидѣтельствуетъ книга г. Меньшикова. Въ чемъ угодно эта "старина" пусть служитъ урокомъ, но никакъ не въ дѣлѣ любви можемъ мы у нея поучиться нравственности.
Въ слѣдующей главѣ "Суевѣрія и правда любви", самой афористической, гдѣ Шопенгауеръ цитируется на ряду съ парижскими кокотками, въ родѣ знаменитыхъ Иветъ и Отеро, г. Меньшиковъ побѣдоносно ниспровергаетъ "культъ" любви, понимаемой какъ только физическое чувство, не облагороженное никакими высшими стремленіями. Побѣда его, довольно-таки жалкая по существу, такъ какъ онъ штурмуетъ открытыя двери и учиняетъ разгромъ беззащитныхъ. Мы бы охотно увѣнчали его лаврами, если бы не было смѣшно читать, когда онъ громитъ "дамъ", которыя извращаютъ смыслъ евангельскихъ словъ о любви для оправданія своихъ faux pas. Курьезнѣе всего въ этой главѣ его разборъ "Ромео и Джульетты", дѣлаемый имъ съ точки зрѣнія аскета-моралиста. Видите, видите, торжествуетъ г. Меньшиковъ, къ чему ихъ привела любовь? Родителей не слушались, родственными чувствами небрегли и погибли. Ну какъ же послѣ этого любовь не безуміе? Ясное дѣло, да. Но не безуменъ ли г. Меньшиковъ со своей критикой, основанной на абсолютной морали, не желающей считаться съ грѣшной землей.
Въ третьей главѣ "Супружеская любовь", повторивъ, по обыкновенію съ десятокъ разъ, что основа брака "не разсчетъ, на наслажденіе", а взаимное уваженіе, любовь и дружба, имѣющія цѣль – "взаимное сотрудничество въ дѣлѣ жизни", г. Меньшиковъ обрушивается на современную семью, гдѣ этого начала будто бы нѣтъ. Для подтвержденія гибели семейнаго начала приводятся наблюденія автора, въ которыхъ онъ говоритъ о развратѣ… "золотой молодежи" (стр. 138–189). Нельзя сказать, чтобы это было убѣдительное доказательство. Далѣе слѣдуютъ нападенія на нигилистовъ 60-хъ годовъ (стр. 154 и др.). Запоздалая вылазка понадобилась автору для борьбы съ "лже-либеральной", какъ онъ выражается, теоріей "свободной любви", оправдывающей разводъ. Какова эта критика, пусть судятъ сами читатели: "Честность" въ дѣлѣ брака,– повѣствуетъ г. Меньшиковъ о нигилистахъ,– заключалась въ томъ, что если ваша жена полюбила, вашего пріятеля, вы обязаны были уступить ему честь и мѣсто, ни мало не прекословя, а чуть-ли даже не съ оттѣнкомъ почтительности. У однихъ беллетристовъ мужъ цѣлуетъ въ послѣдній разъ невѣрную жену и исчезаетъ куда-нибудь, въ Америку, что-ли, у другихъ мужъ доводитъ великодушіе до того, что соединяетъ руки своей жены и любовника, у третьихъ мужъ съ перваго дня брака твердитъ женѣ, что она во всякую минуту свободна, и, наконецъ, добившись ея измѣны, чуть не съ торжествомъ выдаетъ ей отдѣльный видъ или разводъ и даже снабжаетъ деньгами, если любовникъ жены – какой-нибудь интеллигентный пролетарій. На эту тему со всевозможными варіаціями написано множество плохихъ романовъ и повѣстей, которые читались (а вѣроятно, и до сихъ поръ кое-гдѣ читаются) съ восхищеніемъ. Свобода брака! Свобода любви! Вотъ лозунгъ, наиболѣе понятный изъ всѣхъ для распущенныхъ дамъ и кавалеровъ. Положимъ, они и до нигилизма пользовались этою свободою, но прежде она считалась мерзостью, а тутъ вдругъ ее возвели въ достоинство, въ добродѣтель! Немудрено, что десятки и сотни тысячъ дамъ и мужчинъ – нѣсколько поколѣній подъ-рядь – подъ благословеніемъ этой доктрины пускались во всѣ тяжкія и мѣняли свои привязанности чуть-ли не одновременно съ бѣльемъ" (стр. 155).
"Клевещите, клевещите,– говоритъ донъ Базиліо въ "Севильскомъ цирюльникѣ",– отъ клеветы всегда останется что-нибудь". Зачѣмъ, однако, эта запоздалая клевета, это грубое извращеніе литературы 60-хъ годовъ, посвященной вопросу о свободѣ любви? А затѣмъ, чтобы доказать, что современное поколѣніе есть продуктъ такой распавшейся семьи, гдѣ "привязанности мѣнялись съ бѣльемъ", и что теперь нѣтъ истинной семьи. "Лже-либеральное" движеніе требуетъ разрѣшенія развода и будто бы санкціонируетъ теорію свободной любви. Авторъ рѣшительно противъ развода, онъ хочетъ начать "истинно-либеральное" движеніе, которое бы привело къ ненужности развода. Цѣль очень почтенная, но какъ же надѣется достигнуть ея г. Меньшиковъ? Для этого онъ ставитъ абсолютное требованіе: выходить замужъ и жениться безъ любви, и тогда не будетъ повода къ разводу. "Поводомъ и основою брака можетъ служить только цѣль, указанная при твореніи: необходимость человѣку имѣть помощника, помощника не только въ жизненномъ трудѣ, но и въ нравственномъ подвигѣ, для котораго человѣкъ посылается въ міръ, и для дѣторожденія, необходимаго для совершенствованія тѣхъ душъ, которыя еще слишкомъ далеки отъ идеала. И если встрѣчаются мужчина и женщина, которые изъ всѣхъ пригоднѣе для помощи другъ другу,– это и есть поводъ и основа брака, а вовсе не любовь" (стр. 178).
Договорившись до такого брака, г. Меньшиковъ вполнѣ логически заканчиваетъ книгу главой объ особой "святой любви", для которой ни бракъ не нуженъ, ни дѣторожденіе, потому что такая любовь въ себѣ самой находитъ цѣль и содержаніе. Слѣдуетъ длинное разсужденіе о достоинствахъ и преимуществахъ святой любви, какъ ее представляетъ г. Меньшиковъ, но которая всякому простому, не изощренному въ "эллинскихъ мудрованіяхъ" уму и сердцу покажется чѣмъ угодно, только не любовью. Наворотивъ массу словъ о "безстрастіи", "безкорыстіи", "безпредметности" и "безпредѣльности" этой любви, г. Меньшиковъ ставитъ для опредѣленія такой любви вопросъ, можно ли "одинаково любить и ребенка, и разбойника, который выкалываетъ ему глаза?" – и отвѣчаетъ съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ: "дѣйствительно, святая любовь любитъ и ребенка, и разбойника". Слѣдуетъ, по истинѣ іезуитски-казуистическое толкованіе, для юродствующей литературы высоко характерное. "Мы,– говоритъ авторъ,– смотримъ на жизнь сквозь наше искривленное сознаніе, подобно тому, какъ сквозь кривыя стекла дома можно подумать съ улицы, что отецъ душитъ ребенка, тогда какъ онъ его щекочетъ, такъ и сквозь иллюзорное сознаніе наше всѣ факты жизни могутъ быть извращены относительно ихъ абсолютной сущности. Можетъ быть, разбойникъ, замучивая ребенка, т. е. его временное, мгновенное тѣло, тѣмъ самымъ спасаетъ душу. Можетъ быть, это мученіе необходимо для спасенія самого разбойника, для пробужденія въ немъ искры совѣсти. Можетъ быть, это злодѣйство нужно для того, чтобы потрясти слишкомъ неподвижныя души другихъ людей. Я не рѣшаю вопроса, мотивы Высшей воли мнѣ неизвѣстны, но если вѣрить въ эту волю, то нужно вѣрить также, что она Благо, что страданія наши суть только дурно понятыя нами блага" (стр. 211–212 и далѣе). Не такъ ли во время оно разсуждали господа инквизиторы, сжигая людей для спасенія ихъ души? И неужели въ концѣ XIX в. приходится говорить, что Высшая воля, какъ истинное Благо, не можетъ стремиться къ добру злыми путями? И не потому ли данъ законъ этой Высшею Волею въ словахъ: «нѣтъ той любви больше, какъ если кто положитъ душу свою за друзей своихъ?» Одно изъ двухъ – или этотъ законъ истина, и тогда дѣйственная любовь, предписанная имъ, никогда не примирится съ этими «можетъ быть» г. Меньшикова и не останется безстрастной при видѣ разбойника, выкалывающаго глаза ребенку, или же… Впрочемъ, никакого другого «или» здѣсь и быть не можетъ для нравственно здоровыхъ людей.
Мы видѣли, какъ этотъ проповѣдникъ примѣняетъ свою "святую любовь". Оправдавъ разбойника, онъ съ пѣною у рта накидывается на злополучныхъ нигилистовъ, не обинуясь возводя на нихъ вздорное обвиненіе, будто они развратили и уничтожили семью. Елейный сладкопѣвецъ, не смущаясь, всѣхъ влюбленныхъ величаетъ "свиньями", обвиняетъ въ "подлости любви", бросаетъ вызовъ "всѣмъ честнымъ" людямъ – признаться, что въ пору любви они всѣ были проникнуты самыми гнусными и низменными порывами. Постоянно твердя – "любовь, любовь", онъ извращаетъ исторію, литературу, подхватываетъ всякія вздорныя измышленія до откровенныхъ глупостей парижскихъ кокотокъ – и все это лишь затѣмъ, чтобы оплевать, огадить, загрязнить то, что скрашиваетъ жизнь бѣднаго человѣчества, что единитъ людей и въ самомъ сухомъ и черствомъ сердцѣ вызываетъ трепетъ добра, милосердія и чистѣйшихъ порывовъ. Съ дикой радостью выхватываетъ онъ, проповѣдникъ любви, всякія уродства, неестественныя проявленія полового чувства и торжествующе вопіетъ "вотъ она, ваша любовь!"
Все, что угодно, вдохновляло г. Меньшикова, но никакъ не чувство любви. Ибо давно уже сказано: "Если я говорю языками человѣческими и ангельскими, а любви не имѣю, то я – мѣдь звенящая, или кимвалъ звучащій. Если имѣю даръ пророчества, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и всю вѣру, такъ что могу и горы переставлять, а не имѣю любви, – то я ничто. И если я роздамъ все имѣніе мое, и отдамъ тѣло мое на сожженіе, а любви не имѣю, – нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы. Любовь долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, а сорадуется истинѣ. Все покрываетъ, всему вѣрить, всего надѣется, все переноситъ". (Первое посланіе къ коринѳявамъ ап. Павла, гл. 18, ст. 1–7). Вотъ что такое "святая любовь", и ни слѣда ея нѣтъ въ гнусной и человѣко-ненавистнической книгѣ публициста изъ "Недѣли".
Переходъ отъ г. Меньшикова къ г. Розанову – прямой и непосредственный. Это двѣ родственныя души, единомыслящія и единостремящіяся. Раньше мы указали на разницу ихъ стиля. Теперь укажемъ на ихъ общія свойства.
Мы только что видѣли, какъ г. Меньшиковъ стремится изгнать любовь во имя любви,– г. Розановъ продѣлываетъ ту же операцію надъ просвѣщеніемъ, и, къ счастью, съ такимъ же успѣхомъ. Пріемы его совершенно тѣ же, что и г. Меньшикова, та же логика, тотъ же абсолютизмъ, та же непреложность и широковѣщательная манера, то же самодовольство и глубочайшая увѣренность въ обладаніи полной истиной. "Мысли, изложенныя въ моей статьѣ, – говоритъ онъ о своей статьѣ "Сумерки просвѣщенія", – должны бы быть индиферентны для всѣхъ партій, борющихся за ту или иную систему образованія у насъ ли, въ Западной ли Европѣ; и я имѣлъ нѣкоторую надежду, что для всѣхъ же партій они будутъ цѣнны, потому что вскрываютъ сторону вопроса, ими всѣми равно опущенную. Я не касаюсь ни реализма, ни классицизма въ образованіи; меня занимаетъ скорѣе вопросъ: почему и при классицизмѣ юныя образующіяся души являются такъ мало проникнутыми имъ? Почему, проходя реальную школу, онѣ такъ мало проникнуты бываютъ интересомъ къ реальнымъ наукамъ – этому плоду новаго трехвѣкового европейскаго движенія? Ни одного типа школы я не отвергаю; я изслѣдую только, почему всѣ типы такъ мало достигаютъ своихъ цѣлей, съ такимъ упорствомъ осуществляемыхъ, такъ ярко и, несомнѣнно, благородно желаемыхъ" (стр. 86–87).
Такова цѣль г. Розанова. Въ "Сумеркахъ просвѣщенія" онъ критикуетъ въ началѣ основу современной школы – низшей, средней и высшей, находя всѣ эти школы не отвѣчающими назначенію. Основной недостатокъ заключается въ отсутствіи принципа индивидуальности, въ отрывочности знаній, въ невыдержанности типа для каждой школы. Преимущественно рѣчь идетъ о средней школѣ, но заключенія свои онъ постепенно распространяетъ на всю систему образованія. Онъ указываетъ на шаблонность и формализмъ, на схоластику, изгнавшую изъ средней школы живую жизнь и убивающую личность во имя отвлеченнаго принципа государственности. Всѣ его указанія, какъ видятъ читатели, вѣрны, хотя и не новы, потому что тысячи разъ повторялись въ нашей литературѣ. Если бы г. Розановъ ограничился ими, мы имѣли бы тысячу первую критику современной гимназіи, написанную мучительно тягостнымъ языкомъ – и только. Пожалуй, она даже имѣла бы нѣкоторое значеніе, какъ критика изъ реакціоннаго лагеря, до сихъ поръ упорно отстаивавшаго ломку средней школы, произведенную гр. Д. А. Толстымъ. Въ этомъ и заключалась бы оригинальность г. Розанова. Но, съ другой стороны, какая же критика безъ положительнаго идеала, и вполнѣ законно его стремленіе – указать тотъ свѣтъ, который, по его мнѣнію, долженъ разсѣять нынѣшнія сумерки.









































