Читать книгу "Портрет неизвестного с камергерским ключом"
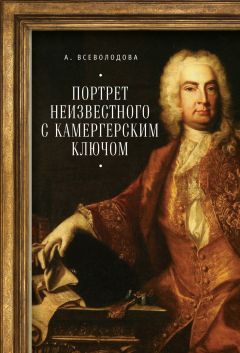
Автор книги: Анна Всеволодова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Фрола Кущина».
* * *
«Здравствуйте, государыня матушка.
Вашими молитвами Фрол в дому генерал-аншефа хорошо прижился и даже смог исхлопотать для де Форса место учителя при латинской школе, устроенной для домашних Волынского. Потому мы стали несколько богаче, и Фрол шлёт вам десять рублей, которые покорнейше принять просит, а сам не имеет никакой нужды.
У нас совсем настала зима. С крыши конюшни устроен деревянный спуск – жёлоб, залитый водою. Дети Волынского в ясную погоду любят забавляться катанием с этой горы, которая благодаря высоким с обеих сторон бортам вполне безопасна, или на коньках по льду реки. Фрол часто разделяет это веселье, ибо Пётр Артемьевич так полюбил чтение его, что по долгу от себя не отпускает и привык к его обществу. Старшие девицы бывают большими насмешницами и называют Фрола «братец-писарь», но тоже расположены к нему и угощают апельсинами, до которых он оказался великий охотник. Анна Артемьевна несмотря на свои не полные пятнадцать лет заменяет в доме хозяйку, умна не по годам и отец часто доверяет ей в вопросах до нужд имения относящихся. Она платит ему преданностью, какую можно найти в сердце война.
Мария Артемьевна гораздо менее сестры напоминает дочь Марса. Расскажу один случай, который даст вам верное представление о её сердце. Пётр Артемьевич весьма часто бывает не здоров и генерал, всегда обеспокоенный этим обстоятельством, постоянно ищет способа порадовать чем-либо сына. Однажды, в то время, как Пётр Артемьевич болел горлом, отец его купил у какого-то немца ручного сурка и принёс его в дом. Подарок произвёл ожидаемое действие и очень развеселил больного.
Обе дочери, две воспитанницы, сын и случившийся при них Фрол, развлекавший по своему обыкновению Петра Артемьевича декламациями, принялись занимать необыкновенного гостя. Зверёк был очень забавен, пожимал обеими лапками протянутые ему пальцы, кланялся, беря угощение и танцевал под песенки, извлечённые из музыкального ящика, и клавесина, мастерством Анны Артемьевны. Наконец, он стал проявлять признаки некоторой нелюбезности, видимо утомлённый шумным обществом. Пётр Артемьевич, однако, как учтивый хозяин не оскорбился холодностью гостя, но даже изъявил желание поместить его в свою постель. Фрол тотчас взялся исполнять это приказание, но как только он оторвал сурка от пола, тот вонзил острые свои зубы ему в палец. Фрол уронил зверя на пол и с принуждённой улыбкой объявил, что гость, вероятно, почитает себя очень важною персоной и не резонабелен к явной его, Фрола, продерзости. Пётр Артемьевич смеялся над «братцем-писарем», который «столь храбр бывает, что не имеет решимости вторично предложить свою любезность надменному гостю, находя то для себя слишком нефаворабельным».
Мария Артемьевна, как скоро увидела капли крови, выступившие на руке Фрола, расплакалась и воскликнула:
– Сурок, злой сурок! Для чего укусил ты палец доброго господина Кущина? Вот вам, любезная матушка, весь характер Марии Артемьевны.
О себе не знаю, что вам сообщить, кроме того, что здоровье моё очень окрепло. Климат Петербурга ему ничуть не вредит, но напротив того, окрасил румянцем и подарил весёлостью. Каковой и остаюсь покорная дочь ваша, Налли».
* * *
«Здравствуйте государыня-матушка,
Вашими молитвами мы здоровы, а в доме где Фрол служит всё постоянно и учтиво, и надлежит как должно.
Пишите вы, что имеете желание в святочные дни нас посетить и обрадовать снова себя видеть в глазах ваших. Но Фрол от дорожного труда вас избавил и упросил патрона своего отпустить сына любви матери. Потому государыня-матушка, не сомневайтесь его в самое короткое время увидать и не день или два, но и месяц целый радоваться любезному своему сыну. Сама же я зимнею порою пускаться в путь побоюсь и молю за то мне не пенять, ибо самим вас известно, что с самых детских лет не имею довольно к тому крепости. Касательно того, о чём писали вы с прошлою почтою. Я не жду и не ищу, чтобы ко мне кто присватался, и откровенно замечу вам, что, если бы кто и вздумал сделать это даже и с состоянием и хорошей фамилией ничего не мог бы услышать от меня кроме «вы не можете быть мужем моим, я не могу любить вас». Не знаю, как изволите вы о сём рассудить, но льщусь, что главная забота ваша обо мне состоит не в желании, чтоб мне жить, как говорится «по-людски». Нежный мой наставник – сердце, ожидает ещё, а пока этот тихий диктатор молчит, нужно быть ничтожным человеком, чтобы прельститься чем бы то ни было.
Теперь, оставляю эти важные предметы, разговоры о которых вызывают на лице моём признаки душевного волнения, подымаю флёр, которым поспешила скрыть их, и в точности исполняю ваше предписание – рассказать о доме Волынского.
Он довольно тесен и мог быть убран роскошнее для господина обер-егермейстера ее величества. Особенная опрятность – главное его украшение. Им щедро отделан каждый покой, начиная людскою и кончая парадною гостиной.
Семья владельца его занимает семнадцать покоев, включающих спальню хозяина, которая часто служит ему и кабинетом. Она очень просторна, отделана китайским алым атласом по стенам и вмещает кровать, два ореховых шкафа-кабинета с зеркалами и медными подсвечниками, два стола красного дерева, обитый кожей канапе и восемь английских стульев. Тут обычно генерал принимает самых близких друзей своих. Столы, кроме обычных своих украшений: бумаг, карандашей в меди, часов, табакерок и шкатулок с печатями, имеют сидящими на крышках своих золочёных китайских идолов, умеющих трясти головами и презабавных. К спальне примыкают три комнаты – два кабинета и столовая, две из них обиты камкой, а третья – тканными шпалерами. Полки, уставленные книгами, ландкартами, приборами, служащими военному или строительному искусству, внушают убеждение, что находишься в кабинете ученого. Почетное место отводится всякого рода оружию и конскому убору. Я не умею сообщить вам о сих предметах ничего более, кроме того, что они служат образчиками английской, саксонской, турецкой, немецкой, шведской, отечественной работы и изукрашены серебряною и золотою насечками. Угловая зала велика, убрана коврами, привезёнными из Персии, куда генерал был отправлен в качестве посланника. Тут стоит большой каменный стол, кресла, 24 английских стула. На стене висит портрет самого хозяина на полотне в чёрной раме. Именно здесь Волынской проводит беседы и читает конфидентам свои рассуждения. Множество полотен масляной живописи, среди которых: пейзажи, сцены баталий и охотничьи, портреты государыни, герцога Бирона с женою, императора Петра Великого и иные – свидетельство любви хозяина их к художеству.
Три светлицы занимает Пётр Артемьевич. Они выглядят очень весёлыми и пёстрыми, ибо обиты шпалерами, изображающими яркие цветы и скачущих охотников. Тут помещаются его стол и конторка, географические карты, зрительные трубы, медные чернильницы, глобусы и клавикорды. Особое место занимают склянки с помещёнными в спирту ящерицами и скорпионами, ибо зоология всегда остаётся любимой наукой Петра Артемьевича. Пять покоев отведено дочерям. В них блеск и свет царят больше, чем в иных комнатах, что достигается обилием зеркал в золоченых рамах, живописными плафонами, кабинетами со стеклянными дверцами. Вся мебель дома прислана представителями английской фирмы «Элизар и Эвенс» дубовая или ореховая. В молельной, которую назову самым роскошным покоем дома, имеются три серебряных распятия с частицами мощей, украшенных финифтью и каменьями, три киота, и более двадцать икон, оклады которых изобилуют бриллиантами, изумрудами и жемчугами.
Как я уже докладывала, сей дом на Мойке Артемию Петровичу стал тесен, и он собирается приобрести новое жильё на южном берегу Фонтанки, купив его у генерал-майора Алабердеева.
Из всех усадеб Волынской более всего любит родное Вороново и часто бывает в московском каменном доме, в котором и родился. Мне кажется, если б должность не держала его в столице, он предпочёл бы постоянно в нём поселиться. Сам он человек очень добрый и весёлый, каким редко предстаёт истинное величие, присущее ему в той мере, какую только может вместить душа смертного. Его великодушие не знает границ, и вот вам один из примеров его. Фрол несколько дней был неопасно болен, и Артемий Петрович столько был тем огорчён, что не показывал всегдашнего своего жизнелюбия и усердия к делам. Старый адъютант Родионов принялся было утешать патрона своего, но тот отвечал: «Ты страшишься потерять прилежного помощника, а я, зато – верность, постоянство, благодарность, каких в такой полноте не застать мне никогда более на этом свете».
Ежедневно, дом господина Волынского осаждают толпы просителей с самыми разными нуждами, лица которые были обмануты в надеждах своих на правый суд, попали в несчастье. Многих, очень многих спас он от отчаинья, разорения, гибели. Упаси Бог прогнать кого-либо от его порога! Такой поступок Артемий Петрович вменил бы любому своему клиенту или дворчанину в преступление самое жестокое.
Впрочем, оставляю Фролу отвечать далее на все вопросы, включая и те, что вы можете сделать о покорной дочери вашей
Налли».
* * *
Приближалось Рождество. Всё в доме предвещало приход его. Обычный строй дел почти совсем остановлен был за отлучками к церковным службам говельщиков, которыми были почти все люди Волынского.
Сам он в сочельник с семейством отправился к обедне в Петропавловский собор, приказав, чтобы к его возвращению дом был готов к ожидаемому назавтра балу.
В праздник, разумеется, никто снова не работал. Всем выдано было жалование, а некоторым – подарки. Сидя после обеда в канцелярской, Налли похвасталась перед, ставшим совершенным её приятелем де Судой, шёлковыми перчатками, а он в свою очередь – сборником сочинений Тредьяковского, которого был большой поклонник. После декламации нескольких наиболее удачных, по мнению де Суды строф, он признался, что и сам пробует сочинять и, ободряемый уверениями Налли найти в ней благосклонного зрителя, произнёс:
– Тредьяковский тем только не хорош, что любовный стих его крайне путан и тяжёл, так что читывая его, я воскликнул в уме своём:
«О, Слог Любви, будь прост и ясен
Одним восторгом ты прекрасен
Витийства тлен оставь,
Не изощряй ни ум, ни страсть
Не делай из богинь девице
Ты примера
Не вопияй «Моя Венера».
– Это лучше Тредьяковского, право лучше! – воскликнула Налли в восторге от остроумия Ивана, – я никак не мог бы составить ничего подобного. Вот тебе мой совет – предстать собственную оду Артемию Петровичу, он доволен будет.
– За что я более всего люблю тебя, Фрол – так это за своё чистосердечие. Ты столь прост и участлив в пожелании добра, даже и тем, кто, кажется, своим успехом твою фортуну задеть могут, что и брат родной не мог бы выказать большего.
– Что в том странного? – отвечала Налли, пожав плечами, – не знаю, что за причина к похвалам твоим, разве сам ты злодей, разящий всех направо и налево при первом подозрении в нефаворабельности тебе?
Иван готовился возразить, но тут в канцелярскую вошла толпа лакеев во главе с Родионовым, который объявил, что все вещи из канцелярской нужно вынести, ибо покоев свободных не хватает и гостям станет тесно.
– Английский кабинет – к Петру Артемьевичу, обе конторки – ко мне, стол – в малый покой, – распоряжался он к лакеям.
– Иван, бери мемориалы, а вы Фрол – чернильницы и последний экстракт вами неоконченный, и несите наверх в кабинет его превосходительства.
Иван Родионов упорно оставался с Налли на «вы» и обращался с той учтивой холодностью, какою встретил её появление на дворе Волынского.
Из окон уже слышался шум подъезжавших экипажей, крики форейторов и гайдуков. Лакеи замерли на местах своих, другие – бросились к парадному, чтобы помочь гостям расстаться с шубами.
Хозяин, при шпаге, пожалованной ему императором Петром Великим за подвиги во время Полтавской баталии и усыпанной бриллиантами, вместе со старшей дочерью стоял на верху лестницы, ожидая приветствовать приглашенных лиц. Налли любовалась позументами и каменьями, переливавшимися на платьях обоих Волынских и, особенно, лицами их, ничуть не терявшими от блеска драгоценных сих соперников.
Встретив взгляд патрона, который со своей стороны следил за её подъемом по лестнице, она прочла в нём желание услыхать от неё, ставший за привычку, любезный привет, и, дождавшись, когда их разделяло не более трёх ступеней, промолвила:
– Votre Excellance…
В ту же минуту она ощутила толчок сзади, потеряла равновесие и споткнулась, рассыпав бумаги. Чернильница, ударившись об пол, расплескалась, украсив чулки Волынского пятнами. Анна Артемьевна отшатнулась. Волынской вспыхнул.
– Виноват, ваше превосходительство, – некстати закончила Налли, подбирая бумаги.
– Кто натирал лестницу? Кто приказал сделать из неё каток? – приступил хозяин к Родионову.
– Дворецкий распорядился, – отвечал тот, совершенно потрясённый таким оборотом.
– Счастлив он, что мне не до того, – проговорил Волынской и побежал заменять испорченные части своего туалета.
– Грех вам, Иван Васильевич, – шепнyла Налли, – хоть ради праздника повоздержались бы. Для удовольствия вашего, куда лучше меня бы чернилами изукрасили, а теперь огорчение Артемию Петровичу сделали. Чулки, между делом, десять рублей стоили. К чему такая неприятность, ведь вы его любите?
В лице Родионова мелькнуло удивление и что-то вроде душевного расположения, но тотчас выражение неприязненной учтивости вернулось с удвоенной силой, и старый секретарь отвернулся.
Сперва гости вместе с хозяином и детьми его заполнили молельную с прилегавшим к ней покоем (ибо молельная не могла вместить всех) и слушали праздничный с пением «Яко с нами Бог» и водосвятием молебен.
Волынской пел вместе с девицами. Пётр Артемьевич стоял подле отца, не умея разделить сего удовольствия по причине не оставляющей его боли в горле, но с видимой радостью, наблюдая происходящее. Затем возглашалась многолетия государыне, всему царствующему дому и хозяину с чадами и домочадцами.
Обеда как такового не предполагалось, но в двух примыкавших к большой зале покоях расставлены были столы со всевозможными закусками, напитками и десертами, долженствующими подкреплять силы всех того желающих. Иван де Суда и Налли – младшие многих чином и годами, чувствовали себя несвободно и держались ближе друг к другу.
– Василий Никитич Татищев, князь Урусов, президент коммерц-коллегии граф Мусин-Пушкин, Новосильцев и Нарышкин – оба сенаторы, князь Черкасский, – называл Иван де Суда вельмож и указывал их Налли.
– А обществом этих двоих его превосходительство дорожит особо и все что может быть пригодным крепости сей дружбы – фаворабельно, – прошептал Иван в то время как мимо них проходил человек годов около шестидесяти, приятной наружности, высокого росту и отменной учтивости, которую расточал перед двумя дамами, разделявшими его общество. Оно, несомненно, доставляло кавалеру приятность, которой он не скрывал и для которой оставался глух к ухищрениям хозяина вовлечь его в разговор.
– Граф Миних, – пояснил де ля Суда. Налли с удивлением услыхала имя, стяжавшее славу великого Александра и могущее обращать в бегство легионы.
Второй персоной влиятельной для фортуны Артемия Петровича оказался человек средних лет, не особо запоминающейся наружности.
– Кабинет-секретарь государыни Эйхлер.
Тут же были, не раз виденные Налли в доме Волынского, Еропкин, Хрущов, Соймонов, Румянцев, Василий Гладков. Последний незадолго до её появления также принят был секретарём, но имея по своему офицерскому званию ещё другие обязанности, редко бывал в доме.
– Кто этот молодой человек, одетый щегольски и вертящийся возле дочерей его превосходительства?
– Медикус обер-камергера Дитрихманн, – отвечал ее Ментор, – остерегитесь назвать его «вертящимся около дочерей его превосходительства», перед глазами последнего, или самого предмета вашей насмешки. В первом случае несдобровать Дитрихманну, во втором – вам самим, ибо этот немец, по виду простодушный и обаятельный, имеет коварную и злую душу, как и патрон его.
– Последнее замечание ваше также предлагает мне остеречь вас, и я плачу вам тою же заботою, – отвечала Налли.
В то же время музыканты, помещавшиеся за специально сооружённой особой изгородью, получив знак показать своё мастерство, звуками, принадлежащими таланту Доменико Далольо, подали начало балу.
Налли со вниманием следила за движениями танцующих, стараясь запомнить фигуры, выполняемые кавалерами и боясь в любое мгновение быть принуждённой повторить их. Опасения её оказались не напрасны. Как скоро очередь ангажировать настала дамам, перед ней очутилась княгиня Кропоткина. Поминутно путаясь ногами и краснея, Налли ожидала от своей дамы изъявлений неудовольствия, но уже несколько времени наблюдая на лице её выражение любезности и участия, осмелилась пробормотать:
– Простите, сударыня, если я не решился уклониться от лестного мне ангаже. Теперь, конечно, вы сожалеете о моём малодушии.
– Напротив, любезный Фрол Александрович, я не только не сожалею о поступке вашем, который вы называете малодушием, а я – храбростию, но и ангажирую вас в следующем моём выборе.
Таким образом Налли танцевала не однажды, узнала, что княгиню зовут Катерина Алексеевна, и столько преуспела в преподанном ею уроке, что уже подумывала предложить менуэт младшей дочери Волынского, когда танцы окончились и начались игры в фанты.
Первыми жертвами опасной этой забавы пали Румянцев, и Нарышкин принуждённые изобразить пантомимою «отвергнутое признание и смерть несчастной особы, наступившей вследствие сей жестокости», затем их сменил Дитрихманн и выделывал артикулы ружьём, чем заставил смеяться всех, в особенности Миниха и старшую дочь Волынского – Анну.
Княгиня Урусова усажена была среди залы на стульях и подвергнута пристрастному допросу по следующим пунктам:
• Назовите из настоящего собрания персону наиболее любезную вам.
• Назовите из настоящего собрания персону, наименее пользующуюся вашим расположением.
• Назовите из настоящего собрания персону, которая по убеждению вашему наименее к вам расположена.
• Назовите из настоящего собрания персону, которая по убеждению вашему сердечно вам предана.
Оставив княгиню в слезах, ибо дознание производилось со знанием дела и, нисколько не взяв веры словам её, нашло в ней вину в «запирательстве со злым умыслом», все обратились к наблюдению за исполнением князем Черкасским персидского танца. Музыканты заиграли сочинение Дмитрия Кантемира, преисполненное османскими мотивами. Впрочем, приёмы танцующего сводились к перемещению его грузной фигуры вокруг своей оси с одновременным потрясением сжатыми кулаками, что вероятно, должно было знаменовать, злобность дикого азиатского народа, и не вызвали особенного участия в зрителях. Молодая Хрущова трепещущей рукой принуждена была в небольшой рюмке смешать все предлагаемые гостям напитки и опрокинуть полученное содержимое в рот. Следующий черёд привлечь к себе всеобщее внимание выпал Налли. Фант, полученный ею, приказывал «сложить и исполнить оду кумиру». Налли вышла на середину залы и остановилась, прижав одну руку к груди, а другую заложив за спину.
– Блажен он, ибо знает: жизнь – мгновенье
Умом достичь пытается вершин,
Ему готова честь под райской сенью
Христу он станет брат иль сын
Налли начала оду чужими стихами и нетвердым от волнения голосом – ведь, среди прочих лиц, внимал ей любезный Волынской.
Кумиров сон,
Духов полёт
Жизнь, смерть вселенной
Перед одним его дыханьем –
Тленны.
Maecenas, atavis edite regibus
O, et praesidium et ducle decus meum![7]7
О, царский правнук, меценат! О, мой покров и украшенье! (лат.) Гораций – «Ода к Меценату»..
[Закрыть], – неожиданно пропела Налли латинскую фразу, не упустив пленить слушателей красотою и выразительностью голоса. Румянец безграничной преданности разливался в лице её.
Чудесы гор, полей и рек,
Небес светила
Возмочь не могут превзойти его красы
Душе не милы.
Прорезать небо,
Сбросить в бездны чудищ ада,
Для одного его плезира –
Вот отрада.
Каждый новый стих завершался пением указанной строфы из Горация. Недостаток искусства стихосложения с избытком возмещался одушевлённостью исполнения и милыми достоинствами чтеца, которые совершенно покорили собрание. Казалось воздух кругом звенел и дрожал от необычайной для его материи энергии. Самый эфир его груб в сравнении с ней.
Награды не хочу
Иметь взамен,
Будь твой покой,
Удел благословен!
Латинское пение оборвалось, взлетевшим, и словно рассекшим плафон, regibus. Казалось – и довольно. Но Налли, не в состоянии остановить хвалы любезному Волынскому.
Блажен чьи слезы не напрасны,
Чей кроткий дух разносит мир,
Кто правды глас различит ясно,
Кто милость льет как эликсир.
Чисто души его зерцало,
В нем мысли темной не бывало.
Кого поносят люди злы и гонят в чуждые долы.
Червленый пурпур и венец ему готовит наш Творец
Налли переводила дыхание, в глазах её стояли слёзы. Успех был необыкновенным. На несколько минут игра была забыта. Все – и особенно дамы – выражали восторг свой мастерству декламатора и уверенность, что степень его позволяет Налли представлять на сцене лучше итальянцев и французов. Княгиня Кропоткина, более прочих, настаивала на этой мысли и предлагала собственный свой театр, устроенный по французскому образцу и нередко отмеченный посещением царевны Елисаветы.
– Я отгадала тайну кумира вашего. Вас пленила сама Минерва. Сколь счастье улыбается сей богине, и, верно, она готова променять своё бессмертие на вашу привязанность, – говорила Катерина Алексеевна, в то время как Налли благодарила её за снисходительность и отклоняла сделанное предложение, извиняясь недосугом. Княгиня продолжала убеждать её.
– Отдайте мне моего секретаря, он слишком молод и, подобно Телемаку, должен скорее покинуть очарованный остров Калипсо, куда, волею Фортуны, ладья его была брошена бурею, – проговорил Волынской.
Княгиня вспыхнула.
– Льщусь надеждою, я ни в малой степени не напоминаю вам, любезный Артемий Петрович, коварную сию нимфу, а мой дом – её западню?
– Помилуйте, за что вы столь суровы к почтительным словам моим? Они только выражали заботу о сём юноше, если угодно, – моём паже, которого дух ещё слаб для испытания восторгами собраний. Он и по сию пору ещё не покинул неги сих лживых объятий. Прав ли я, Фрол?
Как снести любезные его взоры, исполненные отеческой заботливости и сердечного тепла? Как поразили они Налли! Она едва удерживается вымолвить ответ самый нежный, трогательный, погибельный для ее тайны. С прерывистым вздохом он подавляется в самых устах. Глаза, слишком красноречивые – потуплены.
– Молчание, сударь, есть прямое признание вины. Вы вполне изобличены, – говорит Волынской, улыбаясь, и отходит от нее.
Игра возобновилась.
Налли во весь вечер была сама не своя, так что заставила смеяться де ля Суду, который пенял ей на рассеянность и уверял, что на вопрос его «с чем изготовлен пирог», который Налли держала в руках, но позабыла попробовать, она отвечала: «Не знаю, верно с какой-нибудь дрянью». «Что если бы повар наш Иван Артемьевич услыхал? А если бы сам хозяин знал, как вы расхваливаете его угощение? Нет, Фрол, вами решительно завладела Минерва, о которой упоминала княгиня Кропоткина».
Налли не слыхала его. Восторг, которым дарит ее, сам того не зная Волынской, так упоителен, грусть так остра, счастие так туманно.
Слезы все еще выступают на глазах ее – о чем – знает только Господь, сама Налли не может назвать им причины. Но необходимо скрыть следы волнения, не личащего юноше. Довольно того, что всем нынче убедиться – секретарь Кущин изрядно чувствителен. Налли находит сил говорить с де ля Судой, Гладковым, Еропкиным, но следит одного Волынского.
Ей впервые в этот день довелось наблюдать его в обществе дам. Как она заранее предана той, которой Волынской вздумал бы подарить своё расположение! Но она не может сыскать её.
Артемий Петрович слыл прекрасным кавалером, но, на глаза Налли, относился к дамам так же точно, как к другим приятным развлечениям в свободные часы – картам и биллиярду, позволяя себе увлекаться первым удовольствием не более чем двумя другими. Все, что могло иметь имя ветрености, порока, двуличия было ему противно. Ото всего что ни дышало чистосердечием и великодушием он отворачивался. Если Волынской и принуждал себя к осторожности, скрытности, лукавству – только для успехов на поприще государственной службы. Но и тут злокозненные хитрости и бесчестные приемы столько претили ему, что нередко терпеливо подлаживаясь к ним несколько времени, он вдруг, без всякой видимой для своих противников и соратников причины, давал волю негодованию. От этой причины Артемий Петрович почти не имел «нужных» друзей. Одевать личины на сердце, притворяться в его привязанности, он уж совсем не желал. «Фаворабельные» Миних и Эйхлер стали гостями Волынского оттого, что оба они, и второй – особенно, снискали его уважение, не были искательны к графу Остерманну – главному противнику всех его проектов.
Тут Налли вполне убедилась, сколь много подарило её провидение, позволив стяжать дружбу Артемия Петровича, на которую никогда не могла бы рассчитывать, будучи в дамском уборе – убогом или роскошном.
Красноречие Волынского было незаурядным и в соединение с другими достоинствами легко побеждало в баталиях самых разнообразных. Любуясь оживленною беседой его с Минихом, которого внимание он таки взял при помощи осады, Налли припомнила слышанные ею разговоры о том, как её патрон недавно был избран сторонниками брака принцессы Анны и принца Брауншвейгского, для переговоров с противящейся невестой. «Вы на то меня привели, что замуж иду за кого не хочу!» – встретила она его гневно, но через недолгое время настойчивостью, обходительностью и разумностью доводов побеждена была. Обещание отдать руку принцу и отказать сыну Бирона Петру принцесса дала, изъявляя уже более покорности, чем досады, и в благодарность получила от Волынского обещание научить её, как правильно ласкаться к семейству герцога, чтобы заручиться если не расположением его – сего после отклонения с ним породниться нельзя было предполагать – но хотя лояльностью.
Не был за тайну Налли и успех Волынского в переговорах с шахом Гуссейном, которого удалось ему склонить на сторону России. Победа сия была тем более знаменита, что одержавший её посланник был молод и неопытен, и доставлена она была более его талантом, чем иными причинами.
Лакеи принесли ломберные столы, и гости занялись модною тогда игрою в марьяж и квинтич. За одним из столов понтировал Волынской, за другим – друг его граф Платон Иванович Мусин-Пушкин. Игроки подкреплялись кофием, и не покидали радушного хозяина до поздней ночи.
* * *
«Здравствуйте, государыня матушка.
Вы просите оповестить вас о «правительствующих особах» и тем обнаруживаете свойство провинциального жителя, полагающего, что поместиться в одном городе уже достаточно для свойства с первыми персонами.
Я должна разрушить это мнение, как самое неверное, сообщением, что чин Фрола слишком незначителен, чтобы он мог сообщить вам что-либо, исключая имен и чинов тех лиц, что бывают в дому где он служит. В нем не бывает сильных столкновений, не услышать колких разговоров, не производится беспрерывной борьбы под покровом приличия и учтивости, как это часто происходит в самом высоком обществе. Посмотришь на него ближе – видишь, сквозь флер простой и прямой старины, изрядно и с большим вкусом изукрашенный модными блестящими нитями, нечто превышающее природу человеческую. Так, когда глядим в алтарь, прозреваем не только жертвенник, покров и, стоящие на них, священные предметы, но и величие, благость, нелицемерное правосудие, кротость. Я полагаю, матушка, вам не требуется указать причину сему, она для всякого очевидна, и потому, я не стану продолжать слова о доме и спущусь в сад. Он очень велик и вмещает в себя не только французский парк, но оранжереи, огород и плодовый сад. Та часть его, что не выходит на реку, служит излюбленным местом прогулок господину Волынскому, и прозвана им courtille (полисадник, маленький садик).
В тумане слез, печалями повитый
Я в этот сад вхожу, как в сон забытый
Не пеняйте мне за вирши, любезная матушка, до которых, помню, вы не охотница, но они приходят мне на мысль, при взгляде на, избавленные от снега, но еще не украшенные зеленью, ветки. Они спят еще, но готовы пробудиться, легко вздыхают и наполняют эфир чудным ожиданием. Вместе с ними, и я, будто жду, Бог весть чего. Нынешняя оттепель, очарованием своим, напоминает весну, которой, конечно, нельзя еще ожидать в начале февраля, и обманывает саму натуру. Померанцевые, лимонные, размариновые и иные обитатели оранжерей, оживают. Недавно, возвращаясь, подстриженными аллеями, в свое жилье, Фрол заметил опушившиеся почки вербы. Это радостное напоминание Светлого Праздника было столь трогательно, вечер так тих и пленителен, что Фрол, придя в какое-то упоение, не слыхал звука шагов, и был, внезапно, пробужден от грез своих голосом господина Волынского:
– В чистый понедельник уже и верба – как счастливо.
Фрол, быв потрясен необыкновенностью встречи с патроном своим с глазу на глаз, вместо ответа пробормотал какието слова, которых и сам не мог бы разобрать. Он признался мне, что был точно плененный – не мог ни бежать, ни твердо стоять на месте, и радовался сумраку, отчасти скрывавшему его смущение и трепет, которые овладели им столь сильно, что патрон мог отнести их на предмет какой-либо утаенной вины. Но и того, что можно было заметить, оказалось довольно, чтобы Артемий Петрович осведомился у братца «здоров ли и не терпит ли какой обиды»? Предоставляю вам самим, любезная матушка, по этому вопросу судить, сколько жалует господин Волынской Фрола, и сколько последний чувствовал признательности, которую и спешил выразить своему патрону.
На том их свидание кончилось, но с того дня, Фрол, более прочих дерев, насаженных в парке, полюбил ту вербу, рядом с которой говорил с Артемием Петровичем.
А близ нашего родного жилья, цветет ли она уже? Льщусь услыхать ответ ваш: «Да, и пышней обычного, к счастию всех обитателей его, не исключая и покорной дочери моей
Налли».
* * *
Подошла весна. Двор государыни по желанию её перебрался в Москву. Дом, подаренный по завещанию Фёдором Матвеевичем Апраксиным императору Петру II и прозывавшийся между жителями Петербурга «дворцом зимним» опустел. К новой зиме государыня распорядилась по-модному отделать его и заложить рядом ещё новый, соединённый с прежним покоем. Генерал-прокурор должен был следить за сею работою и поторапливать архитектора, ибо Растрелли весьма нуждался не только в исправном снабжении камнем, чугуном и прочими материалами, но и в неослабном внимании за их расходом, потому что порою не умел его сообразить.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































