Текст книги "Дело Саввы Морозова"
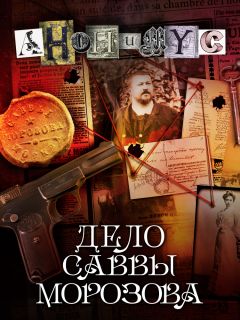
Автор книги: АНОНИМYС
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Значит, Немирович и Морозов были в ссоре? – задумчиво проговорил статский советник.
– В очень сильной. Савва Тимофеевич – человек самолюбивый и не привык, чтобы ему прекословили, а Немирович – человек искусства, и самолюбие у него еще более болезненное. А я стоял между ними и принимал удары с обеих сторон.
Станиславский вздохнул, потом с некоторым сомнением посмотрел на Нестора Васильевича. Видно, что он боролся с желанием сказать что-то еще, и в конце концов желание это побороло осторожность.
– Скажу больше, – режиссер понизил голос, как будто их могли подслушать, – Андреева права. Обстановка создалась настолько тяжелая, что в какой-то момент я действительно решил уйти. Решил создать что-то вроде студии новых театральных форм. Театр эксперимента, если хотите. Савва обещал меня в этом поддержать. Я даже набрал уже актеров и рабочий персонал, начались репетиции. Но тут у Саввы случилась болезнь…
Нестор Васильевич поднял брови. Болезнь? Что за болезнь? Станиславский объяснил, что речь идет о нервном заболевании. Как уже говорилось, Савва Тимофеевич очень эмоционален, по этой части иному актеру может дать фору сто очков вперед. Но эмоциональность его… как бы это помягче выразиться… Ну, словом, имеет наследственный характер и иногда выражается в несколько экстраординарных формах. Да об этом уже все говорят и даже в газетах пишут.
– Я, простите, московских газет не читаю, – отвечал статский советник.
Константин Сергеевич покачал головой: господин Загорский счастливый человек, а вот ему приходится читать все, в том числе и разные гадости, которые пишут про театр. Иной раз поражаешься глупости и злонамеренности людей, в частности разных там писак…
– Так что же говорят газеты о Морозове? – перебил его Нестор Васильевич.
Газеты говорят, что Савва Тимофеевич, увы, сходит с ума. Он практически недееспособен, его хотят лишить управления Никольской мануфактурой. Это очень, очень тревожная новость. Менее всего бы Станиславскому хотелось, чтобы его старинный товарищ и меценат, замечательный человек Савва Морозов оказался в желтом доме. Так или иначе, первые явные признаки болезни проявились еще в прошлом году, когда они создавали студию. Он сильно нервничал, быстро переходил от возбуждения к унынию, наконец охладел к делу совершенно и отказался от участия в нем…
В этот миг за дверью послышалась какая-то возня, крики: «Он занят!» и «Дело жизни и смерти!» – и дверь распахнулась настежь. В кабинете словно ураганом повеяло, и в следующую минуту ураган ворвался внутрь собственной персоной. Он имел наружность молодой еще шатенки с интересным и чрезвычайно подвижным лицом. Казалось, что по лицу этому беспрерывно прокатываются какие-то волны и оно ни на минуту не успокаивается. Глаза ее слепо – да, именно так, слепо, словно у горгоны Медузы после отрубания головы, – так вот, глаза эти шарили по кабинету, словно ища, кого бы превратить в камень. На миг они остановились на Загорском, и статский советник неожиданно почувствовал себя крайне неуютно. Но, видно, не найдя для себя в нем ничего интересного, женщина перевела взгляд на режиссера. Глаза ее вспыхнули ядовитым зеленым огнем и так ожгли Станиславского, что, будь на его месте человек менее закаленный, нет никаких сомнений, что он был бы немедленно испепелен и обратился в столбик дыма.
К счастью, Константин Сергеевич был опытным режиссером, и актеры окружали его с ранней юности, как, бывает, дрессировщика окружают львы и тигры даже в домашней обстановке. При этом он не только не боится их, но даже и в какой-то степени помыкает, заставляя делать то, чего они не хотят и что, напротив, очень хочется ему. Однако опыт нам подсказывает, что актеры подчас бывают куда опаснее львов и тигров и класть им голову в пасть не рекомендуется даже самым отчаянным театральным деятелям.
– Боже правый! – вскричала эксцентрическая барышня, возведя очи горе. – Я гибну! Пусть весь свет видит, как меня убивают на глазах у всех!
– Это наша актриса Андромаха Егоровна Цимпер, – представил ее Станиславский. – А это статский советник Нестор Васильевич Загорский.
– Да хоть бы и тайный, – неожиданно отвечала Андромаха Егоровна, которая, показалось Загорскому, пребывала в какой-то роли, – да хоть бы и три тайных советника! Приведите сюда хоть премьер-министра, вы меня этим не напугаете. Я служу искусству – а вы пытаетесь меня уничтожить!
Услышав такое, Нестор Васильевич навострил уши. Заметив это, Цимпер обратилась уже к нему напрямую.
– Боже милосердный, услышь меня! – возгласила она, протягивая руки к Загорскому. – Услышь и защити! Вели Пресвятой Деве накрыть меня своим защитным покровом, вели всему ангельскому воинству восстать и окружить меня неразрушимой стеной!
Загорский, в обход обычного порядка произведенный из статских советников прямо во вседержители, слушал актрису с большим вниманием.
– Это роль, – проговорил Станиславский, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. – Андромаха Егоровна репетирует роль… гм… гм… Регины из пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Прекрасная пьеса, скажу я вам, множество животрепещущих тем поднимается: коррупция в церкви, разврат, венерические заболевания, инцест и прочее тому подобное. Это нам Немирович ее посоветовал – очень, очень хорошая пьеса.
– Пьеса?! – закричала Цимпер. – Роль? Какая еще роль? В том-то и дело, что никакой роли нет! У меня отняли все роли, вы слышите, все!
– Я не думаю, что Нестору Васильевичу интересны будут наши производственные трудности, – торопливо сказал режиссер.
– Это не трудности, это прямое убийство, – отвечала Андромаха с трагическим видом. – В то время как я по вашему приказу репетирую для студии новых форм, все мои роли в Художественном театре отдаются другим. А потом студия закрывается, не открывшись, и я остаюсь на бобах!
– Вовсе нет, любезнейшая Андромаха Егоровна, ни на каких бобах вы не остаетесь, – возразил Станиславский, – у вас есть прекрасная роль Марины в спектакле «Власть тьмы».
Тут Цимпер захохотала замогильным голосом, каким, по ее разумению, должны были смеяться в пьесе Ибсена натуральные привидения или, может быть, даже древнеримские вакханки.
– Ах-ха-ха! – кричала она. – Ах-ха-ха-ха-а-а! Марина, вы говорите? Так ведь на Марину назначена Лилина, и как это вы могли забыть? Я говорила и тысячу раз повторю: меня извергли из театра, исторгли – и только потому, что я имела слабость пойти за вами в студию новых форм. Кто возместит мне убытки, кто покроет мои страдания, кто компенсирует мои нечеловеческие муки?!
Тут Станиславский каким-то особым образом прищурил глаз, лицо его враз переменилось, и Загорскому почудилось, что он сейчас тоже заговорит голосом какого-нибудь древнегреческого бога или даже, чем не шутит, самого Люцифера. Однако, покосившись на статского советника, он в последний момент, кажется, передумал. Лицо его разгладилось, сделалось обыкновенным, и он несколько устало проговорил:
– Андромаха Егоровна, прошу вас, голубушка, оставьте нас с господином Загорским. Обещаю вам, что вопрос ваш мы непременно решим и никто не останется в обиде…
Секунду Цимпер испытующе глядела на него, потом воскликнула:
– Смотрите же, вы поклялись! Поклялись всем самым святым, что есть на свете! Не обманите девушку, не обидьте сироту!
И, бросив кокетливый взгляд на Нестора Васильевича, вышла вон.
– Сирота, – с досадою проговорил Станиславский. – Девушка! Нет, для такого случая одно есть слово – актерка. Не подумайте чего плохого, я и сам актер, но это… Одно дело – театр, и совсем другое – жизнь. Вот, кстати сказать, Желябужская вела себя с Морозовым совершенно как актерка: мучила, терзала, морочила голову, а в конце и вовсе ушла к Горькому. Как знать, может быть, эта история и стал причиной того, что Савва Тимофеевич сейчас в таком тягостном состоянии… А впрочем, что говорить!
И он в полном огорчении махнул рукой. К его удивлению, Загорский не стал и дальше донимать его вопросами, лишь поблагодарил и, коротко попрощавшись, покинул кабинет. Глядя ему вслед, режиссер с горечью думал о том, что он, очевидно, устремился за Цимпер. Ладно бы ему просто понравилась барышня, это было бы еще полбеды. Но статский советник не произвел на Станиславского впечатления человека увлекающегося и безоглядного дамского угодника. Скорее всего, он решил и ее допросить. Можно себе представить, что сейчас наговорит ему обиженная Андромаха Егоровна. Нет человека более желчного и злоязычного, чем обиженный лицедей. И вот теперь Загорский, вместо того чтобы по старому доброму обычаю предложить госпоже Цимпер квартиру и содержание, будет допытываться, нет ли у них в театре революционной ячейки.
А впрочем, черт их знает, этих статских советников, мир совершенно сошел с ума и встал с ног на голову – чего стоит одна только война с японцами. Ведь обещали разгромить азиатов чуть ли не в один день, а бои уже второй год длятся, и не видать им ни конца и ни краю… Того и гляди половину труппы на войну заберут. Немирович полагал, что уже к началу сезона 1904–1905 годов выйдет Россия безусловным победителем, и попал, по своему обыкновению, пальцем в небо. Нет, пора это все заканчивать, иначе того и гляди придется заключать какой-нибудь позорный мир, а то и вовсе до капитуляции достукаемся.
В соображениях своих Константин Сергеевич был совершенно прав – и по части войны, и особенно по части Загорского. Нестор Васильевич устремился за Цимпер вовсе не из-за ее женских прелестей, и даже не актерская ее игра произвела на него впечатление. Он действительно хотел кое о чем с ней переговорить.
Результатом разговора он остался вполне доволен. Оказалось, что и кроме Андромахи Егоровны были люди, которым крайне не понравилось, что Морозов передумал оплачивать студию. У людей были серьезные планы, и планы эти вдруг обрушились, оставив кое-кого у разбитого корыта. Тут был повод поискать врагов Саввы Тимофеевича, и врагов непримиримых. Хотя некоторые полагают, что актеры – людишки жидкие и героические характеры могут представлять исключительно на сцене, Нестор Васильевич знал, что, во-первых, жидкость актеров несколько преувеличена, во-вторых, если сам не можешь чего-то сделать, всегда можно за умеренную плату нанять того, кто это сделает совершенно за милую душу.
Занеся в список всех, кто, по мнению Цимпер, оказался наиболее обиженным в результате лопнувшего театрального предприятия, Загорский откланялся. Андромаха Егоровна, ждавшая, кажется, от представительного статского советника беседы более содержательной, проводила его разочарованным взглядом.
Глава седьмая. Ночные гости
Тайный агент господина Загорского Вероника Станиславовна Шульц, она же Ника, пребывала в чрезвычайно дурном расположении духа. В самом деле, сначала дают задание, с которым она, по собственным словам Нестора Васильевича, прекрасно справляется, а потом отсылают обратно домой. Как прикажете это понимать?
Нет, сам Загорский объяснил это все очень убедительно: не хочет подвергать ее риску. Ну а сами-то они с его Газолином разве риску не подвергаются? И почему, скажите, ему своя шкура менее дорога, чем жизнь какой-то там девчонки с Хитрова рынка?
Можно было, конечно, плюнуть на все да и отправиться на квартиру, благо оплачена она была на месяц вперед. Но не таков характер настоящих секретных агентов – во всяком случае, не таков он был у Ники. Загорский отстранил ее от наружного наблюдения – что ж, попробуем наблюдение внутреннее. Ей уже было известно, что в последнее время Морозов редко выходит из дому, а если и выходит, то не один, а все время с кем-то. Значит, невелика вероятность, что его потревожат на улице. А вот если кто-то, скажем, проберется ночью в дом – это может прямо угрожать жизни миллионщика. Странно, что этого до сих пор никто не сделал…
Помня, что за домом Морозова следит теперь Ганцзалин, Ника дождалась ночи и, стараясь не попадать под фонари, обошла вокруг дома. Что ж, при определенной ловкости вполне можно вскрыть окна на первом этаже и тихо залезть внутрь. Преступнику оставалось бы только осмотреться на месте и обнаружить спальню Саввы Тимофеевича. Само собой, в доме есть слуги, но слуги ведь тоже люди и по ночам, вероятно, тоже спят. Таким образом, сколько ни следи снаружи, главная слабость всегда появляется внутри, в непосредственной близости…
Савва Тимофеевич тем временем даже и не подозревал, какой он подвергается опасности. Точнее сказать, подозревал, но не думал, что она может быть так близка. Он пребывал в настроении смутном и чрезвычайно раздраженном. Он и сам теперь понимал, что идея отдать Андреевой страховой полис на такую огромную сумму была дурацкой, если не сказать самоубийственной. Нет, конечно, сама Маша никогда в жизни не сделает ему ничего худого, да и Красин, он уверен, тоже. Но прав был Загорский, когда сказал, что, помимо них, есть в партии большевиков и совсем другие люди.
Но что же прикажете делать теперь – потребовать у Маши страховой полис назад? Нет, это совершенно невозможно. Этого не позволит его мужская и человеческая гордость, да ведь он действительно любил ее и только поэтому так поступил. Пусть она принадлежит теперь другому, его бывшему другу… Тут он поморщился, словно от зубной боли. И в самом деле, что за друг Алешка Пешков, он же писатель Алексей Максимович Горький? Как и почему он стал ему другом? Вероятно, так же, как и все остальные, из-за его миллионов. Это обижало Морозова и оскорбляло до глубины души. Неужели же сам по себе он ничего не значит? Вот был бы он, скажем, простым мещанином, а во всем остальном, за исключением денег, точно таким же – как смотрели бы на него люди, как с ним разговаривали? Ценили бы его точно так же, так же дорожили бы его мнением? Разумеется, нет. Но дело даже не в этом. Если бы родился он, как дед его, в простой крестьянской семье, смог бы он, как дед, подняться из низов, стать миллионщиком? Он-то, Савва, пришел на все готовое, на то, что создано было дедом Саввой Васильевичем и приумножено отцом Тимофеем Саввичем. Люди говорят, что он хороший хозяин и отличный управляющий. Но одно дело – управлять уже созданным, и совсем другое – создавать заново.
Впрочем, вопрос этот можно было бы решить на практике. Передать дела на мануфактуре другим директорам, самому ехать в те места, где его никто не знает, попробовать на ровном месте создать там что-нибудь. Вот вам и ответ будет, стоит ли он чего-то сам или нет.
С другой стороны, зачем ему это? Тратить драгоценные годы жизни, которой, вероятно, и так немного осталось, – для чего? Чтобы доказать, что ты что-то значишь помимо отца и деда, помимо мамаши, железной женщины, которой, собственно, и принадлежит вся Никольская мануфактура? Нет, нет, глупо это все, глупо, да и поздно. Как-то отяжелел он в последние годы, и ничто его уже не радует. Последний раз горел он вдохновением, когда создавали они с Немировичем и Станиславским Художественный театр, тогда еще Общедоступный. Вот это было дело – красивое, новое, благородное. И на эти же годы пришлась любовь его с Машей, Марией Федоровной Андреевой-Желябужской.
Но счастье было недолгим: годы шли, бежали, и счастье, как рыбка, ускользнуло между пальцами, и Маша ушла от него, и сам он ушел из театра. Теперь он чувствовал себя никчемным, опустошенным, больным чувствовал и старым, хотя от роду было ему всего сорок три года.
Да-с, господа, верно говорят: у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий. Скажи рабочему с его мануфактуры, что директор Савва Тимофеевич Морозов несчастлив в жизни, ведь ни за что не поверит. Бедный человек обычно думает, что, попади ему в руки миллион, он тут же сделается счастливым, не понимая, разумеется, что у миллионщиков свои несчастья, которые, может быть, переживают они сильнее, чем оглушенные суровой судьбой бедолаги.
Мануфактур-советник сидел в кабинете за столом, спиной к двери и невидяще глядел в застывшую за окном бархатную ночь. Отвлеченный потоком печальных мыслей, он не услышал, как за спиной его осторожно открылась дверь, и не увидел, как в кабинет бесшумно вступил высокий человек в темном пальто с лицом, до половины закрытым снизу черным шарфом. Дверь кабинета за собой человек не закрыл, так и оставил полуоткрытой, через нее сейчас зияла из коридора внешняя тьма.
Постояв секунду на пороге, незваный гость тихо шагнул вперед. Под ногой его скрипнула половица.
– Зина? – Морозов повернул голову, но не увидел привычных пышных очертаний. – Зинуша, это ты?
Он крутанулся на кресле, которое вращалось вокруг своей оси, как круглые стулья пианистов, и наконец увидел темного пришельца. Тот стоял неподвижно в двух шагах от Саввы Тимофеевича, глядел на него застывшим взглядом.
– Вы кто? Что вам нужно? – Мануфактур-советник пытался было встать, но его пригвоздил к стулу голос темного.
– Сидеть, – прошипел тот.
Настольная электрическая лампа освещала часть комнаты, страшный гость замер в тени, словно боялся, что свет испепелит его, как ночного упыря. Наконец он слегка пошевелился, сделал шаг, и Савва Тимофеевич увидел, как в руке его блеснуло длинное лезвие.
Предательский холодок пополз по спине Морозова. Браунинг лежал у него в ящике стола, на расстоянии вытянутой руки. Однако, чтобы взять его, нужно было повернуться к темному человеку спиной и оказаться на пару секунд совершенно беззащитным. Однако бросаться на противника с голыми руками тоже было нельзя. Нож в опытных руках – страшное оружие, дающее врагу подавляющее преимущество, и никакой боксинг тут не поможет.
– Что вам нужно? – повторил Морозов. – Деньги? Они в столе. Я сейчас достану…
Однако наивная его уловка не удалась. Он не успел и двинуться с места, как темный шагнул к нему и упер в его горло нож. Холодная сталь оледенила не кожу, а само сердце Саввы Тимофеевича, парализовала волю его и ум. Оказывается, жизнь была ему очень дорога. Оказывается, он вовсе не готов был умереть прямо сейчас.
– Открывай ящик, – велел темный, свободной рукой придерживая мануфактур-советника за ворот. – Но медленно… Медленно…
Повинуясь змеиному голосу, Савва Тимофеевич медленно выдвинул ящик. Из глубин его сверкнул под лампой хромированным блеском браунинг. Рука Морозова скользнула к спасительному оружию, но темный оказался быстрее – ударил врага рукояткой ножа по затылку. В голове у Морозова зазвенело, он повалился на пол.
– Ах ты, сука… – прошипел темный, – укокошить меня хотел! Так я же сам тебя укокошу!
Сквозь туман в глазах увидел Савва Тимофеевич, как нагнулся к нему враг, как заблестел в руке его нож. Ну вот, подумалось ему, вот и решение всех его печалей и страхов. Как неожиданно и, главное, как глупо.
– Стой! – как сквозь вату услышал он звонкий мальчишеский голос. – Стой, Шило! На мокруху уговора не было!
– Отвянь, – с угрозой в голосе отвечал ужасный Шило, – он грохнуть меня хотел, в столе шлепалку прячет.
– Сказано – нет, значит, нет, – в голосе мальчишки прозвучала неожиданная сталь.
– Ты это мне? – с удивлением переспросил Шило. – Да я тебя…
Бандит выпрямился, но мальчишка оказался шустрее. Лежа на полу, увидел Морозов, как невысокий щуплый паренек змеей ускользнул от удара и сам коротко полоснул Шило по руке. Тот сдавленно взвыл. Мальчишка отскочил назад, принял оборонительную позицию. Воровской шабер погуливал у него в кулаке, переходил из одной руки в другую.
– Да ты… меня… – Шило морщился от боли и зажимал раненую руку.
– Не замай, – с угрозой проговорил паренек, – попишу!
– Ладно, сопля вавилонская, еще встретимся. – И темный стремительно, словно тень, выбежал из кабинета.
Мальчишка проводил его взглядом, несколько секунд стоял неподвижно, словно ждал, что враг вот-вот вернется обратно. Потом наконец выдохнул, расслабился, утер дрожащей левой рукой пот со лба. Посмотрел на лежащего на полу Савву Тимофеевича.
– Как ты, дядя? Живой?
– Как будто живой, – после некоторой паузы отвечал Морозов. – Но точно сказать не могу. Помоги подняться…
Паренек кивнул, спрятал нож под рубашку, подошел к Морозову, протянул ему маленькую, но крепкую руку. С помощью нежданного спасителя мануфактур-советник добрался до кресла и с облегчением опустился в его мягкие недра.
– Фу, – сказал он, – аж в глазах двоится.
– Это да, – согласился мальчишка. – Рука у Шила тяжелая, он и убить с одного удара может.
С минуту оба молчали. Савва Тимофеевич понемногу приходил в себя, парнишка просто стоял и смотрел на него.
– Тебя как зовут? – морщась от боли, спросил наконец Морозов.
– Никанором люди кличут, – с некоторой преувеличенной важностью отвечал парень.
– А меня – Савва Тимофеевич, – улыбнулся мануфактур-советник.
– Тоже ничего, – одобрил мальчишка.
Морозов смотрел на него внимательно: выходит, ты мой спаситель? Никанор пожал плечами: выходит, так.
– А как же ты тут оказался посреди ночи?
Никанор снова пожал плечами: да так и оказался – вместе с Шилом пришел. Шило сказал, что есть козырной фраер, возьмем – деньгами зальемся. Ну, он и согласился. Морозов только головой покачал – получается, Никанор вместе с Шилом его грабить пришли?
– А чего делать-то, третий день не жрамши, – рассудительно отвечал парнишка. – Живот подведет, еще и не на такое пойдешь.
– А зачем тебя Шило на дело взял, такого субтильного? Сам, что ли, справиться не чаял?
Мальчишка нахмурился. Во-первых, не субтильный он, а жилистый. Во-вторых, ловкий очень. Дверь незаметно вскрыть, в фортку пролезть – это его специальность воровская. А Шило у них на случай, если силу показать надо: грабануть, прибить – и все в таком роде.
Ну, это-то понятно, кивнул Морозов, непонятно другое – почему Никанор вдруг решил его спасти?
– Не вдруг, – солидно отвечал Никанор. – Мы, когда с Шилом сговаривались, уговор был такой: хабар берем, но без мокрухи. А когда Шило за шабер взялся, тут я и смекнул, что самая мокро́та и начинается. А мне это без интереса. За мокрое дело могут в каторгу сослать, да так, что как раз в ящик-то и сыграешь. Да и душегубом быть не хочу, другая моя специальность. Отец Паисий говорил, что, коли человека убьешь, потом уже грех не отмолишь. Все, говорил, можно отмолить, кроме как если малолетнего снасильничаешь и человека убьешь.
– А кто это, отец Паисий?
– Есть у нас один такой на Хитровке. Бывший диакон, теперь, говорит, «по воровской части подвизаюсь», – басом заокал парнишка, растягивая гласные.
– Правильные вещи говорит твой отец Паисий, хоть и перешел из диаконов в жулики, – заметил Савва Тимофеевич и задумался. – Что же мне с тобой теперь делать, брат Никанор?
– Не знаю, – покачал головой Никанор. – Назад на Хитровку мне нельзя, Шило дюже злой теперь, пришьет без разговоров.
Мануфактур-советник коснулся ноющего затылка, поморщился от боли: на голове вспухала ощутимая шишка.
– Болит? – с пониманием спросил мальчишка. – Это ничего, надо компресс из уксуса приложить. А если нет уксуса, водка тоже подойдет. Можно и половинку сырой картохи на башку пристроить или, к примеру, перетереть лук с солью.
– Ты, я гляжу, знаток по синякам да шишкам, – усмехнулся Савва Тимофеевич. – Откуда такие премудрости знаешь?
– Жизнь научит, – басовито и солидно отвечал Никанор.
– Ладно, – сказал Морозов, думая о чем-то своем, – ладно.
Размышлял он недолго, с минуту наверное. Потом решил, что утро вечера мудренее. Пусть тогда Никанор эту ночь проведет у него дома, отведем ему комнатку и постель, а там видно будет. Только на всякий случай для верности придется запереть его снаружи, а то уж больно он ловок по чужим домам шастать.
– Что есть, то есть, – не без гордости согласился мальчишка. – Запирайте, только слово дайте, что фараонам меня не выдадите. Я человек хитровский, фартовый, у них с такими разговор короткий.
Морозов обещал фараонам его не выдавать и сам отвел успокоенного мальчишку в его комнату.
– Эх, шик, – пробормотал Никанор, оглядывая вполне приличную комнату для прислуги. – И сколько же здесь народу-то живет?
Савва Тимофеевич отвечал, что ранее здесь жил его мальчишка-камердинер Васятка. Однако Васятка вырос и захотел жениться, пришлось отпустить. Так что сейчас тут будет жить один Никанор. Во всяком случае, до завтрашнего дня. А там видно будет.
* * *
На следующее утро после завтрака мануфактур-советник вызвал к себе Никанора. Тот явился пред ясные очи хозяина. Он был чисто умыт, каштановые вихры прилизаны, голубые глаза преувеличенно честно глядели на Морозова.
– Ну, – сказал Морозов, благожелательно глядя на мальчишку, – сколько же тебе лет?
– Сколько дадите, ваше благородие! – бойко отвечал тот.
Савва Тимофеевич усмехнулся: да ему нужно действительный возраст знать, чтобы бумаги Никанору выправить. Эти слова вызвали испуг мальчишки: какие такие бумаги, не нужны ему никакие бумаги! Всю жизнь без бумаг прожил, не оскоромился, и дальше так же будет. Человек он фартовый, свободный, а с бумагами его любой и всякий поймать может. Бумаги хорошо рабочим иметь, мещанам, ну и всякому дворянскому благородию, само собой, а ему, Никанору, они без надобности. Все равно что собаке пятая нога. Или даже шестая.
– Я про бумаги не просто так разговор завел, – отвечал ему Савва Тимофеевич. – Ты, я смотрю, парень смышленый, бойкий. А у меня как раз камердинера нет. Хочешь быть моим камердинером?
Никанор глядел настороженно. Это как надо понимать, что барин говорит – сурьезно или шуткует для увеселения собственной душеньки?
– Какое там увеселение, – отвечал мануфактур-советник, – я с тобой деловой разговор веду. Сколько бы ты хотел, чтобы я тебе жалованья платил?
Никанор помозговал немного, неслышно шевеля губами и загибая пальцы, потом объявил, что меньше пяти целковых он не возьмет.
– Пять целковых? – переспросил Морозов. – Это в месяц, что ли?
– Да уж знамо, не в год, – отвечал парнишка солидно.
Мануфактур-советник только хмыкнул.
– Ладно, – сказал он. – Платить тебе буду тридцать рублей, как рабочему на своей мануфактуре.
Никанор так и замер на месте, только ресницами моргал часто.
– Это что же такое, – сказал он, как бы не веря ушам, – это выходит, тридцать целковых в месяц?
– Да уж знамо, не в год, – передразнил его Морозов.
– А шамовка? – спросил Никанор, понижая голос.
– Еда, крыша над головой и одежда – все за мой счет.
Парнишка только головой покрутил: ну, барин, умеете вы уговаривать. Тут уж, как говорится, только дурак откажется.
– Ну и славно, – кивнул мануфактур-советник. – Только давай условимся: не зови меня барин, зови просто Савва Тимофеевич.
Никанор кивнул: как прикажете, хозяин – барин. В смысле: хозяин – Савва Тимофеевич. Вот только у него тоже будет одна просьбишка: не нужно ему бумаги выправлять. Да и какие ему бумаги, ему ведь пока всего четырнадцать. А уж как исполнится положенный возраст, тогда и о бумагах можно будет подумать.
Морозов сказал, что этот вопрос они решат, а теперь они с его дворецким Тихоном пускай отправляются в магазин и подберут Никанору одежду. Услышав такое, Никанор побледнел. Зачем же с Тихоном, пробормотал мальчишка, он и сам может выбрать, ему бы только денег немного в счет будущей оплаты…
– Сказал же, еда, кров и одежда – все бесплатно, – перебил его Савва Тимофеевич. – Это раз. Второе, сам ты нужную одежду не выберешь, потому что не знаешь, как должен выглядеть камердинер. Так что поступай под начало к Тихону – и в магазин.
Тихон был огромный могучий человек, способный, кажется, ударом кулака сбить с ног не только быка, но и небольшого слона или бегемота. На Никанора он смотрел настороженно, что-то бормотал в том духе, что вот, дескать, если каждого шаромыжника брать на службу, то вскорости вся собственность улетучится, как дым. Никанор, впрочем, не слушал его вовсе, а напряженно думал о чем-то своем.
И действительно, тут было о чем подумать. Все дело в том, что Никанор был, конечно, не Никанор никакой, а тайный агент Загорского Ника Шульц, которая сейчас действовала не по его заданию, а по собственной инициативе. Когда Нестор Васильевич отстранил ее от расследования, она на свой страх и риск разработала план проникновения в дом к Морозову.
К делу своему она привлекла безобиднейшего попрошайку Иваныча, имевшего, правда, несколько мефистофельский вид, который был усилен черным пальто и черным же шарфом на физиономии, из-под которого сверкали огненные демонические глаза Иваныча. Он, как всякий почти попрошайка, имел недурные артистические способности и легко мог изобразить налетчика и даже убийцу.
Спрашивается, почему же она не взяла натурального грабителя, которых на Хитровке было пруд пруди? А именно потому и не взяла, что настоящий налетчик мог увлечься и начать грабить дом по-настоящему, а это в ее планы совершенно не входило. Иваныч же был весьма доволен пятью рублями, которые она ему посулила за все предприятие. Правда, когда узнал, что для правдоподобия, может быть, придется полоснуть ему по руке ножом, попросил возвысить гонорар до десяти рублей – так сказать, за физический ущерб.
– Так это же тебе только на руку, – сказала Ника, – увечному больше подают.
Но Иваныч был с ней не согласен.
– Э, нет, – сказал он. – Мне если занадобится рана или шрам, так я гримом обойдусь, а полосовать себя просто так, за бесплатно – держи карман шире.
Ника, видя, что стоит он на своем твердо, со вздохом доложила еще пять рублей, округлив, таким образом, сумму гонорара до десяти. Зато представление вышло на славу, очень натуральное, и шишка у Морозова получилась совершенно настоящая, и, главное, удалось втереться к купцу в доверие.
И вот теперь все предприятие оказалось на грани провала.
Впрочем, с нижним бельем все вышло более или менее. Расторопный приказчик в галантерейной лавке, не касаясь клиента руками, обмерил ее бедра, скромную, практически невидимую еще грудь и плечи. На миг на лице его появилось озадаченное выражение, но Ника нарочито грубым голосом спросила:
– Что ж, нет у вас подходящего размера? Так мы в другую лавку пойдем.
Приказчик заторопился, залебезил, стал рыскать по магазину и, разумеется, немедленно нашел подходящие размеры.
Еще проще вышло с обувью. Тут уж никаких проблем не было вовсе, хотя ступни у Ники оказались меньше, чем у обычного юноши ее роста, и более узкими. Ну, тут она просто взяла что пошире, снаружи все равно не видать, что нога в ботинке ходит свободно, – главное, чтобы мозолей не натерло.
А вот со штанами, пиджаком, рубашками и ливреей дело оказалось гораздо сложнее. Пока Тихон сам отбирал все это, Ника лишь покорно кивала, со страхом думая, что делать, если он пройдет за ней в примерочную. Тут ее камуфляжу и конец!
И действительно, когда она, нагруженная ворохами одежды, отправилась в примерочную, за ней следом затопал Тихон. Эх, мать честная, ну что ты будешь делать?!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































