Текст книги "Огонь (сборник)"
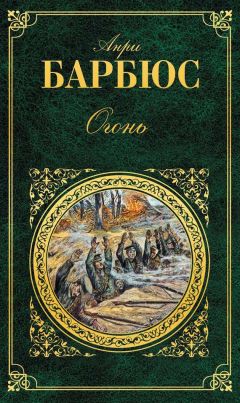
Автор книги: Анри Барбюс
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Так по мере сил, разумения, энергии, возможности и смелости каждый изворачивается, стараясь бороться с чудовищными неудобствами. Каждый показывает себя и словно говорит: «Вот все, что я сумел, смог, посмел сделать в страшной беде, в которую попал».
Мениль Жозеф дремлет, Блер зевает. Мартро уставился в одну точку и курит. Ламюз чешется, как горилла, а Эдор – как мартышка. Вольпат кашляет и ворчит: «Я подохну». Мениль Андрэ вынул зеркальце и гребенку и холит свою шикарную каштановую бороду, словно редкостное растение. Однообразная тишина то тут, то там прерывается приступами неистового волнения, вызываемого повсеместным, неизбежным, заразительным присутствием паразитов.
Барк – парень наблюдательный; он обводит всех взглядом, вынимает изо рта трубку, плюет, подмигивает и говорит:
– Ну и не похожи мы друг на друга!
– А с чего нам быть похожими? – отвечает Ламюз. – Это было бы чудом.
* * *
Наш возраст? Мы все разного возраста. Наш полк – резервный; его последовательно пополняли подкрепления, – то кадровые части, то ополченцы. В нашем полувзводе есть запасные из ополчения, новобранцы и солдаты среднего возраста. Фуйяду сорок лет. Блер мог бы быть отцом Бике, новичка призыва 13-го года. Капрал называет Мартро «дедушкой» или «старым отбросом», смотря по тому, шутит он или говорит серьезно. Мениль Жозеф, если бы не война, остался бы в казарме. Забавное зрелище, когда нас ведет сержант Вижиль, славный мальчуган с пушком над губой; на днях, на стоянке, он прыгал через веревочку с ребятами. В нашей разношерстной компании, в этой семье без семьи, у очага без очага, объединены три поколения; они живут, ждут, цепенеют, словно бесформенные истуканы, словно дорожные столбы.
Откуда мы? Из разных областей. Мы явились отовсюду. Я смотрю на соседей: вот Потерло, углекоп из шахты Калоин: он розовый; брови у него соломенно-желтые, глаза васильковые; для его крупной золотистой головы пришлось долго искать на складах эту каску, похожую на огромную синюю миску; вот Фуйяд, лодочник из Сетта; он бешено вращает глазами; у него длинное худое лицо, как у мушкетера, и впалые щеки. Действительно, они не похожи друг на друга, как день и ночь.
Кокон, тощий, поджарый, в очках, с лицом, изъеденным испарениями больших городов, тоже резко отличается от Бике, неотесанного серого бретонца с квадратной челюстью, тяжелой, как булыжник; Андрэ Мениль, внушительный фармацевт из нормандского городка, краснобай, с отличной пушистой бородой, совсем не похож на Ламюза, мордастого крестьянина из Пуату, толстяка, у которого щеки и затылок вроде ростбифа. Жаргон долговязого Барка, исходившего весь Париж, смешивается с почти бельгийским певучим говором северян, попавшим к нам из 8-го полка, со звонкой раскатистой речью ребят из 144-го полка, с наречием овернцев из 124-го полка, которые упрямо собираются в кучки среди чужаков, словно муравьи, притягивающие друг друга…
Я еще помню первую фразу весельчака Тирета, – представившись, он сказал: «Ребята, я из Клиши-ла-Гаренн! А вы чем можете похвастать?» – и первую жалобу Паради, которая способствовала его сближению со мной: «Они с меня смеются, потому что я с Морвана[3]3
Горная область в центре Франции.
[Закрыть]…»
Чем мы занимались? Да чем хотите. Кем мы были в ныне отмененные времена, когда у нас еще было какое-то место в жизни, когда мы еще не зарыли нашу судьбу в эти норы, где нас поливают дождь и картечь? Большей частью земледельцами и рабочими. Ламюз – батраком, Паради – возчиком; у Кадийяка, детская каска которого, как говорит Тирет, торчит на остром черепе, словно купол колокольни, есть своя земля. Дядя Блер был фермером в Бри. Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, словно кур, на проспектах и площадях. Капрал Бертран, который держится всегда в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом, был рабочим в мастерской футляров. Тирлуар красил автомобили и, говорят, не ворчал. Тюлак держал маленькое кафе у заставы дю Трон, а добродушный бледный Эдор – кабачок у дороги, недалеко от теперешнего фронта; его заведению, конечно, здорово досталось от снарядов: как известно, Эдору не везет. Мениль Андрэ, еще довольно опрятный и причесанный, торговал в аптеке на площади содой и непогрешимыми патентованными средствами; его брат Жозеф продавал газеты и иллюстрированные романы на станции железной дороги; далеко, в Лионе, очкастый Кокон, человек-цифра, облачившись в черную блузу, весь в ржавчине, хлопотал за конторкой скобяной лавки, а Бекюв Адольф и Потерло с самой зари при свете тусклой лампочки, своей единственной звезды, добывали уголь в шахтах на Севере.
Есть и другие; чем они занимались, не упомнишь; их смешиваешь одного с другим; есть деревенские бродячие мастера на все руки, не говоря уже о подозрительном Пепене: у него, наверно, не было никакого ремесла. (Мы только знаем, что три месяца тому назад, после выздоровления в лазарете, он женился… чтобы получить пособие, установленное для жен мобилизованных.)
Среди нас нет людей свободных профессий. Учителя обыкновенно – унтер-офицеры или санитары. В полку брат-марист – старший санитар при полевом госпитале; тенор – ординарец-самокатчик при военном враче; адвокат – секретарь полковника; рантье – капрал, заведующий продовольствием в нестроевой роте. У нас нет ничего подобного. Все мы – настоящие солдаты; в этой войне почти нет интеллигентов – артистов, художников или богачей, подвергающихся опасности у бойниц; они попадаются редко или только в тех случаях, когда носят офицерское кепи.
Да, правда, все мы разные.
И все-таки мы друг на друга похожи.
Несмотря на различие в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, несмотря на все пропасти, разделявшие нас, – мы в общих чертах одинаковы. Под одной и той же грубой оболочкой мы скрываем или обнаруживаем одни и те же нравы, одни и те же привычки, один и тот же упрощенный характер людей, вернувшихся в первобытное состояние. Одна и та же речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная, как соусом, словообразованиями, объединяет всех нас в единую толпу, которая уже давно приходит со всех концов Франции и скопляется на северо-востоке.
Связанные общей непоправимой судьбой, сведенные к одному уровню, вовлеченные, вопреки своей воле, в эту авантюру, мы все больше уподобляемся друг другу. Страшная теснота совместной жизни нас гнетет, стирает наши особенности. Это какая-то роковая зараза. Солдаты кажутся похожими один на другого, и, чтобы заметить это сходство, даже не надо смотреть на них издали: на расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по равнине.
* * *
Ждем. Надоедает сидеть; встаешь. Суставы вытягиваются и потрескивают, как дерево, как старые дверные петли. От сырости люди ржавеют, словно ружья, медленней, но основательней. И сызнова, по-другому, принимаемся ждать.
На войне ждешь всегда. Превращаешься в машину ожидания.
Сейчас мы ждем супа. Потом будем ждать писем. Но всему свое время: когда поедим супу, подумаем о письмах. Потом примемся ждать чего-нибудь другого.
Голод и жажда – сильные чувства; они мощно действуют на душевное состояние моих сотоварищей. Суп запаздывает, и они начинают злиться и жаловаться. Потребность в пище и питье выражается ворчанием:
– Время уже восемь. Куда это запропастились харчи?
– А мне как раз со вчерашнего дня, с двенадцати часов жрать хочется, – буркает Ламюз. Его глаза увлажняются от голода, а щеки багровеют, словно их мазнули краской.
С каждой минутой недовольство растет.
– Плюме, наверно, опрокинул себе в глотку мою флягу вина, да еще и другие; нализался и где-нибудь свалился пьяный.
– Определенно, и наверняка, – подтверждает Мартро.
– Мерзавцы! Вши проклятые, эти нестроевые! – рычит Тирлуар. – Ну и поганое отродье! Все до одного пропойцы и бездельники! Лодырничают по целым дням в тылу и не могут даже поспеть вовремя. Эх, был бы я хозяином, послал бы я их всех в окопы на наше место, и пришлось бы им попотеть! Прежде всего я бы приказал: каждый во взводе по очереди будет поваром. Конечно, кто хочет… и тогда…
– А я уверен, – орет Кокон, – что это сукин сын Пепер задерживает других. Он делает это назло, да и не может утром продрать глаза, бедняга! Он должен проспать непременно десять часов в своей блошатой постели! А то этому барину целый день будет лень рукой шевельнуть!
– Я б им показал! – ворчит Ламюз. – Будь я там, они б у меня живо повскакали с постели! Я бы двинул их сапогом по башке, схватил бы их за ноги…
– На днях, – продолжает Кокон, – я высчитал: он ухлопал семь часов сорок семь минут, чтобы добраться сюда с тридцать первого пункта. А на это пяти часов за глаза довольно.
Кокон – человек-цифра. У него страсть, жадность к точным числам. По любому поводу он старается добыть статистические данные, собирает их, как терпеливый муравей, и преподносит их всем, кто хочет его послушать. Сейчас он пускает в ход цифры, словно оружие; его сухонькое личико – сочетание углов и треугольников с двойным кольцом очков – искажено злобой.
Он становится на ступеньку для стрельбы, оставшуюся с тех времен, когда здесь была первая линия, и яростно высовывает голову поверх бруствера. При свете косых холодных лучей поблескивают стекла его очков, и капля, висящая на кончике носа, сверкает, как алмаз.
– А Пепер?! Ну и ненасытная утроба! Прямо не верится, сколько кило жратвы он набивает себе в брюхо за один только день!
Дядя Блер «кипит» в своем углу. Его седоватые свисающие усищи, похожие на костяную гребенку, дрожат.
– Знаешь. Там на кухне все они дрянцо на дрянце. Их зовут: «На чёрта, Ни черта́, Ни хрена́ и Компания».
– Форменное дерьмо, – убежденно говорит Эдор и вздыхает. Он лежит на земле с полуоткрытым ртом; у него вид мученика; тусклым взглядом он следит за Пепеном, который снует взад и вперед, словно гиена.
Негодование против опаздывающих все возрастает.
Тирлуар-«ругатель» изощряется вовсю. Он сел на своего конька и чувствует себя в своей стихии. Он подзадоривает товарищей:
– Добро б еще дали что-нибудь вкусное. А то ведь опять угостят какой-нибудь пакостью.
– Эх ребята, а какую падаль дали нам вчера. Нечего сказать… Куски камня! Это у них называется бифштексом? Скорее старая подметка. У-ух! Я сказал ребятам: «Осторожней! Жуйте медленней, а то сломаете клыки: может быть, сапожник забыл вынуть оттуда гвозди!»
В другое время эта шутка Тирета, если не ошибаюсь, бывшего устроителя кинематографических гастролей, нас бы рассмешила, но сейчас все слишком взбешены, и она вызывает только общий ропот.
– А чтобы мы не жаловались, что жратва слишком жесткая, дадут, бывало, вместо мяса чего-нибудь мягкого: безвкусную губку, пластырь. Жуешь, словно кружку воды пьешь, вот и все.
– Да, это, – говорит Ламюз, – неосновательная пища; не держится в брюхе. Думаешь, насытился, а на деле у тебя в кассе пусто. Вот мало-помалу и подыхаешь: пухнешь с голоду.
– Следующий раз, – в бешенстве восклицает Бике, – я добьюсь разрешения поговорить с начальником, я скажу: «Капитан!..»
– А я, – говорит Барк, – объявлюсь хворым и скажу: «Господин лекарь…»
– Жалуйся или нет, все одно ничего не выйдет. Они сговорились выжать все соки из солдата.
– Говорят тебе, они хотят нас доконать!
– А водка?! Мы имеем право получать в окопах водку, – ведь это проголосовали где-то; не знаю где, не знаю когда, – но знаю, что мы торчим здесь вот уже три дня, и три дня нам ее только сулят.
– Эх, беда!
* * *
– Несут! – объявляет солдат, стороживший на повороте.
– Наконец-то!
Буря жалоб и упреков сразу стихает, как по волшебству. Бешенство внезапно сменяется удовлетворением.
Трое нестроевых, запыхавшись, обливаясь потом, ставят на землю фляги, бидон из-под керосина, два брезентовых ведра и кладут круглые хлебы, нанизанные на палку. Прислоняются к стенке траншеи и вытирают лицо платком или рукавом. Кокон с улыбкой подходит к Пеперу и вдруг, забыв, что осыпал его заочно ругательствами, протягивает руку к одному из бидонов, целая коллекция которых привязана к поясу Пепера, наподобие спасательного круга.
– Что ж нам дадут пожевать?
– Да вот это, – уклончиво отвечает помощник Пепера.
Он по опыту знает, что объявлять заранее меню – значит, вызывать горькое разочарование.
И, еще отдуваясь, он начинает жаловаться на длинный, трудный путь, который сейчас пришлось проделать:
– Ну и народу везде! Видимо-невидимо! Яблоку некуда упасть! Прямо арабский базар! Чтоб протолкаться, приходилось сплющиваться в листик папиросной бумаги… А еще говорят: «Служит на кухне, значит, «окопался»… Так вот, по мне, уж в тысячу раз лучше торчать вместе с ротой в окопах, быть в дозоре или на работах, чем заниматься вот этим ремеслом два раза с сутки, да еще ночью!
Паради приподнял крышки бидонов и осмотрел содержимое.
– Бобы на постном масле, суп и кофеек. Вот и все.
– Черт их дери! А вино? – орет Тюлак.
Он созывает товарищей:
– Эй, ребята! Погляди-ка! Безобразие! И вина уже не дают!
Жаждущие сбегаются со всех сторон.
– Тьфу ты, хреновина! – восклицают они, возмущенные до глубины души.
– А в ведре-то что? – ворчит нестроевой, еще весь красный и потный, тыча ногой в ведро.
– Н-да, – говорит Паради. – Ошибка вышла, вино есть.
– Эх ты, раззява! – говорит нестроевой, пожимая плечами, и смотрит на него с невыразимым презрением. – Надень очки, чертова кукла, если не видишь как следует!
И прибавляет:
– По четвертинке на человека… Может быть, чуть-чуть поменьше: меня толкнул какой-то олух в Лесном проходе, вот и пролилось несколько капель… Эх, – спешит он прибавить, повышая голос, – не будь я так нагружен, дал бы ему пинка в зад! Но он смылся на всех парах, скотина!
Несмотря на это решительное утверждение, он сам осторожно сматывается; его осыпают проклятиями, сомневаются в его честности и умеренности: всем обидно, что паек уменьшился.
Все набрасываются на пищу и начинают есть стоя, или на коленях, или присев на корточки, или примостившись на бидоне или на ранце, вытащенном из ямы, где они спят, или повалившись прямо на землю, уткнувшись спиной в грязь, мешая проходить, вызывая ругань и отругиваясь. Если не считать этой перебранки и обычных словечек, которыми они изредка перекидываются, все молчат; они слишком заняты поглощением пищи; рот и подбородок у них вымазаны маслом, как ружейные затворы.
Они довольны.
Как только работа челюстей приостанавливается, все начинают отпускать сальные шутки. Все наперебой орут, чтобы вставить свое словечко. Даже Фарфадэ, щуплый служащий из мэрии, улыбается, а ведь первое время он держался среди нас так благопристойно и одевался так опрятно, что его принимали за иностранца или выздоравливающего. Расплывается в улыбке и красномордый Ламюз; его рот похож на помидор; его радость источает слезы; расцветает, как розовый пион, лицо Потерло; дрожат от удовольствия морщины Блера; он встал, вытянул шею и движется всем коротким тощим тельцем, которое как бы служит придатком к огромным свисающим усам; проясняется даже сморщенная жалкая мордочка Кокона.
* * *
– А кофей! Подогреть бы его, а? – спрашивает Бекюв.
– На чем? Дуть на него, что ли?
Бекюв, любитель горячего кофе, говорит:
– Дайте, уж я это сварганю. Подумаешь, большое дело! Соорудите только печурку и решетку из штыковых ножен. Я уж знаю, где найти дрова. Наколю щепок ножом: хватит, чтоб разогреть котелок. Увидите!
Он идет за дровами.
В ожидании кофе все свертывают папиросы или набивают трубки.
Вынимают кисеты. У некоторых кожаные или резиновые кисеты, купленные у торговца. Но таких мало. Бике вытаскивает табак из носка, завязанного веревочкой. Большинство пользуется мешочком от противогазовой маски, сделанным из непромокаемой ткани: в нем отлично можно хранить «перло» или «легкий» табак. А некоторые просто-напросто выскребывают курево из кармана шинели.
Собравшись в кружок, курильщики харкают у самого входа в землянку, где помещается большая часть полувзвода, и слюной, желтой от никотина, загаживают то место, куда упираются руками и коленями, когда влезают или вылезают.
Но кому какое дело до таких мелочей?
* * *
Мартро получил письмо от жены. Речь зашла о продуктах.
– Моя хозяйка мне написала, – говорит Мартро. – Знаете, сколько теперь стоит у нас хорошая, жирная живая свинья?
… Внезапно обсуждение экономического вопроса превращается в яростный спор между Пепеном и Тюлаком.
Они обмениваются увесистыми отборными ругательствами.
В заключение один говорит другому:
– Да наплевать мне на то, что ты скажешь или не скажешь! Заткнись!
– Заткнусь, если захочу, балда!
– А вот я тебе заткну глотку кулаком!
– Кому? Кому? Мне?
– А ну, а ну!
Они брызжут слюной, скрежещут зубами и наступают друг на друга. Тюлак сжимает свой доисторический топор, его косые глаза мечут молнии. Пепен, бледный, зеленоглазый, с хулиганской мордой, явно подумывает о своем ноже.
Они пронзают друг друга взглядами и рвут на части словами. Вдруг между ними появляется миротворная рука величиной с голову ребенка и налитое кровью лицо: это Ламюз.
– Ладно, ладно! Не станете же вы калечить друг друга! Так не годится!
Другие тоже вмешиваются, и противников разнимают. Из-за спин товарищей они все еще бросают друг на друга свирепые взгляды.
Пепен пережевывает остатки ругательств и желчно, неистово кричит:
– Жулик, хулиган, разбойник! Погоди, я тебе это припомню!
А Тюлак говорит стоящему рядом солдату:
– Этакая гнида! Нет, каково? Видал? Знаешь, право слово: здесь приходится иметь дело со всякой швалью. Как будто знаешь человека, а все-таки не знаешь. Но если этот хочет меня испугать, нарвется! Погоди, на днях я тебя отделаю, увидишь!
Между тем беседа возобновляется и заглушает последние отголоски ссоры.
– И так вот каждый день! – говорит Паради. – Вчера Плезанс хотел дать в морду Фюмексу, уж не знаю за что, из-за каких-то пилюль опиума. То один, то другой грозится кого-нибудь укокошить. Здесь все звереют, ведь мы и живем, как звери.
– Народ несерьезный! – замечает Ламюз. – Прямо дети.
– А еще взрослые!
* * *
Время идет. Сквозь туманы, окутывающие землю, пробилось немного больше света. Но погода по-прежнему пасмурная, и вот пошел дождь. Водяной пар расползается клочьями и оседает. Моросит. Ветер опять веет огромной мокрой пустотой, и его медлительность приводит в отчаяние. От тумана и капель воды тускнеет все, даже тугие кумачовые щеки Ламюза, даже оранжевый панцирь Тюлака, и гаснет в нашей груди радость, которой преисполнила нас еда. Пространство сужается. Над землей, над этим полем смерти, нависает поле печали – небо.
Мы торчим здесь и бездельничаем. Трудно будет убить время, дотянуть до конца дня. Дрожим от холода, переходим с места на место, топчемся, словно скот в загоне.
Кокон объясняет соседу расположение сети наших траншей. Он видел общий план и произвел вычисления. В месте расположении нашего полка пятнадцать линий французских окопов; из них одни брошены, заросли травой и почти сровнялись с землей; другие глубоки и битком набиты людьми. Эти параллельные линии соединяются бесчисленными ходами, которые извиваются и запутываются, как старые улицы. Сеть окопов еще гуще, чем мы думаем, живя в них. На двадцать пять километров фронта одной армии приходится тысяча километров вырытых линий: окопов, ходов сообщения и других траншей. А французская армия состоит из десяти армий. Значит, около десяти тысяч километров окопов с французской стороны и столько же с немецкой… А французский фронт составляет приблизительно восьмую часть всего фронта войны на земном шаре.
Так говорит Кокон и в заключение обращается к соседу:
– Видишь, как мало мы значим во всем этом…
У Барка бескровное лицо, как у всех бедняков из парижских предместий, козлиная рыжая бородка и хохолок на лбу в виде запятой; он опускает голову.
– Правда, как подумаешь, что один солдат и даже несколько – ничто, даже меньше, чем ничто, вдруг почувствуешь себя совсем затерянным, затонувшим, словно капелька крови в этом океане людей и вещей.
Барк вздыхает и замолкает, и в тишине слышится отрывок рассказываемой вполголоса истории:
– … Он привел двух коней. Вдруг дз-з-з! Снаряд! Остался только один конь…
– Скучно, – говорит Вольпат.
– Ничего, держимся, – бормочет Барк.
– Приходится, – прибавляет Паради.
– А зачем? – с сомнением спрашивает Мартро.
– Да так: нужно.
– Нужно, – повторяет Ламюз.
– Нет, причина есть, – говорит Кокон. – Вернее, много причин.
– Заткнись! Лучше б их не было, раз приходится держаться.
– А все-таки, – глухо говорит Блер, никогда не упуская случая повторить свою любимую фразу, – они хотят нас доконать.
– Сначала, – говорит Тирет, – я думал о том о сем, размышлял, высчитывал; теперь я больше ни о чем не думаю.
– Я тоже.
– Я тоже.
– А я никогда и не пробовал.
– Да ты не такой дурень, как кажешься! – говорит Мениль Андрэ пронзительным насмешливым голосом.
Собеседник втайне польщен; он поясняет свою мысль:
– Первым делом – ты не можешь ничего знать.
– Надо знать только одно: у нас, на нашей земле, засели боши, и надо выкинуть их вон и как можно скорей, – говорит капрал Бертран.
– Да, да, пусть убираются к чертовой матери! Спору нет! Чего там! Не стоит ломать себе башку и думать о другом. Только это уж слишком долго тянется.
– Эх, чтоб их черти драли! – восклицает Фуйяд. – Действительно, долго.
– А я, – говорит Барк, – я больше не ворчу. Сначала я ворчал на всех, на тыловиков, на штатских, на местных жителей, на «окопавшихся». Да, я ворчал, но это было в начале войны, я был молод. Теперь я рассуждаю здраво.
– Здраво рассуждать – это терпеть; как есть, так и ладно!
– Еще бы! Иначе спятишь. И так мы обалдели. Верно я говорю, Фирмен?
Вольпат в знак согласия убежденно кивает головой; он сплевывает и внимательно разглядывает свой плевок.
– Ясное дело! – говорит Барк.
– Тут не стоит доискиваться. Надо жить изо дня в день, если можно, даже из часа в час.
– Правильно, образина! Надо делать, что прикажут, пока не разрешат убираться по домам.
– Н-да, – позевывая, говорит Мениль Жозеф.
Загорелые, обветренные, запыленные лица выражают одобрение; все молчат. Это явно чувство людей, которые полтора года назад явились со всех концов страны и собрались на границе. Это отказ понимать происходящее и отказ быть самим собой; это надежда не умереть и борьба за то, чтобы прожить как можно лучше.
– Приходится делать, что велят, да, но надо выкручиваться, – говорит Барк и, медленно прохаживаясь взад и вперед, месит грязь.
* * *
– Конечно, надо, – подтверждает Тюлак. – А если ты не выкрутишься сам, за тебя этого не сделает никто. Будь благонадежен!
– Еще не родился такой человек, который бы позаботился о другом.
– На войне каждый за себя!
– Ну конечно!
Молчание. И вот среди всех лишений эти люди вызывают сладостные образы прошлого.
– А как в Суассоне одно время хорошо жилось! – говорит Барк.
– Эх, черт!
В глазах появляется отсвет потерянного рая; он озаряет лица, посиневшие от холода.
– Не житье, а масленица! – мечтательно вздыхает Тирлуар; он перестает чесаться и смотрит вдаль, поверх насыпи.
– Эх, накажи меня бог, весь город почти пустовал и в общем был в нашем распоряжении! Дома, постели!..
– И шкафы!
– И погреба!
У Ламюза даже слезы выступили на глазах, расцвело все лицо и защемило сердце.
– А вы долго там оставались? – спрашивает Кадийяк, который прибыл сюда позже с подкреплениями из Оверни.
– Несколько месяцев…
Почти утихшая беседа оживает при этих воспоминаниях о временах изобилия.
Паради говорит, словно во сне:
– Наши солдаты шныряли по дворам; бывало, возвращаются на постой, под мышкой у них по кролику, а к поясу кругом привешаны куры: «позаимствовали» у какого-нибудь старикана или старухи, которых никогда в глаза не видели и не увидят.
Все вспоминают позабытый вкус цыпленка и кролика.
– Случалось кое за что и платить. Денежки тоже плясали. В ту пору мы были богаты.
– В лавках оставляли сотни тысяч франков!
– Мильоны! Каждый день так швыряли деньгами, что и представить себе не можешь. Сущий праздник, как в сказке!
– Верь не верь, – говорит Блер Кадийяку, – но при всем этом богатстве, везде, где мы только ни проходили, трудней всего было достать огонь. Приходилось его искать, находить, покупать. Эх, старина, пришлось нам побегать за огнем!
– А мы стояли там, где нестроевая рота. Поваром был толстяк Мартен Сезар. Вот был мастер добывать дрова!
– Да, молодец! Чего там, он знал свое дело.
– У него на кухне всегда был огонь, всегда. По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля; а у нашего всегда был огонь. Если случалось, что ни черта больше нет, он говорил: «Не беспокойся, я уж выкручусь». И в два счета все было готово.
– Можно сказать, он иной раз даже перебарщивал. Первый раз, когда я его увидел на кухне, знаешь, чем он растапливал печку для варева? Скрипкой, – он нашел ее где-то в доме.
– Все-таки безобразие, – говорит Мениль Андрэ. – Скрипка хоть не очень-то полезная вещь, а все-таки…
– Иной раз он пускал в ход бильярдные кии. Нашему Зизи едва-едва удалось спереть один кий, чтобы смастерить себе палку. Все остальное пошло в огонь. Потом потихоньку отправили туда же и кресла из красного дерева. Он их рубил и распиливал по ночам, чтоб какой-нибудь начальник не заметил.
– Ну и штукарь! – говорит Пепен. – А мы пустили в ход старую мебель; нам хватило ее на две недели.
– То-то у нас ничего и нет! Надо сварить суп – ни черта: ни дров, ни угля. После раздачи стоишь дурак дураком перед кучей дерьмовой говядины, а ребята над тобой смеются, да еще потом обругают. Как же быть?
– Такое уж ремесло! Мы не виноваты.
– А начальники не ругались, когда кто-нибудь хапал?
– Они сами тащили, да еще как! Демэзон! Помнишь, какую штуку выкинул лейтенант Вирвен? Высадил топором дверь винного погреба! Один наш солдат увидел, ну, лейтенант подарил ему эту дверь на растопку, чтобы парень не разболтал.
– А бедняга Саладен, офицер по продовольственной части? Его встретили в сумерки: выходит из подвала, а в каждой руке по две бутылки белого вина. Будто кормилица с четырьмя сопляками. Ну, его накрыли; ему пришлось спуститься обратно в эту бутылочную шахту и раздать всем по бутылке. А вот капрал Бертран – строгих правил: не захотел пить. Помнишь, сосиска ходячая?
– А где теперь тот повар, что всегда добывает топливо? – спрашивает Кадийяк.
– Помер. В его котел попал «чемодан». Сам Мартен не был ранен, он умер от потрясения, когда увидел, что его макароны задрали ноги и полетели вверх тормашками. Лекарь сказал: «Пазмы сердца». У него было слабое сердце; он был силен только по части дров. Похоронили его честь честью. Гроб сделали из паркета; плитки сколотили гвоздями, на которых висели картины; вбили кирпичом. Когда повара несли на кладбище, я думал: «Его счастье, что он умер: ведь если б он это видел, он никогда не простил бы себе, что не додумался пустить на растопку паркет». Этакий ловкач!
– Наш брат солдат выкручивается, как может; на товарища ему наплевать. Скажем, ты отвиливаешь от работы в наряде, или хватаешь кусок получше, или занимаешь местечко поудобней, а от этого другим плохо приходится, – философствует Вольпат.
– Я часто выкручивался, чтоб не идти в окопы, – говорит Ламюз, – и не помню уж, сколько раз мне удавалось отвертеться. Сознаюсь. Но когда ребята в опасности, я не отлыниваю, не выкручиваюсь. Тут я забываю, что я военный, забываю все. Тут для меня только люди, и я действую. Зато в других случаях я думаю о собственной шкуре.
Это не пустые слова: Ламюз – мастер по части увиливания; тем не менее он спас жизнь многим раненым, подобрав их под обстрелом.
Он объясняет это без хвастовства:
– Мы все лежали в траве. Боши здорово палили. Трах-тах-тах! Бац, бац!.. Дззз, дззз!.. Вижу: несколько ребят ранено, я встаю, хоть мне и кричат: «Ложись!» Не могу ж я их оставить. Да в этом и нет никакой заслуги: я не мог поступить по-другому.
Почти за всеми солдатами из нашего взвода числятся высокие воинские подвиги; у каждого кресты за храбрость.
– А я не спасал французов, зато хватал бошей, – говорит Бике.
Во время майских атак он бросился вперед; он исчез и вернулся с четырьмя немцами.
– А я их убивал, – говорит Тюлак.
Два месяца тому назад он уложил в ряд перед взятой траншеей девять немцев.
– Но больше всего я ненавижу их офицеров.
– А-а, сволочи!
Этот крик вырвался у всех сразу, из глубины души.
– Эх, старина, – говорит Тирлуар, – вот толкуют, что немцы – погань. А я не знаю, правда это или и тут нас морочат; может быть, их солдаты такие же люди, как и мы.
– Наверно, такие же люди, как мы, – говорит Эдор.
– Как сказать! – кричит Кокон.
– Во всяком случае нельзя знать точно, каковы солдаты, – продолжает Тирлуар, – зато уж немецкие офицеры!.. Ну, это не люди, а чудовища. Это особая погань, верно тебе говорю, старина. Можно сказать: это микробы войны. Ты бы поглядел на них вблизи: ходят, точно аршин проглотили, долговязые, тощие, будто гвозди, а головы у них телячьи.
– А у многих змеиные.
– Я раз как-то возвращался из наряда, – продолжает Тирлуар, – и встретил пленного. Вот падаль! Это был прусский полковник, говорят, с княжеской короной и золотым гербом на ремнях. Пока его вели по траншее, он все орал: как смели его задеть по дороге! И на всех он смотрел сверху вниз. Я сказал про себя: «Ну, погоди, голубушка, ты у меня попляшешь!» Я выждал удобную минуту, изловчился и со всей силы дал ему пинка в зад. Так он, знаешь, повалился на землю и чуть не задохся.
– Задохся?
– Да, со злости: он понял, что случилось, а именно, что по его офицерской, дворянской заднице саданул простым сапогом, подбитым гвоздями, простой солдат. Он завыл, как баба, и забился, как припадочный.
– Я не злой, – говорит Блер. – У меня дети, и мне жалко резать дома даже свинью знакомую, но этакого гада я б охотно пырнул штыком – у-ух! – прямо в пузо!
– Я тоже!
– Да еще не забудьте, – говорит Пепен, – что у них серебряные каски и пистолеты, за которые всегда можно выручить сотню монет, и призматические бинокли, которым цены нет. Эх, беда! Сколько я упустил удобных случаев в начале войны! В ту пору я был балдой. Так мне и надо! Но будьте благонадежны, уж я добуду серебряную каску. Слушай, накажи меня бог, когда-нибудь добуду. Я хочу не только шкуру, но и добро Вильгельмова золотопогонника. Будьте благонадежны: я сумею это раздобыть до конца войны!
– А ты думаешь, война кончится? – спрашивает кто-то.
– А то нет? – отвечает другой.
* * *
Вдруг справа от нас поднимается шум; появляется толпа людей; темные фигуры перемешаны с цветными.









































